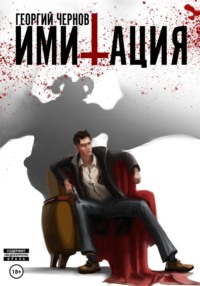Loe raamatut: «Имитация»
«И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть».
Леонид Андреев
I
Есть такое странное убеждение, которое лично мне всегда казалось глупостью, что якобы перед смертью, в самые последние мгновения перед ней, вся прожитая жизнь обязательно проносится перед глазами, как бы давая тебе что-то переосмыслить. Так вот, все это не более чем собачья чушь. Чья-то идиотская выдумка. В конце концов, кто из вас может похвастаться тем, что хотя бы раз умер? Не можете. Зато я могу. И нет, свою жизнь перед глазами я вижу лишь теперь, когда понимаю, что навечно закован в горящие цепи, рвущие своей тугой хваткой мою обреченную плоть. Именно в такой ситуации, как мне кажется, и хочется подвести какой-то итог, провести ретроспективу.
В момент же смерти не было мне никаких откровений, света в конце тоннеля, Божьего Суда, архангелов и чего бы вы там еще себе ни напридумывали. Нет, сначала все было идеально – точно так, как и мечтал всегда мой скорбный разум: беспросветная, тугая пелена тьмы. С самого детства это желание преследовало меня, репейником вцепившись в мой ум – желание забвения всего, что существует вокруг. Забвения самого моего сознания. Я не хотел видеть ни Рая, ни Ада, ни, прости Господи, Чистилища. Какой бы ни была реальность, горящий внутри меня максимализм просто хотел, чтобы ее вообще не было. И все же, когда я умирал, сжав в руках нож, которым только что перерезал глотку ублюдку, перерезавшему мне мою, то чувствовал эйфорию. Лучшие мгновения моей жизни длились, возможно, лишь в те несколько секунд, когда я перестал существовать.
Хотя, вы знаете, один момент все же стоит уточнить: свет после смерти я видел, да. Правда был то не божественный свет, а грязная, мигающая лампочка, освещавшая заплеванный подвал с облупившейся зеленой краской и плесенью, гуляющей по штукатурке. Большего разочарования и представить трудно. В общем, как вы уже, наверное, догадались, а может и нет – подвал не был Адом, и уж тем более не был Раем. Это был обыкновенный грязный, плесневелый подвал, воняющий собачьим дерьмом и мочой. Подвал, в котором меня воскресили. Точнее даже будет сказать не «воскресили» – это не совсем корректно по отношению ко мне. «Сымитировали» – вот верное слово. Так они это называют. Меня сделали игрушкой на поводке. Безвольным упырем. Хотя, если подумать, безвольным себя сделал уже я сам.
После смерти мне всегда казалось, что Сатана выбрал меня еще с того самого момента, как я нанес на автомат свою первую засечку, и что уже тогда Его рука лежала на моем плече, крепко вцепившись в него кривыми когтями. Не знаю, почему я так думал – причины на то у него были и раньше. Впрочем, я никогда не видел Его и не знаю, какие у Него когти, есть ли они вообще. Все, что знаю, так это то, что с каждой засечкой на цевье и прикладе я становился ближе к Нему, хоть сам того и не понимал. Это неизбежно, когда тобой движет ненависть. А если подумать, именно за этим я на войну и шел: умереть и унести с собой как можно больше таких же жаждущих смерти дураков.
Однако сейчас, когда вспоминаю глаза своих сослуживцев, полные страха и лишенные надежды, мне приходит осознание того, что даже на войне я оставался одинок в своем стремлении. Никто не хотел умирать. Даже та мразь, что резала мое горло. Это было видно в его остекленевших глазах, в его застывшей от ужаса гримасе. И то, что после смерти не встретилось мне почти ни одного из них среди слуг Его – коллекторов или исполнителей, – дает мне определенную надежду. Надежду на то, что Господь все-таки есть, хоть и не суждено мне было его увидеть. И, наверное, не увидеть мне его уже никогда. А я бы многое хотел ему сказать. Спросить. Жаль, что осознание этого желания пришло ко мне так поздно.
Впрочем, мне хватает вопросов и к самому себе. Это хорошо, с учетом того, что ближайшую вечность мне, за неимением здесь других собеседников, придется изливать свою душу перед самим собой и воображаемой публикой из Голосов в голове. И вот первый мой вам вопрос, Голоса: неужели все, ради чего было ниспослано на эту планету мое бренное существо, это смерть? Если учесть, что убивать я начал еще с того момента, как родился – моя мать умерла при родах, – вывод сделать нетрудно. Мир не хотел принимать меня, уже в тот момент увидев, что я из себя представляю. Но тогда была еще во мне, видимо, тяга к жизни, хоть и не было в мягкой младенческой голове даже намека на сознание. Тяга к жизни животная, инстинктивная, а потому эгоистичная и смертоносная для окружающих – на тот момент для моей матери.
Спустя время за ней отправился и мой отец, вскрыв себя опасной бритвой. Именно там, сидя в ванной комнате на холодном и красном от крови кафеле и слушая вытекавшую за край теплую воду, я впервые узнал, что у меня внутри – красное, всепоглощающее нечто, текущее промеж всеобъемлющей пустоты. Мне, ребенку с богатым воображением, тогда казалось почему-то, что я ракушка, полная крови, и рано или поздно она когда-нибудь вся вытечет из меня, оставив снаружи лишь пустой панцирь, прислонив к уху который ты услышишь, как из той ванны бесконечно льется красная вода. Но это так, к слову. Даже не знаю, почему я вспомнил это. Однако это забавно – то, как работает детское сознание. При чем здесь, в конце концов, ракушка? Да, впрочем, это и не важно.
Посмотрев в мои глаза, все родственники, один за другим, отказались брать опекунство над, вероятно, ментально больным ребенком, оставив мне единственный путь – детдом. И если смерть отца подарила мне холодное бесчувствие, то детский дом наградил ненавистью и омерзением. Осваиваться там долго не пришлось, и уже очень скоро я влился в новый социум. Точнее сказать, мне быстро стало все равно на происходящее вокруг, и настолько, что даже постоянные издевательства и наказания были мне абсолютно безразличны. Взгляды, звуки – все проходило сквозь меня, кружилось вокруг свирепым ураганом, а я стоял и смотрел на это, словно через стекло аквариума, сотканного из моего равнодушия.
Было бы лукавством с моей стороны сказать, что я совершенно ничего не помню. Хотелось бы мне стереть это все из памяти, и так оно и происходит, ведь я давно начал постепенно забывать лица и имена, однако помнятся еще размытые силуэты, рвущиеся сквозь подступающий туман забвения: пара дурацких картинок из учебника по английскому языку, которые я разрисовывал ручкой от скуки, удары по пальцам указкой, товарищи, нюхающие клей в запертой подсобке. К слову о них: эти чудаки зачем-то часто сбегали, перелезая через расшатанную часть деревянного забора, которую приколачивали каждую зиму, а сам я при этом не сбегал ни разу, даже зная, что могу сделать это совершенно легко. Не сбегал потому, что не видел разницы между миром здесь и миром там, за оградой. Один воспитатель, имени которого не помню, сказал мне как-то раз, что я как собака, не различающая цветов и видящая все только в черно-белых тонах. В этом утверждении я усомнился еще тогда, ведь тот факт, что собаки различают только два цвета – миф, а сам я видел только один – серый.
Другие же дети, которых я позволил себе зачем-то назвать товарищами, росли поодаль от меня. Все, что с ними происходило, я видел, как уже говорил, сквозь стекло то ли океанариума, то ли зверинца. Они прыгали, как обезьяны, сверкали своими полными подлой злости глазами, шипели на меня, скаля острые зубы, а я лишь смотрел и изучал. Не то чтобы мне это было интересно. Скорее любопытно, но чисто гносеологически, словно то был не детский дом, а кишащий жизнью муравейник. Я смотрел, как воспитатели стремительно превращали их в послушных цепных псов по всем принципам тоталитарной секты. Нас, детей, гноили, ломали, зомбировали. В этих условиях мне помогло выжить изначальное отсутствие какой-либо воли. А вот другим повезло меньше: еще имевших в зачатках тягу к жизни и свободе, к совершеннолетию их окончательно превратили в безвольные, податливые куски мяса, обреченные на пожизненную ангедонию – неспособность чувствовать радость.
В какой-то момент мне стукнуло восемнадцать, и детский дом ушел из моей жизни, но не ушли вместе с ним мои страдания. Для людей, подобных мне, вообще никогда и ничего не меняется. Моя жизнь – это колесо, в котором бесконечно крутится мое бренное тело.
Поступить я никуда не смог, провоцируя приемную комиссию своим почти полным отсутствием необходимых знаний и каменной замкнутостью, зачастую заставляя их переходить чуть ли не на мат. Единственная моя дорога теперь лежала в то место, где все должно было встать на круги своя. И да, я говорю об армии. Я говорю об отбитой кирзовыми сапогами голове, выбитой селезенке и разбитом в пыль чувстве собственного достоинства.
Помню, как сидел в районном военкомате, ковыряя ботинком отклеившийся кусок дешевого линолеума, и с кучей таких же мудаков ждал своей очереди к комиссару. Зайдя в его тесный кабинет, я сразу почувствовал запах дешевого табака и перегара, смешавшегося с приторным запахом затхлых сапог. Старый усатый хрен долго нес какую-то чушь про то, что с моим здоровьем меня либо отправят в ракетные, либо вообще отпустят, но он нагло соврал: через пару месяцев я уже полумертвый валялся в сушилке, плюясь кровью на чьи-то сапоги. Так прошло мое посвящение в разведроту. Точнее сказать, первое мое наказание за нарушение какого-то выдуманного правила, о котором я даже не знал и до сих пор не знаю. Правда, о службе в армии я совершенно не жалею. Неужели можно жалеть об очередном пустом моменте жизни, когда твоя жизнь в целом не имеет других? Однако этот этап отличало от прочих то, что впоследствии именно здесь я получил те навыки, которые помогали мне до сих пор. Я вышел оттуда униженный, покалеченный, но озлобленный и обученный убивать.
А как вы думаете, что чувствует дембель, когда наконец ощущает на своей коже первый бриз долгожданной свободы, сходя на перрон родного города? Я вот, к сожалению, даже не представляю: на своем перроне мне чуть не посчастливилось подраться с каким-то алкашом, а дома меня встретила опечатанная кем-то дверь. Как оказалось позже, директор детского дома, пока я был в армии, сдавал мою квартиру всяким торчкам на пару дней, чтобы им было где колоться и пороть друг друга. К чему это привело догадаться нетрудно: один из них в припадке принял своего дружка-придурка за демона. Дружок-придурок решил подыграть и закономерно получил кусок разбитого стекла в глотку. Директора на тот момент активно судили, а я остался без квартиры.
Разбираться с этим у меня времени не было, а жить, пока идет следствие, где-то надо. Проблему я решил просто и с учетом доступных мне средств – абсолютно наплевательски. Мне пришлось ночевать в таких местах, что Геенна, чешущая теперь мои ноги алым языком, кажется мне вариантом не хуже. Дешевые клоповники, подвалы, притоны. В общем, если посмотреть на мой путевой паспорт через ультрафиолет, то можно неприятно обомлеть. И, учитывая это, не удивительно, что я завел в такой среде не самые благоприятные знакомства. Хотя и совсем неблагоприятными их назвать язык не поворачивается: благодаря им в совсем скором времени я уже мало в чем нуждался. В роскоши я, во всяком случае, не нуждался вовсе: мне достаточно было места, где я смогу свободное время проводить в одиночестве, разбавляя его, разве что, возможно, компанией какой-нибудь макулатурной книжонки, и новая работа сполна мне это позволяла. Заниматься приходилось чем придется: собирать и выбивать долги, убивать, кого скажут, продавать, что скажут, громить то, на что укажут. В общем, грех жаловаться, ведь мои таланты, раскрытые в армии, нашли свое применение на практике.
Однако хорошего понемножку, и тут стоит сделать небольшую ремарку: вся моя память о предсмертной жизни состоит из множества квадратов, словно шахматная доска, на которой черные квадраты – это глубокие ямы абсолютного неведения, а белых и вовсе нет – одно серое месиво. Когда я пытаюсь вспомнить что-то из тех времен, когда еще был жив, неизменно натыкаюсь на брешь, словно обрывается пленка на старой кассете. Именно поэтому я не помню, что конкретно случилось дальше. Помню лишь последствия: что-то гнало меня, и я бежал от этого, куда глаза глядят. Бежал на войну. И вот войну я помню очень хорошо.
И что же такое война? Учитывая, сколько было сложено песен, написано книг, создано фильмов, сколько воспето сторон этой многоликой гадины с неженским лицом, можно заключить, что война – это не что иное, как избитость и пошлость. Непревзойденная, ненужная, но такая уже родная и знакомая всем и каждому. Настолько знакомая, что вы даже можете попытаться угадать, что именно я сейчас скажу. Война – это ужасное чудовище с кривыми зубами? Смертоносный вихрь из мечей и пламени, сметающий жизнь за жизнью? Несущий разрушение ужасный Левиафан, созданный по ошибке Господом нашим? А может я скажу, что я люблю войну? Люблю за то, что понятно, где враг, а где друг? Проблема в том, что мне насрать. Все, чего я хотел – это смерть и забвение. И это тоже банально, избито и пошло. Как и все, что было сказано до, и как, возможно, будет сказано после.
Впрочем, именно здесь, в этой пошлости, и лежит, как мне кажется, ключ ко всему. Именно здесь, с этого момента моего повествования, я вижу первое противоречие своего искалеченного сознания. Переходя от вопроса про мое естество и природу, которым я задался вначале, мы натыкаемся на второй вопрос: если я бежал от какой-то смертельной угрозы на войну, то зачем тогда так яростно пытался на ней умереть? Ответ на этот вопрос дается мне уже труднее. Я не помню причины своего побега, но зато отчетливо помню, как бросался под пулеметный огонь, как сломя голову бежал через минное поле, всегда рвался в тыл врагу. Я желал смерти так рьяно, что иногда казалось, будто где-то уже слышен ее холодный голос, будто чувствуется ее мечевидный язык на моей шее. Но смерти не было дела до меня, как не было никому и никогда. Только мне начинало казаться, что я ухватил подол ее белоснежного платья, как она кокетливо выскальзывала из рук моих, скрывалась, уходила к другим, оставляя за собой раскроенные черепа, разорванную плоть и вывернутые осколками наизнанку тела. Довольно смешно в этом признаваться, но я обижался. Ревновал. Неужели я был недостоин?
Можно было, безусловно, убить себя самому. Эта мысль приходила мне не раз, но я тотчас же отталкивал ее подальше. И дело даже не в грехе, не в моральной стороне такого поступка. Это меня совершенно не волновало, как и говорилось ранее. Для меня самоубийство было чем-то сродни онанизму. Но если онанизм это всего лишь альтернатива половому акту, коих после этого может быть еще множество, то смерть это раз и навсегда. Смерть нельзя выбрать. Это Его подарок тебе. Последний мерзкий подарок перед тем, как ты поймешь, что все это не имеет никакого значения – ни жизнь, ни смерть. Вот ты умер, вот снова жив, а вот ты снова погружаешься в рутину, тонешь в ней, как свинья в куче говна, а потом опять умираешь. И опять живешь. Снова и снова.
Несмотря на все, от войны я все же получал удовольствие: предвкушал каждую новую вылазку в тыл, каждый новый летящий в меня штык-нож. Любил я в ней абсолютно все: и трястись в кузове грязного грузовика, полного потных ублюдков, ползти животом по сырой земле, пропитанной кровью, бежать сквозь лес по летнему зною, едва не падая от тянущей мертвым грузом вниз ненужной экипировки. Все это давало мне ощущение, что скоро это закончится – вот я уже готов упасть тяжелым мешком, раствориться в земле, превратившись в гной. Собственно, поэтому меня считали психом абсолютно все. Хоть я и справлялся с любой задачей, что мне давали, не любили меня даже мои командиры.
Иногда ротный, поломанный и измученный еще прошлой войной, смотрел на меня непонимающим взглядом, полным отвращения, и спрашивал: «Чего ты вообще добиваешься? Сдохнуть хочешь?». Этот мудак посвятил всего себя войне, не зная ничего, кроме нее. Он ждал этого момента всю свою жизнь – момента, когда наконец возьмет автомат не для того, чтобы стрелять по мишеням, а чтобы наконец убить, забрать чью-то жизнь. Побитый, изуродованный изнутри и снаружи, он спрашивал меня, хочу ли я сдохнуть, да так, будто это что-то постыдное, неправильное. Даже он, абсолютно аморальный и пустой человек, не понимал меня! Даже он, когда шальная пуля вспорола его брюхо, обнажив и вывалив наружу все нутро, молился, стонал и чуть не плакал. Хотя стоит отдать ему должное – до плача не дошло. Он сдержал слезы, видимо оставив на это последние свои силы. Абсолютно неразумная и глупая трата, как я тогда подумал, но, возможно, кто-то это оценил посмертной медалькой.
Свои же последние силы я потратил, чтобы улыбнуться. Здравствуй, долгожданная смерть! Здравствуй, умиротворяющая пустота! И, наконец, здравствуй, новая жизнь и смертельное разочарование! Своей дороги домой я не помню, хотя догадываюсь, что она была, как и у всех, в цинке. Первым классом, все включено. Меня скатили с самолета, похоронили со всеми почестями, будто закопали гнилое полено, криво нацарапали на деревянном кресте мое имя и с чувством исполненного долга удалились, скрипнув железным забором. Я, конечно, все это придумал, но мне довелось видеть свою могилу. Они даже фамилию неправильно написали. Кстати, странное это чувство – стоять на месте, где был похоронен, видеть там свои инициалы, представлять, как тебя поспешно опускают вниз, чтобы быстрее закопать следующего. Это был первый раз, когда я посмотрел на себя со стороны. Осознал, что умер. Точнее, осознал, что снова живу.
А вот начиная с того самого подвала я помню уже все. Каждый миг этой поганой жизни, каждый свой вздох, все чаще с болью отдающийся в сердце, заставленном биться через силу. Ровно четыре дня мой имитатор и будущий напарник Кирилл соединял мою плоть, возвращал душу в мое бренное тело. И это было мучительнее, чем боль перед смертью. Я до сих пор ощущаю ее, и, видимо, буду ощущать оставшуюся вечность моих мучений. С того самого дня я старался не умирать, чтобы не повторить этот опыт, хоть это и не всегда получается. Я мог себе это позволить, как многие упыри и делали: отдаться во власть наслаждений, умирать и восставать снова, чтобы наполнять свой грязный рот всеми смертными грехами сразу, начиная с чревоугодия и заканчивая прелюбодеянием, ведь душе все равно уже не спастись. Но если платой за это было снова испытать эту боль, то я пас. Тем более, меня это мало интересовало.
Когда я наконец восстал, то неделю пытался привыкнуть к своим собственным ногам. Я не мог ходить, не мог самостоятельно есть. Ах да, если вы думали, что став упырем, ты будешь непобедим, как уберсолдат, то ошибаетесь: мой организм требует ровно того же, что и обычный человеческий. Душа моя, запертая в клетке Сатаны, бессмертна, но тело – напротив. Единственное, что может мое тело – это не стареть. Но я так же, как и люди, испытываю голод и жажду. Поэтому если не хочешь снова валяться в грязи, изнемогая от боли, пока над тобой пыхтит имитирующий тебя бес, то будь добр кушать, пить чистую воду и, по возможности, не злоупотреблять тем, чем не надо. Меня это устраивало. Я не ждал от второй жизни ничего особенного, никаких сверхсил, если учесть, что я вообще не ждал этой второй жизни.
Как и везде до этого, в компании бесов и упырей я освоился быстро. Бесы, все без исключения, болтливые твари, и потому им нравилось, что я преимущественно молчу. Это делало меня хорошим слушателем. Я, конечно, пропускал мимо ушей всю ту пустую болтовню и сплетни, что исходили из их не закрывавшихся ртов, однако в нужные моменты, словно отмеряя в этой странной музыке такты, я мотал головой, будто понимаю, о чем разговор.
Первое же, куда ты поступаешь на службу, став упырем – это должность коллектора в самой поганой дыре, какую только можно найти. При этом сама работа непыльная: искать идиотов, которые продали свою душу, но не пришли отдать ее сами, испугавшись последствий. Музыканты, политики, наркоманы, в общем, полный набор. Чего я только не видел за те годы работы. Разбитые, подавленные, сошедшие с ума, они падали на колени, бились в истерике, прыгали в окна, сжигали себя заживо во имя искупления. Стоит ли говорить, что это не помогало? Продавший душу один раз – продал ее навсегда. Как только она попадает к Нему в зловонные мохнатые лапы, дорога тебе одна. И это далеко не Ад по Данте. Есть места похуже. И я часто думал тогда, да и сейчас: а что, собственно, изменилось? Все та же работа, все те же люди, та же грязная, как сарай, квартира. Ничего не поменялось. Ровно до того момента моей жизни, на котором я теперь хочу остановиться.