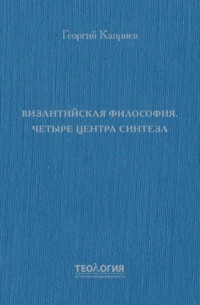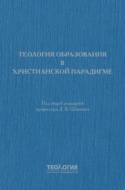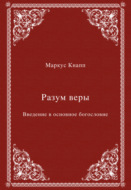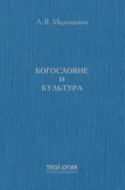Loe raamatut: «Византийская философия. Четыре центра синтеза»
© Iztok-Zapad Publishers, 2022. All rights reserved
© G. Kapriev, 2022
© Вдовина Г. В., перевод, 2022
© Киптенко С., Меламуд К., Виноградов А., перевод, 2022
© Фонд «Теоэстетика», 2022
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2022
Несколько слов от переводчика
Георгий Теологов Каприев (род. 1960) – крупнейший болгарский исследователь средневековой философии. Будучи широко признанным ученым, он много лет возглавлял комиссию по византийской философии Международного общества по изучению средневековой философии (SIEPM) и кафедру истории философии Софийского университета, был соучредителем и соорганизатором различных учебно-исследовательских проектов, по сей день выступает соиздателем серии Bibliotheca Christiana и нового издания «Очерка истории философии» – начинания, восходящего к Фридриху Ибервегу. Эта востребованность Г. Каприева и его активная вовлеченность в международную научную деятельность свидетельствуют о глубоком уважении коллег-медиевистов к научным достижениям болгарского ученого. Но лучше всего о них говорят его книги, опубликованные на болгарском и немецком языках, в том числе и та книга, которую читатель держит в руках. Ее замысел и основную идею Г. Каприев сам раскрывает во введении. Вряд ли имеет смысл пересказывать здесь то, что уже прекрасно высказано автором, зато можно и нужно сказать об отличительных чертах Г. Каприева как ученого и о значении перевода его книги на русский язык.
В сегодняшнем мире узких научных специализаций исследовательский горизонт болгарского ученого отличается неординарной широтой. Обе его диссертации посвящены западному Средневековью. Темой работы на соискание степени PhD (1991) были «Философско-исторические концепции раннего западноевропейского Средневековья (Аврелий Августин)»; степень доктора философских наук (2001) Г. Каприеву принесла диссертация «Ансельм Кентерберийский и мир его идей». Результатом этих исследований стали первые книги Г. Каприева: «История и метафизика», «Августин», «Аргумент Ансельма Кентерберийского и „онтологическое доказательство“». В 2005 г. выходит в свет фундаментальная пятисотстраничная монография «Id quo nihil maius cogitari possit. Философский мир Ансельма из Аосты, архиепископа Кентерберийского». И в дальнейшем Г. Каприев не оставляет занятий западной интеллектуальной традицией, о чем свидетельствует его недавно опубликованная книга «Механика против символики: генезис новоевропейского историзма» (2017).
Вместе с тем с 2000 г. начинают появляться труды Г. Каприева, посвященные истории византийской мысли. Одним из первых выходит в свет первое издание настоящей книги: «Византийская философия. Четыре центра синтеза» (2001). За ней последуют ее немецкоязычный вариант «Философия в Византии» (2005), «Максим Исповедник. Введение в понятийную систему» (2010), «Византийские этюды» (2014) и книга, в которой сошлись обе линии исследований Георгия Каприева: «Латинские смутьяны в Константинополе: Ансельм Хавельбергский и Гуго Этериан» (2018 – немецкоязычное издание, 2020 – издание на болгарском языке).
Столь широкий диапазон научных интересов позволил Г. Каприеву стать одним из самых блестящих представителей молодой болгарской патрологической школы, с ее нацеленностью на сравнительное изучение западной и восточной традиций христианской мысли. В недавно опубликованном интервью Каприев подчеркнул, что корни различий между ними нужно искать в разном понимании динамики бытия, ипостаси и свободы. И в настоящей книге сопоставления с латинской традицией проводятся в основном именно в связи с этими базовыми понятиями.
Итак, перед нами второе, переработанное издание книги «Византийская философия. Четыре центра синтеза», вышедшее в свет в 2011 г. В основе замысла Г. Каприева лежит восходящая к В. Н. Лосскому идея мощных центров притяжения, вокруг которых сосредоточивается и формируется интеллектуальная жизнь определенных исторических периодов. Для Византии такими центрами синтеза Г. Каприев считает учения прп. Максима Исповедника, прп. Иоанна Дамаскина, патриарха Фотия и свт. Григория Паламы. Соответственно, эти четыре фигуры служат несущими опорами замысла книги. Однако Г. Каприев ими не ограничивается, но подробно рассматривает и ту интеллектуальную среду, в которой они существовали и которую формировали. Поэтому книга болгарского ученого дает нам целостную картину византийской философии (или «философии в Византии»; соотношение этих понятий автор поясняет в своем предисловии к книге) на всем протяжении ее развития, вплоть до падения Константинополя в 1453 г. Такого обобщающего труда до сих пор не было в русскоязычном научном пространстве, где остро ощущается потребность в нем. В сравнении, например, с книгой В. М. Лурье «История византийской философии» работа Г. Каприева отличается, с одной стороны, бо́льшим хронологическим охватом и содержательной полнотой, а с другой стороны, большей объективностью и взвешенностью суждений. Это делает ее не только ценным вкладом в нашу науку, способным стимулировать интерес к изучению византийского интеллектуального наследия, но и практически идеальным на сегодняшний день учебником византийского «богомыслия». С чувством глубокого уважения и благодарности автору книги предлагаем российскому читателю ее перевод.
Галина ВдовинаМосква, декабрь 2021
Предисловие ко второму изданию
Книга «Византийская философия. Четыре центра синтеза» вышла в свет в 2001 г. в издательстве «Лик». С тех пор она приобрела популярность в качестве учебника для студентов как философских, так и богословских факультетов. Тираж был раскуплен, и неоднократно поднимался вопрос о ее переиздании. Я скрепя сердце согласился на это именно из соображений образовательного смысла публикации. Что добавило еще одну проблему к тем, что связаны со вторым изданием книги, которое обязано своим появлением, прежде всего, настойчивости Любена Козарева и издательства «Восток-Запад».
В минувшем десятилетии была опубликована моя книга Philosophie in Byzanz (2005). В общих чертах она сохраняет структуру болгарского издания, но почти в два раза больше объемом. Позднейшие исследования углубили, расширили и усложнили мои знания и оценки. Их представление в форме монографии, однако, привело бы к тому, что такой огромный том было бы трудно использовать в качестве учебно-справочного пособия, что обессмыслило бы идею переиздания текста. Именно поэтому я позволил себе включить лишь несколько новых параграфов, а также сделать некоторые добавления, которые кажутся мне строго необходимыми в рамках современного образовательного процесса по данной теме. Из тех же соображений включено и приложение, представляющее в самом общем виде историю и состояние исследований византийской философии на сегодняшний день.
Любознательному читателю я бы настойчиво рекомендовал обращаться по интересующим его конкретным темам, о которых здесь идет речь, к специализированным исследованиям, которые всё активнее публикуются как в мировом, так и в болгарском академическом сообществе и авторы которых в настоящее время пользуются мировой известностью (прежде всего, здесь нужно назвать имена Цочо Бояджиева, Ивана Христова, Калина Янакиева, Олега Георгиева, Атанаса Стаматова, а также более молодых: Смилена Маркова, Дивны Маноловой, Герганы Диневой, Невены Димитровой). Например, тем, кого интересуют мои нынешние взгляды на философское дело св. Максима Исповедника, я предложил бы обратиться к моей книге «Максим Исповедник. Введение в понятийную систему» (2010), представляющей философию св. Максима более целостно и подробно. То же относится и к другим авторам и темам, которые затрагиваются в соответствующих книгах или статьях, опубликованных в течение указанного периода.
Впрочем, мое упорное нежелание переиздавать эту книгу объясняется еще одним обстоятельством. По меньшей мере с 2005 г. и поныне я непоколебимо убежден в том, что более адекватное представление византийской философии состояло бы в группировании материала не в хронологическом, а в тематическом порядке. Такую структуру имели сначала мои лекции, прочитанные в Кельнском университете (2005–2006), а затем (и по настоящее время) – в Софийском университете им. Климента Охридского. Я сохраняю за собой право написать в обозримом будущем книгу, построенную таким образом.
В этом контексте моя обязанность перед читателем – дать объяснение, связанное с отношением между формулировками «византийская философия» и «философия в Византии». Говоря о «философии в Византии», я имею в виду совокупность всех философских проектов в византийской культуре. Они настолько различаются между собой, что можно было бы настаивать на существовании в Византии стольких философий, сколько имелось философов. Точнее говоря, все они представляют разные варианты христианской философии (единственное исключение – поздний философ Плифон, если он действительно развил приписываемое ему неоязыческое учение), но выстроенные в некий сложный и многомерный спектр философских воззрений. Под «византийской философией» я понимаю – в более узком смысле – философские тенденции, отличные от западных традиций более всего тем, что они сильнее акцентируют динамику бытия. В качестве первого объекта философского размышления они утверждают не сущность, субстанцию или сущее как таковое, а его реальность, его действия и движения, и в этом смысле его существование, через которое только и может познаваться его сущность. Эту особенную нюансировку сердцевинной метафизической проблематики я считаю специфическим вкладом Византии в философскую культуру. В центре внимания в настоящей книге находятся только философские программы, эксплицитно связанные с этим моментом, тогда как другие типы проектов представлены в отношении к ним и на их фоне.
Георгий КаприевСофия, апрель 2011
Вступление
Эта книга – не история византийской философии в классическом смысле слова и тем более не история философии в Византии. Думаю даже, что для подобной работы сегодня все еще отсутствует как источниковедческий ресурс, так и необходимая критическая масса исследований, на которую можно было бы опереться. По причине, с одной стороны, относительной недоступности и необработанности большей части материалов, а с другой стороны, сравнительной молодости философской византинистики это остается задачей будущего. В настоящее время продолжаются споры даже о таких базисных вещах, как датировки византийской эпохи и специфика тогдашней философии.
На сегодняшний день существуют три книги, где предпринимается попытка представить в разной стилистике один и тот же общий облик философско-богословской мысли на всем протяжении собственно византийского периода: «Византийская философия» Василия Татакиса, «Церковь и богословская литература в Византийской империи» Ханса-Георга Бека и «Теология и философия в Византии» Герхарда Подскальски. Несмотря на недостатки, которые мы обнаруживаем в них сегодня, эти книги являются основными при обращении к данной теме. При всех различиях между ними они пытаются задать единую рамку, где каждому персонажу или течению уделяется место, соответствующее – в количественном смысле – их общей значимости.
Здесь избран другой ракурс, основанный на том эвристическом наблюдении Владимира Лосского, что всецелая история византийской философско-богословской мысли может рассматриваться как ряд нескольких мощных синтезов, порожденных сосредоточением всей традиции вокруг того или иного вопроса, который становится для эпохи центральным и поворотным. С моей точки зрения, о таких синтезах в целом можно решительно и безусловно говорить в четырех случаях. Речь идет об учениях св. Максима Исповедника, св. Иоанна Дамаскина, св. патриарха Фотия и св. Григория Паламы. Их мыслительные системы представлены здесь в подробностях, с претензией на самостоятельность исследования, насколько это позволяет жанр. Остальные авторы и тенденции обрисованы подчеркнуто справочно. Цель этих общих очерков заключается в том, чтобы продемонстрировать, как возникал синтезируемый материал и каковы были пути, ведущие к следующему центру синтеза. Далее, даже при поверхностном взгляде могло бы показаться, что учению св. Максима Исповедника отведено непропорционально много места. Это не случайно. Я глубоко убежден, что вся византийская философия и все византийское богомыслие могут быть познаны в своих основах только через добросовестное ознакомление с текстуальным наследием св. Максима. Во всяком случае, мое намерение заключалось в том, чтобы представить максимально широко результаты исследований минувшего столетия, с акцентом на труды последних лет или десятилетий.
Понятно, что выполненная работа не была бы возможна без поддержки многих людей и институций; мой долг – выразить им благодарность. Прежде всего, благодарю мою семью. Среди болгарских коллег и друзей хочу назвать Цочо Бояджиева, Калина Янакиева, Олега Георгиева, Ивана Христова. Обязательно хотелось бы подчеркнуть неизменную и щедрую помощь, оказанную мне Андреасом Шпеером. Хотелось бы также сердечно поблагодарить Альберта Циммермана, Воутера Гориса, Георгиоса Макриса, Эдуарда Жено, Карлоса Стила, Кента Эмери, Михаила Хронца, Петера Шрайнера, Стивена Брауна и Ханса-Герхарда Зенгера за то, что они подтолкнули меня к работе над этой книгой, а также поддерживали и подбадривали во время сбора материала и процесса исследования. Изучение источников и знакомство с литературой были бы невозможны без любезной поддержки со стороны Фонда Александра фон Гумбольдта, направлявшего в 1996 и 1998 гг. мою работу в Томас-Институте университета Кёльна; здесь я специально подчеркнул бы имена Яна А. Артсена и Мартина Пикаве. А благодаря Фонду Эндрю Меллона я получил возможность познакомиться с богатыми парижскими библиотеками, работая в 1999–2000 гг. в «Доме наук о человеке»; моя особая признательность – Морису Эмару и Ольге Спилар. Нельзя не поблагодарить также издательство «Лик» и лично Любена Козарева за содействие в издании этой книги.
Всем этим людям и институциям – моя самая сердечная благодарность!
Георгий КаприевСофия, 6 февраля 2001 г.
Введение
Среди многих вопросов, которые ставят перед сегодняшними исследователями Восточная римская империя и ее культура, стоит и вопрос о начале т. н. византийского периода. Проблема возникает в силу того факта, что у Византии не было предыстории или ранней истории в том смысле, в каком эти понятия употребляются применительно к западному Средневековью1. В отличие от культуры латинского Запада, византийская культура не берет начало в цивилизационном кризисе, а рождается как некатастрофическое переживание античного культурного космоса, сосредоточенное вокруг христианского мировоззрения.
Общая характеристика
Современные историки располагают достаточными основаниями связывать начало собственно византийской истории – политической, церковной, культурной – с правлением имп. Ираклия и масштабными переменами в тот период (особенно в 30-е годы столетия), оказавшими влияние на весь византийский стиль жизни2. Византия родилась в первые десятилетия VII в. и погибла в середине XV в., когда в 1453 г. под натиском турок-османов пал Константинополь, а в 1460 и 1461 гг., соответственно, – Мистра и Трапезунд.
Вместе с тем начало «византийской эпохи» и средневековой византийской теологии и философии то помещают в IV в., то связывают с Юстинианом, то относят к середине IX в. За исключением последней гипотезы3, у двух других есть свои внутренние основания.
Все действия имп. Юстиниана имели целью построение единой христианской державы, полагающей свой идеал в «симфонии» между церковной и политической иерархиями и в утверждении целостной системы христианской культуры и жизни4. Итогом его деятельности стало вступление к концу VI в. в «византийский период», который принес с собой также новый стиль христианского мышления5. При всем своем размахе Юстиниан считал себя не новатором, а тем, кто закрепил результаты единого продуктивного процесса, начавшегося еще в IV в.
Если говорить об эпохе, в которую сложился фундамент византийской культуры, то важным водоразделом стало IV столетие, в котором усматривали также начало византинизма, византийской ментальной системы. Византийское богомыслие и патристика – не следующие друг за другом феномены, они не разделены никаким временным разрывом. Святоотеческая мысль никогда не превращалась в «архаичную манеру» или священную реликвию, а неизменно оставалась актуальной базисной позицией, духовным ориентиром для всего православного мышления6. Пренебрежение этой связью приводит к построению неумелых и ошибочных периодизаций, где византийское богомыслие следует по времени за патристикой. В сущности, это реалии из разных классификаций, это понятия, сформированные по несовпадающим критериям, они не позволяют встраивать себя в схемы одного и того же порядка.
Вся христианская ментальность Востока отмечена дистинкцией «теология – икономия». Первоначально теология строго связана с θεορία, созерцанием. Это не рациональная дедукция из богооткровенных предпосылок, а само богооткровенное знание о Св. Троице, о единстве и троичности Бога. Теолог – уже не мыслитель, рассуждающий о божественных предметах, а тот, кто знает слова Самого Бога, данные через озарение, превышающее природу человеческого ума. Григорий Богослов, например, соглашался называться «теологом», потому что считал себя лишь тем, кто принимает и воспроизводит слова, данные через Писание и Предание, т. е. теологию по преимуществу. Чуть позже к этому прибавилось тринитарное умозрение отцов IV в. Со своей стороны, «икономия», или «домостроительство», есть история воплощения и проявления Бога в тварном бытии, история актов творения, провидения, спасения и обожения, которые человеческий разум способен обдумывать и до некоторой степени познавать7.
Византийская культура не знала сближения или противопоставления между «теологией» и «мистицизмом» в западном смысле, как и самого мистицизма западного типа. Очень часто все восточное богословие называлось «мистическим». Однако «мистическое богословие», как оно представлено у Псевдо-Дионисия Ареопагита, не подразумевает религиозного субъективизма и не ограничивается исключительными случаями визионерского просветления. По существу, это антивизионерство, отбрасывающее созерцание продуктов воображения. «Мистика» – это понятие, которое означает не эмоционально-психологический индивидуальный контакт с божественным, а очерчивает одно необходимое общее качество христианского богопознания. Конечно, оно осуществляется как личный духовный опыт жизни в Боге через причастность Духу; но его благодать понимается не как привилегия лишь малого числа «мистиков», а как принципиально доступная всем верующим в результате их воцерковления и участия в литургии, в меру их личной самоотдачи и призвания. Правильное созерцание имеет как умственный, так и сверхумственный характер, оно запредельно всякому дискурсу и всякому ви́дению очертаний и форм. Оно служит местом интеллектуального просветления, в котором познается непознаваемый по своей сущности Бог. Поэтому такую мистику можно рассматривать как вершину богословия, как богословие по преимуществу8.
Именно поэтому в богословских текстах восточной традиции сохраняется напряжение между абсолютно непостижимой тайной и доступным обращением Бога к миру. Вследствие этого напряжения возникают вопросы о допустимости и границах применения логических методов и формулировок, логического разума вообще9. Именно с этой точки зрения важно заметить, что уже в первых проявлениях христианской мысли на Востоке доминировала умозрительно-метафизическая направленность. Метафизический интерес преобладал здесь над эмпирическим10. Византийское богословие не антиконцептуально; философские понятия и логические аргументы широко применяются при развертывании христианских истин11. Этот факт ставит нас перед вопросом об отношении между теологией и философией. Уже потому, что Византия говорила и думала по-гречески, уже потому, что она унаследовала целый корпус эллинской философии как наследство живое и конкурентоспособное, вопрос об отношении философии к христианству сохранял постоянную актуальность12.
Обоснованно утверждается, что в традиции восточного христианства после Оригена философское поглощается богословским, причем налицо двустороннее движение: богословское становится философичным, а онтологическое формулируется богословски. Поэтому любая богословская формулировка имеет также философскую сторону, а любое изменение теологической перспективы модифицирует, в том числе, философскую точку зрения13. Но это не означает тождества теологии и философии.
Теология есть богопознание, данное в откровении Самим Богом. Теология в собственном смысле слова – не действие человеческого ума, а самовыражение Бога, дающего человеку опыт Самого Себя. Теология – это Слово Божие в смысле genitivus subiectivus14. А христианская умозрительная философия, отличная от «внешней», языческой, представляет собой результат работы человеческого ума и его средств, лежащих в области логики и языка. Византийцы видят в умозрительной философии главным образом исследование логоса сущего как сущего (λόγος τῶν ὄντων ᾗ ὄντα). Она выглядит как постижение естественным человеческим разумом истинного знания о бытии, данного нам в познании: знания, способного открывать действительные законы бытия. В такой перспективе философия массово понималась как универсальный рациональный путеводитель на пути к истине, в котором акцентировался его дискурсивный характер. Философия и соответствующие ей познавательные практики оставались в области дискурса, в сфере рационально постижимого и артикулируемого в понятиях.
Но высшую философскую тематику всегда составляли божественность и божественные вещи. Подлинная сфера философии – сфера икономии, где философия опирается на Писание и Предание, на завещанный опыт озарения, при том, однако, что ее фундаментальными элементами являются историчность и временность15. Философия не претендует на какую-либо дисциплинарную самостоятельность, но сохраняет широкий круг применимости своих компетенций. Философия и теология находятся в непосредственном контакте и взаимозависимости. Нет автономной философии, как нет автономии ни у какого знания, нацеленного на богопознание. Теология, напротив, по существу исчерпывается божественным самовыражением и оказывается связанной с философией в своем словесном формулировании16. Спекулятивная или дискурсивная, теология понималась (во всяком случае, после IX в. уже эксплицитно) как наивысшая цель первой философии.
Вера и богословский опыт по определению порождают основу византийской философии. Вместе с тем – и тоже по определению – они не способны взять на себя эти функции самостоятельно. Их своеобразие не в последнюю очередь опирается на их дискурсивную неартикулируемость. Исходная философская позиция, неадекватно приданная разуму, точно так же невозможна, как и наличие какой-либо иррациональной умозрительной философии. Собственно философская база христианской философии должна быть заново открыта в области артикулированной теологии, но в таком случае имеется в виду не спекулятивное, а догматическое богословие. Именно догматика составляет аксиоматическую основу христианской философии.
Догматы Восточной Церкви в их полноте – это целостность церковной веры, засвидетельствованной в ее непрерывности в Писании и Предании. Догматическое свидетельство о вере понимается как, возможно, наиболее отчетливая демонстрация внутренней согласованности учения в целом со всей полнотой Предания17. Хотя Восточная Церковь не признает в качестве вероучения по преимуществу никакую dogma definitum, идущую от некоей авторитетной учительной институции, в ней тем не менее в качестве руководящих вероучительных свидетельств принимаются, прежде всего, официально сформулированные постановления Вселенских и некоторых Поместных Соборов. Однако сама разработка этих формулировок, как и согласование догматов друг с другом и со всем систематическим содержанием мышления, выстроенного на их основе, включает в себя много интенсивной философской работы.
Приведем лишь один пример. Речь идет об одной важной редакции второго члена Символа веры, предпринятой Вторым Вселенским Собором. Никейский Собор включил во второй член Символа – еще до введения философски произведенного понятия «единосущный [Отцу]» (ὁμοούσιος [τῷ πατρί]) – подчиненное предложение «т. е. из сущности Отца [рожденного]» (τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός [γεννηθέντα])18. Это выражение отпало на Константинопольском Соборе по понятным причинам. В Никейском символе употреблялись (в последнем предложении) почти синонимичные понятия «ипостась» (ὑπόστασις) и «сущность» (οὐσία)19. После философской работы каппадокийцев, не в последнюю очередь нацеленной именно на понятийные дефиниции «сущности» и «ипостаси», стала очевидной некорректность или, во всяком случае, двусмысленность этого подчиненного предложения.
Подобная философская работа может быть исторически установлена во всех случаях догматических формулировок. Как только соответствующие положения закреплялись в качестве догматов, они уже не принадлежали к сфере философских компетенций. После этого они могли интерпретироваться, но не расширяться или преображаться. Так как речь шла об аксиомах, здесь не было места ни аргументам, ни переформулировкам: эти положения дискуссии не подлежали. Именно аксиоматика стала фундаментом для разработки теологуменов, философских и аргументационных систем византийской философии, в которых выражалась ее собственная специализированная деятельность и по которым нужно судить о ее своеобразии, а также о качестве ее философских программ. Подходы в области философско-богословского умозрения выглядят совершенно по-разному в зависимости от отношения к догматике. Именно здесь проявляется личная креативность мыслителя и его философский характер; именно здесь философы являют свою готовность искать ответы на доводы своих оппонентов и изыскивать решения независимо от того, разделяют ли оппоненты их аксиоматическую базу или нет20.
Вопреки этому, а может быть, именно поэтому в течение всего византийского периода продолжали преподавать греческую философию, пусть и в христианизированном варианте. Она фактически покрывала собою школьный куррикулум и даже доминировала в корпусе светских наук, включая в себя также немалый объем богословских знаний. Образование было почти полностью сосредоточено в светских училищах. Богословие никогда не преподавалось в качестве самостоятельной дисциплины. В то же время Византия не знала никаких «школ» духовной жизни, как то было на Западе, и теология никогда не была привилегией «профессионалов» или определенных сословий21.
Традиционно подчеркивается, что Византия строго копировала античную традицию образования с ее ἐγκύκλιος παιδεία и принципом частного характера учебного дела. Это подкрепляется тем настойчивым утверждением, что между эллинской античностью и византийским временем не пролегало никакой культурной цезуры. Это не совсем так. Еще в 425 г. Феодосий II распорядился о создании в Константинополе высшего училища, в учебный план которого вводились две новые дисциплины, а именно юриспруденция и философия. Позже, в 617 г. (когда по приказу имп. Ираклия Стефан Александрийский переселился в столицу, чтобы грамотно преподавать учения Платона и Аристотеля) школьное преподавание греческой философии – во всяком случае, в Константинополе – не претерпело никаких серьезных разрывов22.
В общих и высших училищах (в Византии никогда не было университета западного образца) речь шла, однако, лишь о рецептивном, по существу, преподавании античных философских учений. Сама ἐγκύκλιος παιδεία давала, в конечном счете, всего лишь общий средний уровень образованности. Эллинские философы преподавались через представление их сочинений. Византийские комментарии – это большей частью заметки учителей философии, призванные разъяснить наиболее трудные места и основные идеи изучаемых текстов; в силу этого большинство комментариев имели нетворческий характер по самому своему целеполаганию. Вот почему определение уровня философствования в Византии с помощью комментариев, как это допустимо относительно схоластической философии, – ложный ход. Подлинная философия сосредоточена не в этих текстах.
Философия на высоком уровне изучалась в частных школах (за исключением немногочисленных и кратких периодов, когда она преподавалась и в крупнейших публичных учебных заведениях, например, в последние десятилетия XIII в.). Именно такую ситуацию с любовью описывает Фотий во Втором послании папе Николаю I, где говорит о «сонме моего дома»23. Обычно школа располагалась в собственном доме учителя, и фактически не существовало никаких установленных правил относительно того, каким должно быть обучение и его методы. В византийской культуре не было особой философской институции и не возникло школьной философской традиции.
Более широкая, в сравнении с Западом, автономия философии в Византии происходила оттого, что как институционально, так и субъективно философия существовала в качестве частного дела и таким образом понималась, в том числе, Церковью. До тех пор, пока она оставалась в сфере частного, она могла держаться автономно даже по отношению к богословскому учению. Фотий однозначно говорит о «безнаказанном образе жизни»24. Однако эта позиция не безобидна. Только в таких обстоятельствах вырабатываются диалектические и герменевтические методы, доказательные процедуры, как и сами содержательные платформы отдельных философских программ. Их приложение к области официального, в том числе, к области умозрительной теологии, в сущности, никогда всерьез не анализировалось и не санкционировалось на институциональном уровне. Случись это или нечто подобное, под вопрос были бы поставлены содержательные коннотации выводов. Немногие исключения, когда осуждению подвергался «платонизм» или – еще реже – «аристотелизм» какого-нибудь автора, почти всегда имели государственно-политическую или церковно-политическую окраску.
Способ преподавания философии и его цели давали основание тому обычному у византийских философов утверждению, что у них «нет учителей». Конечно, это не означает, что они не получили образования у одного или нескольких преподавателей (очень часто мы даже знаем их имена). Философы хотели этим сказать, что они не следуют философским воззрениям никакого определенного мыслителя и не являются ничьими эпигонами. Кроме того, таким способом они утверждали, что не принадлежат ни к одной философской школе. Еще позднеантичные христианские авторы выступили против самого структурного принципа философских школ, «переименовав» школу (σχολή) в αἵρεσις (секту), – отдельное и уже тем самым ложное учение, заблуждение. Эта позиция окончательно оформилась при св. Иоанне Дамаскине, который полагал основными задачами философии рациональную формулировку истин христианской веры, их доктринальную систематизацию и опровержение ложного гнозиса. Поэтому св. Иоанн настаивал на том, что святые отцы – одновременно ученики и учители истины и истинной философии25. Ибо, когда речь идет о выражении истины, любое отступление от нее – ересь. Ересь – это мысль или мнение некоторого числа людей, входящие в противоречие с общепризнанной мыслью (κοινὴ ἔννοια), выражающей истину. Поэтому не случайно в длинном списке ересей находят себе место также эллинские философы (пифагорейцы, перипатетики, стоики, платоники, эпикурейцы)26. Так не в последнюю очередь утверждалась персональная автономия философии, которая тем не менее опиралась на единый, общий до-аргументативный фундамент.