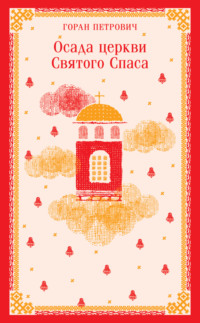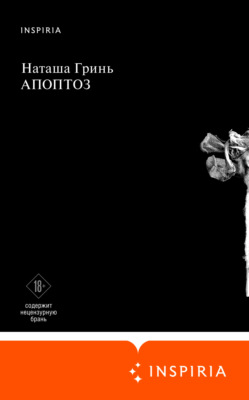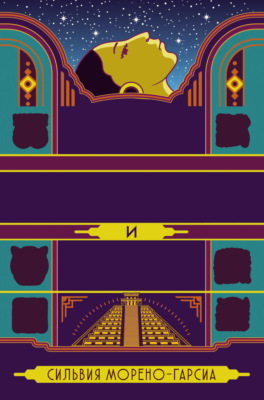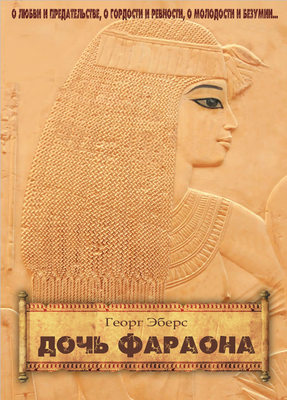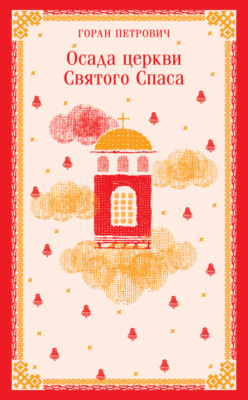Tsitaadid raamatust «Осада церкви Святого Спаса»

Ее платья приезжали к ней из Парижа – в одном сундуке они сами, в другом их шелест, а в третьем вздохи молодых людей, которые и приличествуют в таких случаях.

Для каждого слова есть свое перо. Например, слово «небо» пишут легким касанием летного пера взрослого ястреба, а «трава» – пером с брюшка скворца, «море» – пером альбатроса, некоторые книги написаны пером болтливой гаги, а чтобы описать ваш черный костюм, нужно писать с сильным нажимом пером из хвоста крупной галки.

– Другим для острастки отправьте-ка их в «ничто»!– Нет, господин наш, только не это! Пусть нас разорвут на куски, привязав к четырем кобылицам, пусть изрубят саблями, пусть задушат золотистые куницы! Заклинаем тебя всем, что тебе дорого, господин, смилуйся над нами, несчастными, накажи нас одной только смертью! – рыдая, умоляли шпионы.Напрасно. Тот, чьей обязанностью в походах были казни, тут же двинулся от воина до воина, поднося к каждому пустой открытый мешок. И каждый, независимо от высоты своего положения, обязан был сдать все, что ему было известно о несчастных. Все. До последнего звука. Включая то, кем были их родители, какого цвета у них глаза, имеются ли родинки, над чем они смеялись на привале в лесу, что и где им снилось, кто в Видине ждет их возвращения… Наложницы из носилок добавили кое-что об их мужской силе, любовном трепете, даже вздохах. Собрали все. Совсем все. А сверху положили и сами их голые имена. Теперь больше никто не имел права упомянуть о них ни звуком.После того как палач собрал в мешок все, что можно было сказать об осужденных, он набил туда веток и сухих листьев. Потом искрой подпалил трут и тоже сунул его в мешок. Еще влажное от соприкосновения с губами содержимое мешка сначала голубовато тлело. Казалось, писклявым шипением и потрескиванием оно продолжало беспомощно сопротивляться даже тогда, когда огонь стал разгораться. Наконец все вспыхнуло ярким пламенем, после чего и последнее упоминание о злосчастных превратилось в пригоршню молчания. Это и было оно. Это было «ничто».

Многие народы без следа исчезли не потому, что у них было слишком много врагов, а потому, что о них нечего было рассказать.

Некоторые науки можно изучать без малейшей доли преданности, для некоторых достаточно простого прилежания, но есть и такие, для которых единственная поддержка - любовь.

Как странно хрустели эти души с изломанными крылышками под копытами коней и озверевших людей. Они не стонали. Просто тихонько поскрипывали. И все.

Жена как галера, в каком порту пришвартована, тот, считай, наполовину захвачен, – ходила по Адриатике морская поговорка.

– Разум твой движется только по твердой середине. А большая часть всего на свете одновременно как бы и существует, и не существует. Ты вроде бы смотришь на мир уже двадцать лет, но не заметил, что у нас последовательно заложены кирпичом все окна нынешнего времени. То окно, что смотрит в прошлое (разумеется, славное) или в будущее (пусть далекое, но, конечно же, светлое), распахнуто настежь. В то же время те окна, из которых можно было бы видеть настоящее – хоть ближайшее, хоть удаленное, – заложены кирпичом. А потом аккуратно оштукатурены. А под конец еще и побелены. И в голову не придет, что они здесь когда-то были. Нужно было скрыть истинный смысл. Или хотя бы переиначить все, что указывает на действительный порядок вещей. У других тоже так же или похоже. Разница только в том, насколько ловко прикрыты горизонты. Просто где-то все еще пользуются камнем или кирпичом, а где-то затемненным стеклом, и там люди на основе контуров полагают, что им все ясно…

В вечерний час Драгутин делал себе постель из мелких камней, а чтобы хоть немного пощадить свое тело, клал под голову обломок скалы, обкатанный водой. Государь Дебрца считал, что только так можно искоренить плотское извержение семени, происходящее во сне, которое рано или поздно увлажняет бедра каждому, кто беззаботно предается сну.

Ведь правителям, как никому другому, опасна лихорадка, которой заболевают из-за любви к самому себе.