Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане между нацистами и большевиками. 1941-1944
Tekst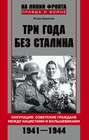


Mine üle audioraamatule
- Maht: 450 lk. 18 illustratsiooni
- Žanr: ÜldajaluguMuuda
Что касается использования в аппарате самоуправления русской эмиграции, такие факты были скорее исключением, нежели правилом. Так, еще до нападения Германии на СССР начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал-лейтенант Альфред Йодль 3 марта 1941 г. подготовил для Гитлера документ, в котором о возможной роли эмиграции говорилось: «Бывшая буржуазно-аристократическая интеллигенция, если она еще и есть, в первую очередь среди эмигрантов, также не должна допускаться к власти. Она не воспримется русским народом, и, кроме того, она враждебна по отношению к немецкой нации. Мы ни в коем случае не должны допустить замены большевистского государства националистической Россией, которая в конечном счете (о чем свидетельствует история) будет вновь противостоять Германии»[225]. Относя щаяся к началу 1942 г. информационная сводка штаба партизанского отряда им. Ворошилова, оперировавшего на юге Орловской области, сообщает, что «бургомистры назначаются из немцев, живших на территории Советского Союза, и из советской интеллигенции, которая продалась немцам, изменив Родине»[226]. Так, бургомистром Брянска был назначен немец Карл Шифановский, а начальником топливного отдела Брянской горуправы – прибывший из Эстонии Альфонс Иванович Соц[227].
Подбор руководящих кадров осуществлялся с учетом их опыта работы в той или иной отрасли, должностей, которые они занимали в советских учреждениях. Немаловажное значение имело их отношение к советской власти, причем предпочтение отдавалось пострадавшим от политических репрессий, бывшим членам других партий и фракций (меньшевикам, эсерам и т. д.). Некоторые авторы мемуаров ввиду этого пытаются объяснить наличие в аппарате местного самоуправления русских именно политической подоплекой. Так, бывший начальник Орловского УНКВД К. Ф. Фирсанов пишет: «С первых дней оккупации в городах и районах нашей области стала всплывать на поверхность разная нечисть: троцкисты, меньшевики, правые эсеры, кулаки и бывшие купцы… Вся эта немногочисленная, но очень озлобленная и грязная свора была верной опорой и лакеями фашистов»[228].
Однако нередки были случаи, когда ответственные руководящие посты в аппарате самоуправления занимали бывшие советские и даже партийные работники, лица из числа советской интеллигенции. По утверждению А. Ю. Попова, представители советской интеллигенции стали основными кадрами органов городского самоуправления. Тот же автор отмечает, что в 1941 г. кадры органов самоуправления рекрутировались даже из партизан[229]. В частности, приказ № 17 по кавалерийской бригаде СС от 31 октября 1941 г. гласил: «Пленных партизан, производящих впечатление интеллигентных людей, сразу не следует расстреливать… их следует доставить в штаб бригады»[230]. Правомерно предположить, что немцы знали о том, что сотрудники советского и партийного аппарата нередко с приходом немцев уходили в партизанские отряды. Следовательно, в ряде населенных пунктов на легальном положении оставалось гораздо меньше советских руководителей, нежели в рядах партизан, откуда их приходилось «извлекать» оккупантам, с последующим использованием не только для получения соответствующих сведений в ходе допросов, но и для формирования администрации самоуправления. Так, только в ветринской полиции (Калининская область) служило не менее двух бывших партизан: начальник 1-го отдела И. Липчик и полицейский И. Г. Урский[231]. Любопытно, что в той же Калининской области нередки были случаи, когда гражданские должности в органах самоуправления занимали бывшие полицейские чины. В частности, бургомистр города Дриссы А. Козловский ранее служил начальником полиции деревни Россица, бургомистр Ветринского района Н. Копонов – начальником полоцкой полиции, волостной старшина Н. Спасибенок – полицейским в Польше[232].
Обзор кадрового состава органов местного самоуправления подтверждает мнение о наличии в числе руководителей немалого количества интеллигенции, советских и партийных работников. Так, первым бургомистром Новгорода был ученый-археолог В. Понамарев, до войны работавший научным сотрудником музея, бургомистром Пскова – учитель математики Черепенкин. Бургомистром Смоленска был назначен профессор физики и астрономии Б. Базилевский, его сменил известный в городе адвокат Б. Г. Меньшагин. Он приобрел популярность среди горожан ввиду того, что защищал крестьян в период коллективизации, а в ходе дела о вредительстве в животноводстве дошел до генерального прокурора А. Я. Вышинского, добившись отмены ряда смертных приговоров[233]. Заместителем бургомистра Брянска работал И. И. Плавинский, до оккупации служивший инженером дорожно-мо стового отдела Брянского горсовета, финансовый и строительный отделы Брянской горуправы возглавляли члены ВКП(б) Дудкин и Мирошниченко соответственно. Отделом заготовок Брянской горуправы заведовал бывший заготовитель Брянторга С. Фабрикантов. Бургомистром Брянска Южного (один из районов Брянска) стал бывший инженер завода «Красный Профинтерн» П. Соколов, бургомистром Орджоникидзеграда – бывший учитель Герасимов[234]. Бургомистром райцентра Погар Орловской области был назначен бывший директор МТС Шлапак, а начальником полиции в том же районе – бывший секретарь поселкового совета Синицкий[235]. Бургомистром Твери (оккупанты вернули Калинину историческое название) стал бывший инженер коммунального хозяйства, офицер армии А. В. Колчака дворянин В. А. Ясинский[236], бургомистром Пятигорска – главный врач курортного санатория М. Орлов[237]. Оккупированную часть Сталинграда возглавил бывший зав хирургическим отделением железнодорожной больницы врач Макушин[238]. Обзор списков лиц немецких пособников и формулярных дел органов НКВД дает основания утверждать, что не менее 30 % служащих аппарата самоуправления составляли советские и партийные работники. Так, из 140 «бывших немецких ставленников», взятых на учет Почепским РО НКВД Брянской области на 10 августа 1944 г., 50 человек – бывшие советские и партийные работники, 2 – крестьяне-единоличники, 13 – рабочие, 3 – безработные, 1 – официантка, 81 – рядовые колхозники[239]. Не менее интересно, что служащие аппарата самоуправления после оккупации в большинстве своем остались на ответственных должностях. В некоторых случаях заняли более высокие, нежели до войны, должности. Так, почепский учитель М. И. Полессков в период оккупации служил начальником паспортного стола, после освобождения Почепского района стал заведу ющим районным отделом народного образования. Бывшие счетоводы, писари, землемеры, служившие в оккупацию старостами, в большинстве стали председателями колхозов. А секретари сельских советов, бывшие в оккупацию волостными старшинами, в ряде случаев заняли должности председателей сельских советов[240]. Такой парадокс можно объяснить острой нехваткой руководящих кадров, в результате чего приходилось мириться с компрометирующим прошлым данной категории руководителей.
Однако следует отметить и другую сторону кадрового состояния органов самоуправления. Несмотря на немалое количество среди управленцев бывших советских и партийных работников, их было недостаточно для создания полновесных управленческих структур. Поэтому нередко на ответственные административные должности приходилось ставить простых рабочих и колхозников, ввиду чего кадровый состав органов местного самоуправления, хотя и отличается преобладанием советской интеллигенции, однако не менее чем на две трети копирует социальный состав той или иной местности[241].
Лица, осужденные за уголовные преступления, в аппарате органов самоуправления работали крайне редко. В этой связи часто встречающееся в советской литературе и исследованиях того периода утверждение, якобы на ответственные должности в период оккупации назначались преимущественно уголовники и маргиналы[242], не выдерживает серьезной критики.
Значительное количество в аппарате самоуправления партийных и советских работников, согласно выводам А. Ю. Попова, впоследствии нередко использовалось советскими партизанами для насаждения своей агентуры[243]. Бывший начальник Орловского УНКВД К. Ф. Фирсанов в своих мемуарах указал, что в начальный период оккупации чекисты сосредотачивали свое внимание на том, чтобы парализовать деятельность низовой администрации. С этой целью старостам, старшинам и бургомистрам через партизанскую разведку передавались послания следующего содержания: «Мы не возражаем против того, что ты стал старостой, но не смей обижать советских людей, тем более семьи партизан. Кроме того, ты обязан помогать партизанам».
Если верить К. Ф. Фирсанову, многие старосты после этого действительно становились на путь сотрудничества с партизанами, саботируя мероприятия оккупантов по сбору продовольствия, оружия, отправки в Германию рабочей силы. Отказавшиеся от сотрудничества управленцы уничтожались партизанами[244]. Так, бывший председатель колхоза в деревне Дольская Трубчевского района Орловской области М. Морозов по заданию чекистов стал старостой. Уничтожив по заданию НКВД заместителя трубчевского бургомистра Павлова, М. Морозов организовал партизанский отряд и стал его командиром[245]. Бургомистром Дятьковского района Орловской области с согласия партизан стал Калашников, с помощью которого партизанам удалось выявить нескольких немецких агентов[246]. В полосе действия Калининского фронта, согласно докладу о состоянии разведывательной работы в партизанских бригадах КФ, на июнь 1943 г. агенты партизан из числа бургомистров, волостных старшин составляли довольно многочисленную группу – 47 человек, что уступало лишь количеству агентуры из числа крестьян (212 человек) и служащих германских учреждений (60 человек)[247].
Что касается полномочий органов местного самоуправления, формально им была предоставлена полная самостоятельность, фактически же они стали послушным орудием в руках немецкого командования. Так, бургомистр Пятигорска, на первый взгляд, был наделен широкими полномочиями. В частности, мог во внесудебном порядке назначать виновным наказания до трех лет тюремного заключения. Однако управлять он мог только от имени комендатуры и под ее контролем. В приказе коменданта Пятигорска от 12 августа 1942 г. говорилось: «Все распоряжения и приказы бургомистра являются обязательными для населения и будут поддерживаться авторитетом германской армии»[248]. В Таганроге бургомистр отдавал приказы от имени германского командования, если приказ исходил не от комендатуры, а от бургомистра, в нижней части приказа обязательно ставилась отметка «просмотрено ортскомендантом» или «просмотрено: городской комендант»[249]. Подобное положение, а также тотальный контроль со стороны немецких комендатур в течение всего периода оккупации сохранялись и на других территориях РСФСР[250]. Так, в городе Торопа Калининской области по всем вопросам, даже хозяйственным, горуправление обращалось за разрешением к коменданту города. В частности, просило разрешить осмотр помещения, где хранятся рыболовные снасти, отпустить со склада масло для столовой и городской больницы, разрешить вывоз кормов для скота, выделить помещение для пожарной охраны[251].
Повсеместно практиковалась отчетность нижестоящих руководителей перед вышестоящими. Высшие должностные лица в системе самоуправления – бургомистры городов и районов – отчитывались перед немецкими военными и хозяйственными комендатурами. Исключение могли составлять лишь бургомистры, заслужившие полное доверие немецких властей[252].
В то же время недостаток советских руководящих кадров вынуждал бургомистров ставить на ответственные должности в городских и районных управах лиц, не имеющих опыта руководящей работы. Это, особенно в первые недели оккупации того или иного района, приводило к нечеткой работе отделов, плохой дисциплине среди сотрудников. Так, по Калининской области отмечалась халатность в работе руководителей отделов, плохое выполнение, а то и игнорирование распоряжений бургомистра, а также плохая организация работы отделов[253]. Зарегистрировано также полное игнорирование начальниками отделов распоряжений бургомистра, несмотря на неоднократные предупреждения[254]. О качестве работы должностных лиц органов местного самоуправления в тыловых районах группы армий «Центр» выразительно говорят итоги прошедшего 18 декабря 1942 г. проведенного хозяйственной инспекцией совещания, посвященного подведению итогов работы русских органов самоуправления за про шедший год. В частности, в докладе хозинспекции констатировалось невыполнение старостами и волостными старшинами своих обязанностей и содержались требования об устранении допущенных недостатков. Последние касались упорядочения вопросов уборки снега, сбора денежного налога, обеспечения школ топливом (дровами), обустройства беженцев, учета населения, обеспечения частей вермахта дровами[255]. Лишь в тех районах РСФСР, где оккупация приняла затяжной характер, работу органов самоуправления удалось наладить, несмотря на кадровый дефицит.
Помимо специфических должностных обязанностей, накладывавшихся на руководителей различных уровней, следует выделить и такую общую черту их деятельности, как осуществление учета населения, в первую очередь трудоспособного, контроль за его передвижением, что являлось одним из шагов осуществления восточной политики. Так, в городах и селах оккупированных областей первым шагом оккупантов и подчиненных им органов местного самоуправления стала перерегистрация населения, которая имела целью выявление наличия рабочей силы, национального состава населения, контингента, согласного сотрудничать с оккупантами, и партийно-советского актива. Так, в Брянске и Орле перерегистрация прошла в ноябре 1941 г. С этой целью все граждане, проживающие в городах, были обязаны явиться в городские управы с советскими паспортами. Там они заносились в книгу учета, а в паспорт ставился штамп. Лица, не имевшие советских паспортов (красноармейцы-окруженцы, отпущенные из лагерей военнопленные, беженцы, дезертиры из партизанских отрядов и РККА) получали временные удостоверения личности[256].
После перерегистрации следовала перепрописка обладателей советских паспортов и временных удостоверений личности, которой занимался паспортный стол горуправы, непосредственно подчинявшийся начальнику полиции. Прописка производилась через уличного старосту, который с домовой книгой, имеющейся в каждом доме, и паспортом прописываемого являлся в паспортный стол, где в паспорт и домовую книгу ставился соответствующий штамп. С целью полноты учета населения органы местного самоуправления применяли к проживающим без прописки лицам штрафные санкции от денежного штрафа до тюремного заключения[257]. С этой же целью в июле 1942 г. в Орле и Брянске органы местного самоуправления провели вторичную перерегистрацию населения, в ходе которой наряду с пропиской в паспорте или временном удостоверении, выдаваемом на один год, ставился особый штамп о политической благонадежности. Всего имелось четыре группы, причем обладатели 4-й группы считались особо неблагонадежными и были обязаны еженедельно являться в полицию для отметки.
По распоряжениям немецких комендатур органы местного самоуправления следили за национальным составом населения, при этом особое внимание уделялось учету евреев и цыган. Горуправы составляли для представления в комендатуры подробные информационные сводки о количественном, половозрастном, профессиональном составе этих групп населения[258]. Практические меры по изоляции евреев возлагались бургомистрами на начальников органов полиции, причем подобные приказы бургомистры отдавали исключительно со ссылками на распоряжения немецких комендатур[259].
В сельских населенных пунктах, жители которых не имели паспортов и каких-либо иных документов, удостоверяющих личность, перерегистрация населения проводилась путем опроса каждого[260]. К этой работе привлекались сельские старосты и волостные старшины.
Работа созданных на оккупированных территориях органов самоуправления позволила оккупантам обеспечить относительно нормальное функционирование всех отраслей хозяйства, включая промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру. Создание же вполне дееспособных властных структур стало возможным благодаря использованию большого количества бывших советских и партийных работников, избежавших эвакуации в советский тыл, деятельность которых дала оккупантам возможность наладить управление западными областями РСФСР. Правомерен вывод, что деятельность лиц, поступивших на службу к врагу в административной сфере, привела к тому, что оккупация России приняла затяжной характер. Так, германская армия, вторгшаяся в глубь СССР, не была вытолкнута оттуда, а получила приемлемые условия для снабжения, что обеспечивалось нормальной работой структур самоуправления, созданных из советских граждан. Однако при этом следует различать коллаборационистов и псевдоколлаборационистов, то есть тех, кто занял должности в аппарате самоуправления по заданию партизан либо советского подполья, оказывая при этом помощь в борьбе с оккупантами. Что касается тех, кто вступил на путь коллаборации с немцами в сфере управления, работал в структурах самоуправления, их деятельность недопустимо упрощать до банального предательства на фоне низменных чувств и оценивать исключительно в контексте помощи врагу и работы на оккупантов. В этом отношении нельзя пройти мимо мнения доктора исторических наук, профессора М. И. Семиряги, считавшего необходимым «четко различать деятельность уголовных элементов, наносящих ущерб стране, от хозяйственной деятельности, полезной для общества и невозможной без сотрудничества с оккупационными властями»[261]. Нельзя не признать, что, сотрудничая с оккупантами, органы местного самоуправления тем не менее, пусть на минимальном уровне, обеспечивали быт оставшегося на оккупированной территории населения. Поэтому административный коллаборационизм в сфере управления нельзя рассматривать лишь как явление, нанесшее вред интересам нашей страны. Необходимо признать, что наряду с этим коллаборационисты-управленцы исходя из функций управленческих структур занимались также жизнеобеспечением населения, помогая ему перенести тяготы оккупации.
§ 2. Образование в условиях оккупации
В период оккупации была сохранена система образования, которая в то же время подверглась изменениям по сравнению с довоенной. К таковым относится сокращение численности учебных заведений, в том числе школ, уменьшение количества изучаемых дисциплин, корректировка учебных программ, введение изучения религии.
Планы гитлеровского руководства Германии не предусматривали сохранение на территории СССР довоенной сети образовательных учреждений. Напротив, генеральный план «Ост», отправные установки которого, разработанные Г. Гиммлером, были доложены Гитлеру 25 мая 1940 г., предусматривал уничтожение всякого образования на территории СССР, за исключением начального. По замыслу Гиммлера, программа русских начальных школ должна включать «простой счет, самое большее – до 500, умение расписаться, внушение, что божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть честным, старательным и послушным». Даже умение читать Гиммлер считал для русского населения излишним[262].
Однако практическая необходимость вынуждала оккупантов разрешить органам местного самоуправления сохранить систему образования в приемлемом для условий оккупации объеме. Выразительное объяснение этому дано в записке главного квартирмейстера группы армий «Север», подготовленной 3 мая 1943 г., в которой обобщается опыт работы с русским населением на предшествующие полтора года войны: «Поскольку трудовая повинность начинается только с 14-летнего возраста, молодые люди в городах в возрасте от 12 до 14 лет практически предоставлены самим себе, бездельничают, спекулируют или убивают время другими способами. Такое состояние является совершенно недопустимым. Оно дает возможность русским, избалованным очень дифференцированной советской школьной системой, говорить о разрушительной политике немцев в области культуры и способно создать прямую угрозу общественному порядку»[263]. Из текста записки явствует, что, сохраняя систему народного образования в своих тыловых районах, германские командиры преследовали две основные задачи: недопущение детской и подростковой преступности, бродяжничества, а также завоевание симпатий гражданского населения.
Система образования в ходе оккупации претерпела значительную эволюцию. При создании органов местного самоуправления в их структуру обязательно включался отдел просвещения или школьный отдел, в задачи которого входили обеспечение сохранности школьного имущества, учет педагогических кадров, поддержание порядка в учебных заведениях[264]. Однако ввиду того, что война с СССР не стала шестинедельным блицкригом, оккупантам пришлось настраиваться на долговременное сотрудничество с населением Советского Союза. Для этого были необходимы демонстрация внимания к нуждам населения, с одной стороны, а также эффективный контроль за настроениями населения, в первую очередь интеллигенции и молодежи, – с другой. Это достигалось путем воспитания советских граждан, в основном подрастающего поколения, в духе лояльности к нацистскому режиму, что осуществлялось посредством системы образования. С этой целью с весны – лета 1942 г. повсеместно началась работа по подготовке школ к учебному процессу. Данные о работе школ до этого периода практически отсутствуют.
В процессе подготовки отделами просвещения была проделана огромная работа, которая в первую очередь коснулась корректировки учебных программ. Так, в программу начального образования включалось не более семи предметов: русский язык (сюда же входили пение, рисование, чистописание), немецкий язык, арифметика, география, естествознание, рукоделие (для девочек) или труд (для мальчиков), физкультура. Почасовой объем обучения предусматривал 18 часов в неделю для учащихся 1-х классов, 21 час – для учащихся 2-х классов, 24 часа – для учащихся 3-х классов, 26 часов – для учащихся 4-х классов (приложение 1. Таблица 2)[265]. В изданном германскими властями «Предписании для учителей» содержатся конкретные требования к знаниям по тому или иному предмету, указания по их изучению. Так, в результате четырехлетнего изучения немецкого языка учащиеся должны уметь «изъясняться по-немецки в повседневной жизни», курс русского языка предусматривал овладение навыками чтения, грамматику рекомендовалось изучать «постольку, поскольку это необходимо для достижения указанной цели». В процессе обучения природоведению рекомендовалось заниматься «преимущественно теми животными, растениями и явлениями природы, с которыми детям приходится иметь дело». Курс арифметики включал: для 1-х классов – действия с числами от 1 до 10, для 2-х классов – от 10 до 100, для 3-х классов – от 100 до 1000, в 4-х классах – от 1000 до любой величины. На уроках пения позволялось «петь только русские народные и церковные песни. Пение песен политического содержания воспрещается»[266].
Наряду с корректировкой программ изымались предметы, которые отделы просвещения сочли ненужными. Так, в первой семилетней школе Брянска на 1942/43 учебный год было запланировано преподавание всего семи предметов: русского и немецкого языков, Закона Божьего, математики, физики, химии, географии[267]. Впоследствии в программу школ Брянского округа решили добавить еще четыре дисциплины: географию, историю, естествознание и обществоведение[268].
В ряде школ вводился новый предмет – Закон Божий, к преподаванию которого привлекались наспех подготовленные для этой цели законоучители. Однако повсеместного охвата школ этим предметом не произошло, в основном из-за нехватки соответствующих учителей, а также из-за нежелания подрывать авторитет новой власти. Так, в Клинцовском округе, включавшем десять районов, окруж-
ной бургомистр Грецкий, выступая 18 мая 1942 г. на совещании районных бургомистров, выразил недовольство по поводу широкого охвата школ преподаванием Закона Божьего. При этом пояснил: «Хотя нет возражений против преподавания этого предмета, но за отсутствием в данное время квалифицированных преподавателей предлагается по принципиальным причинам воздержаться от преподавания этой дисциплины, чтобы не создавать ложного представления об учителе, так как эти же учителя в советской школе говорили совсем другое»[269]. К концу 1942 г. удалось наладить преподавание Закона Божьего в большинстве школ. В частности, на декабрь 1942 г. из четырех школ Брянска Закон Божий не преподавался лишь в школе № 3 по причине отсутствия преподавателя. В других трех брянских школах этот предмет вели женщины, выделенные церковной администрацией. В школах № 1 и 2 Закон Божий не входил в перечень обязательных дисциплин, его посещали лишь дети, родители которых выразили такое желание[270]. В некоторых оккупированных областях преподавание Закона Божьего в светских школах началось с еще большим опозданием. Так, в школах Смоленска этот предмет был введен лишь в мае 1943 г., преподавали его священнослужители церквей города. В частности, в школе № 3, по просьбе ее директора В. Н. Гришина, Закон Божий вел настоятель Гурь евской церкви Евгений Лызлов[271]. Если верить оккупационной коллаборационистской прессе, предмет воспринимался школьниками с большим интересом, а их родители поддерживали введение Закона Божьего в школьную программу[272].
Особое отношение как у германских оккупационных властей (политического отдела), так и у отделов просвещения было к истории, как предмету идеологически нагруженному. Хотя ведущее место и отводилось истории России, однако учителям предписывалось делать основной акцент на положительные стороны европейской ориентации России. Например, при изучении колонизаторской деятельности самодержавия требовалось особо подчеркивать позитивные итоги переселения немецких крестьян в Россию. Необходимо было останавливаться на эпохе русского абсолютизма, истории развития крестьянства, крестьянских реформ. Обязательным разделом стало изучение истории христианства в России, его положительного влияния на все стороны политики и быта населения. Напротив, в ходе уроков, посвященных истории еврейства, от учителей требовалось не жалеть черной краски, освещая негатив, внесенный евреями в российскую историю[273].
В ходе изучения тех или иных событий от учителей истории требовалось умение дать им нужную трактовку. В частности, уметь провести параллели между «созидающей» и «разрушающей» революцией. Под первой понимался приход нацистов к власти в январе 1933 г., под второй – приход к власти большевиков в октябре 1917 г. При этом учителю вменялось в обязанность разоблачать большевизм и марксизм «как чуждые и лживые доктрины»[274].
Ввиду всего этого к историкам-предметникам предъявлялись особые требования, им необходимо было иметь «культурную зрелость и наличие знаний европейской культуры»[275]. С этой целью на различных учительских комиссиях в повестку дня включались доклады с критикой марксистских основ истории. Попутно из учебников и программ изымался весь тенденциозный материал, например восхваляющий советский строй. Однако учителей, полностью удовлетворяющих предъявляемым требованиям, остро не хватало, поэтому в ряде школ предмет истории вообще не включался в программу[276].
Обучение школьников в большинстве случаев производилось по советским учебникам, которые по указанию местных комендатур подвергались корректировке. В частности, из всех учебников, даже математических задачников, исключались неологизмы, возникшие при советской власти. Например, производилась следующая замена слов: «колхоз» – «деревня», «колхозник» – «крестьянин», «товарищ» – «гражданин», «господин», «СССР» – «Россия», «советский» – «русский» и т. д.[277] К этой работе привлекались коллаборационисты из числа школьных учителей и руководящих работников отделов просвещения городских и районных управ. Так, в Брянске накануне нового учебного года, в августе 1942 г., при школьном отделе Брянской окружной управы приступила к работе Особая комиссия по корректированию программы и пересмотру школьных учебников, созданная из городских и сельских учителей. По сообщению прессы, «на долю этой комиссии выпала большая работа по очистке программы и учебников от всякого коммунистического хлама и подбору более ценного материала»[278]. Лишь в северных областях РСФСР для русских школ использовались изданные в Риге учебники. Тиражи были недостаточными, ввиду чего при распределении учебников по школам один учебник приходился на трех учащихся[279]. Однако ввиду недостатка новых учебников и запрета использования советских немало школ, в частности Калининской области, осуществляли лишь словесное обучение – без учебной литературы[280].
Значительное место уделялось воспитательной работе, которая в основных чертах копировала воспитательную работу, существовавшую при советской власти, изменения коснулись лишь ее идеологической направленности. Так, на оккупированной территории Калининской области обязательными стали регулярные беседы на темы «Германия – освободительница русской земли от большевистского ига», «Чтение биографии Адольфа Гитлера». В одном из планов воспитательной работы 4-го класса говорилось о необходимости «прививать навыки духовной культуры: а) повседневно следить и требовать от детей вежливого отношения к учителям, к родителям, ко всем старшим, особенно к германскому командованию, германским солдатам; б) научить молиться Богу путем активного участия на общей линейке утром и после уроков на молитве в классе; в) научить детей благоговейно относиться к иконам и церкви путем бесед в четверг на каждой неделе»[281]. Однако основная ориентация делалась на положительный пример Германии. Так, в плане воспитательной работы 5-го класса на этот счет говорилось: «В ежедневной работе с классом подчеркивать разницу в зажиточной, культурной и счастливой жизни рабочих и крестьян новой Европы и закрепощение их в советской России благодаря методам марксизма. Прививать любовь к труду, особенно к труду крестьянина, указав, что в Германии работа крестьянина почетна и трудовая повинность обязательна»[282].
Соответствующей идеологической обработке подвергался и педагогический персонал, которому вменялось, в добровольном или принудительном порядке, следовать установкам оккупационных властей и органов местного самоуправления. В изданном германскими властями «Предписании для учителей», в частности, говорится: «Учителя обязаны во всех отношениях считаться с интересами германских военных властей, нарушение этого принципа будет считаться саботажем и караться по законам военного времени»[283]. Так, в Орле учителя, даже неработающие, были обязаны прослушать «Курс педагогической переподготовки»[284]. В Ржеве Калининской области работу школ контролировал представитель комендатуры оберлейтенант Роланд Фрейгерт. Он надзирал за настроениями учителей, особенно преподававших идеологически нагруженные дисциплины – литературу, историю, обществоведение, географию. Проводя собрания учителей, он внушал, что «ничего коммунистического, советского не должно быть. В советской школе нет порядка. Ученики недисциплинированны, невоспитанны и безграмотны»[285]. В Брянске для учителей открылась специальная политическая школа, контролировал работу которой офицер гестапо, историк по образованию, Ферч. Штат сотрудников политшколы включал начальника, библиотекаря, лекторов, работников канцелярии – всего пять-шесть человек. Помимо привития интеллигенции нужной идеологии, школа готовила кадры пропагандистов, для чего организовывались курсы, программа которых предусматривала усвоение десяти тем соответствующей направленности: «Биография А. Гитлера», «Новая Европа», «Расы и расовая теория» и т. д.[286] Политшкола стала в некотором роде координирующим центром, ответственным за проведение мероприятий, направленных на политическую переподготовку учителей, составление учебных планов. В дальнейшем на базе политшколы планировалось открыть курсы для учителей, где бы они получали знания о Германии и национал-социализме[287]. Кроме того, использовались иные методы идеологического воздействия на учителей. Так, 26–28 сентября 1942 г. в Брянске прошла учительская конференция. В прозвучавшем на ней докладе «О задачах новой школы» инспектор окружной управы отметил, что объем знаний остается прежним, но меняется их идеологическая направленность. В ходе работы учительских предметных секций просматривались учебные программы, из них изымался идеологически неприемлемый материал. Так, из программ начальных классов изымались все коммунистические песни, в частности «Марш октябрят»[288]. Учителям же «рекомендовалось» больше знакомить учащихся с бытом германского рабочего[289]. 18 января 1943 г. начали работу десятидневные курсы для учителей, преподававших историю в школах Брянского округа[290].
