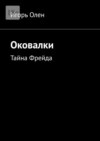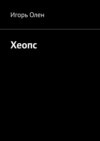Loe raamatut: «Rusология. Хроники Квашниных»
© Игорь Олен, 2022
ISBN 978-5-4483-5831-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I Малый
IВ 1999-ом я, урождённый Кваснин П. М., не прижившийся в триколорной РФ индивид и назём в скором будущем, занемог, не вставал до конца февраля, но и в марте был плох и каялся: жилы высохли, а язык впал в гортань мою! Был я зрелым избыточно, чтоб надеяться на ветшавшую плоть, на удачи, щедрые к юности, и детей, – их и не было у меня, чад взрослых. Был только маленький… Был второй, но давно, я забыл когда… И, к тому ж, не имел я богатств, был беден, что, как в России, так всюду, плохо.
Близился срок. В томлении по ушедшим, милым мне фактам, вздумал я в место, связанное с моей судьбой и с фамильной. Это при том, что жить казалось бессмысленным; смысл пропал мироздания… как бы в чем-то и Бога, – в чем-то, sic!, ведь сулит Он смысл за гробом. Вот что устроилось, хоть я верую и обвык так считать в душе. Я сбегáл, точней, в безысходности. Плюс заботы, необъяснимые хворью, выплыли, требуя ехать в данное место, пусть, сказать правду, больше я никуда не мог.
Дни стремились за плюс, на оттепель; дело стало возможным. Выезд спланирован был на пятницу, двадцать пятого (за неделю до Вербного воскр.) числа, ранним утром. Ехали в опустелый край и в ограбленный да растащенный, а верней, в разграбляемый, расхищаемый ежегодно, – коль в существующий дом вообще.
Есть, кстати, в русском яз. «разграбляемый»? Вряд ли. Но в прежнем быте многого не было. Нынче – есть. Подогнать слово к жизни – грех допустимый, даже и нужный, и не сравнимый с порчею, скажем, нации. Я лингвист, – был, поправлюсь, – мир во мне зиждим словом. Так что единственно, чем могу реагировать на творимое со мной миром и отражать его, есть словесные выпады… В темноте, когда дворник мёл улицу и похрустывал льдом из луж, я, прогрев мою «ниву», стал заполнять её одеялами и матрасами, провиантом, одеждой, скарбом, посудой и барахлом для нас – для себя и для сына, с коим хотел побыть в предвесеньи, чтобы избыть тоску, а его, чадо города, сроднить с местом, нам памятным.
Собрались. Покатили.
Я оставлял Москву, где трудился – но потерял всё в мгле девяностых.
Хоть я не верю в рок, от него есть свидетели – род мой. Он был известен в старой Московии, не в петровской, европистой с виду, и не в советской; да и не в ельцинской. Нет ошибки: я «Кваснин» в буквах, кровью же – «Квашнин» чистый, в меру беспримесный; объяснил бы, если б нужда была, отчего и зачем субституция «ш» на «с» вышла. От давней славы род сберёг стать мужчин, шарм женщин, гордость предания, пару писем и – брáтину, злато-сéребро для застолий. В тыща четыреста тридцать третьем, после разгрома на Клязьме и в пору бегства князя Московского и Великого по прозванию Тёмный1, доблестный пращур мой, черносошный мужик, отразил врагов. Он орудовал, будто, грозной рогатиной. Спасся лишь воевода, это поведавший. Государь искал близких героя: «Сыщется муже, буди ми стольник, жено же – одаряти все милосты». Неудачливый полководец, но и правитель, он одолел-таки претендентов: быть умел благодарным? (Странно, что и державинский предок, некий Багрим-мурза, из Большой Орды тоже съехал в Москву при Тёмном). Вызванный из курной избы, пращур мой вскоре в тонких сафьянах топал в Кремле, в лад байке: из грязи в князи. Но столь же верно, что он весь век свой травлен был знатью; лишь браком с истинной Квашниной скрыл низкость. (Вновь нет ошибки. Пращур мой, из безвестного рода, назван по местности: костромская Квашнинка, сгинувшая в столетьях).
Здесь вопрос – Квашниных столбовых (бояр), с нами слитых царственной волей. Мы привились к ним, но кровь взяла своё, ветви вновь разбегаются: мелочь к нам, неустойчивым, возвышаемым и свергаемым, а исконная, эскалируя, до Самариных-Квашниных, вельмож. Что относится к костромским, к крестьянским, к нам то бишь, – еле трогает Квашниных старинных с их тремястами лет родовитости и с легендой о выходе благородного предка из «Сакс» (плюс «Рюрик», «Прус» и «Литовии», вплоть до «Рима»), – не из дремучего захолустья ведь! Чтя, однако, генетику, именную и кровную, я отыскивал и о тех Квашниных, боярах.
Список Макария: «Некто с киевских именитых муж, Родион Несторович з сыне в службе московския». Свод шестнадцатого столетия: «Зван был Нестор Рябец Смоленский…» Это исток Квашниных (старинных).
В 1337-ом, в битве, кажется, с тверичанами, Родион Квашнин одного из изменников «длань своима уби и главу его государю везе на пике, да и рече ему: господине, се ворога, месника персть еси».
В Куликовском сражении, Дм. Донского после ранений вынесли воины из полка воеводы, кто был Квашня И. Р. Первый русский, а не заёмный у греков, митрополит был Квашнин вновь…
Вот, вкратце, старшие Квашнины. Вот масштаб тузов как Московского царства, так и Империи: волостелей, оружничих, ловчих, стольников, герольдмейстеров, воевод и епископов, генералов, тайных советников, губернаторов и синодских надсмотрщиков Квашниных как предтеч нас, младших, сермяжных. Факт для сравнения: при Иване IV дьяк Квашнин, столбовой, из старинных, ездил в Рим с грамотой; а другой, костромской, быв в опричнине, гнал их, дабы мы, младшие, подхватили боярство, и при недужном набожном Фёдоре вышел в кравчие. Сын его, с Годуновым, сделался свой царю, стал окольничим и старался в реформах; он с Годуновым в лету и канул. Всплыли с Лжедмитрием; но коль многие (взять Романовых, получивших трон) укрепились, мы ослабели. При Алексее выбились в Думу, были послами (в Крым и Германию, также в Швецию), воеводами (в Новград-Северске, где Квашнин трагедийно пал при осаде), правили Мценском и пограничьем. Это – предания, фрагментарные и такого порядка, как в разговоре кто-нибудь выскажет, что при Грозном предок был тем-то, мол, а при Павле – вот этим. Беды у младших; старшие – в славе…
Но, впрочем, всё равно, столбовой Квашнин, сельский либо их помесь. Тонкости лишни и здесь не значат. Старшие всем берут, кроме (в чём и пикантность): их патримонии2 все утеряны, меж концом и началом только легенды. А у нас – вещь. Реальная. То есть брáтина, злато-сéребро с текстом: «День иже створи бог, взрадуем, взвеселимся в он, яко бог избавляет ны от врагов наш и покори враг под стопы нам, главы змиевы сокрушаи»… Я порой глажу хладные формы в сеточках пáтины. За окном круговерть: ложь, свары, алчность и хамство, пошлость и горе, бедность и муки, фальшь и разбои. Я же вне времени, при незыблемом корне, что есть традиция, русскость, якорь в истории… При Петре Квашнины обучались в Голландии как «птенцы гнезда». Но они были русские без неметчины, насаждавшей, кроме одежд, чин пьянства, войн и дебошей. «Мыслю, – так, по легенде, наш Квашнин укорял царя, – хоть мы аки скот в хлеве, грязны и глупы, компас не ведам, в немцы не хощем; но днесь разбойникам честь, убивцам; войски да флоты многи не надобны, поелику землёю русской не справимся, а она велика есть. Также немилостно тяготить к войне, да немецкия нови, коль русскость в скудости. Парадиз твой для избранных сотворяши, тыщи же голь одна. Что стремишься от русских нас? Мы Европей не хуже, ибо мы Русь Свята…»
Квашнины (не Самарины) кто случился в Якутске, кто пал под пыткой либо в чинах отстал, а кто сослан в деревню бедствовать, из бояр став дворянчики костромские, тульские и, спустя поколение, – однодворцы. Некую Квашнину П. (может, Пульхерию) взял купец Самоквасов, вроде, при Павле. В век Александра ветвь Самоквасовых-Квашниных блеснула первогильдейством, в век николаевский – разорилась, сгинула в писарях, гувернантках, мелких чиновниках, разночинцах, дьяконах, свахах.
Нам не везло. Весьма.
Но порой дух парит от квашнинского векового барства!..
Я с облегчением покидал Москву. Сзади, в скарбе, теснился мой пятилетний, длинный и тонкий, в мать, светлый мальчик.
– Мы с тобой как Багров-внук к дедушке, – я сказал.
– Он каким был, пап, Багров-внук? Объясни, чтоб я знал его.
В рассуждениях о башкирских степях Аксакова, о деревне Багрово, Бугуруслане и Куролесове я катил; а потом свернул к центру.
В Л. переулке я, с сыном зá руку, выбрел к офису с серебристыми окнами, сделал шаг по ступеням чёрного пластика, чтоб прочесть гравировку чёрным в серебряном: «1-ый Пряный завод Г. Маркина», — тронул кнопку, тихо вошёл вовнутрь. Фешенебельный интерьер и клерки (девушки в чёрном, юноши в галстучках) – всем владел мой друг детства. Нас поприветствовали: «Оу! Здравствуйте!» Но я знал, чтó реально будущий вон тот Гейтс, в двадцать пять разъезжающий в «порше» и побывавший в Фивах и в Англии, либо та мисс Изысканность с карьеристской ухваткой – чтó они думают про облезлую и набитую скарбом «ниву» и про меня, в довес, в моих старых ботинках и в старой куртке над свитером, дурно бритого, долговязого до сутулости и худого, с тусклыми взорами (в драных также носках, понятно), с мальчиком в шубке, траченной молью.
В стильной приёмной Мила-ресепшн встала из-за стеклянного делового бюро, отворила дверь.
В кабинете сквозь чёрные жалюзи бил свет. Прозрачный стенд являл пряности: бусы перцев, стружку корицы, огненную сыпь чили, рыжий шафран, ваниль и изысканный кардамон, гвоздику, светлокаштановый порошок имбиря, ядра муската, тысячелистник, тмин и базилик, лавр и аир, котовник, мяту, солодку, стевию и бадьян, монарду, фенхель с анисом. Пахло как в тропиках. Чёрный стол вмещал ноутбук, фотографию на подставке, сотовый, органайзеры, документы. В кресле был некто с сивою чёлкой и в мешковатом, словно на вырост, стильном костюме. Он улыбался мне и растягивал сеть морщин у глаз (только нос, аккуратный, даже изящный, выглядел юно). Где-то с опущенной вниз руки с сигаретой плыл редкий дым.
Се «Марка», он же Георгий Матвеевич, мой друг детства. Мы с ним с Приморья. Там, сорок лет назад, мы с ним плавали на плотах в разливы, с луком охотились на фазанов, крали детали для «космолётов» из технопарка воинской части. Там под ноябрьским солнечным ветром мы с ним стояли возле парадных стройных расчётов вместе с отцами. Я был романтик, плачущий от сверкания труб оркестра. Он был прагматик, знавший структуру, полный состав полка, всю конкретику. Мы и рыбу ловили: я чтобы есть её, Марка – выменять и продать. В итоге он заимел тьму денег. Я был должник его.
Посмотрев на донжон золотистых часов под ретро, он поздоровался со мной зá руку.
– Выпьешь?
– Нет, за рулём.
– Подобию, – подтолкнул он сонному чаду трюфели в малахитовой чашке. – Нá, Антош… Чем обязан?
Я, сев в зелёное и скрипучее кресло (сын сел в соседнее), начал: – Ты не обязан. Я, я обязан.
Он, взяв коньяк (Martell), плесканул его в рюмку, медленно выпил и затянулся, вздев сигарету между двух пальцев. Он, верно, думал, что я про кедр? Мне вспомнилось: много лет назад я в своей долговязости не успел бежать; твёрдый, в жёстких чешуйках и в смоляных подтёках, ствол привалил меня; Марка вырыл близ яму, чтобы я сполз туда. Или как, покидая «Челюскин», где мы подвыпили, я увидел вдруг нож (отчего я был выбран, не из-за роста ли? впрочем, мне не везло всегда); на боку моём до сих пор шрам; Марка отвёл удар.
– Нет, не то, – я прервал его. – В том я жизнь тебе должен, и это помню… – Я помолчал. – Нет, деньги. В целом немалые, Марка, деньги, – я уточнил тотчас, раз сидел с лордом пряностей и с недюжинным биржевым посредником. – Речь о них. О них.
В девяносто четвёртом – был третий год реформ – он приехал. Просто зашёл в НИИ, в наш отдел: роста среднего, мешковато одетый, в искристой шляпе и с сигаретой в двух прямых пальцах, вдрызг «новый русский». Прибыл для дел в Москве, пояснил он, и рассказал про «Владик» (Владивосток), где жил тогда (где я сам отучился в ДВГУ, филфак), где теперь криминал и чиновники рвали бизнес; автомобили, рыбная сфера, лесоповал – всё «схвачено». Он пытался пристроиться, сделал пару афер, был в розыске, и не только милицией. Начал он с разведенья песцов; обманут был. Закатился в другой район, где на станции карбамид – ничей. Он забыл бы факт, но услышал вдруг, что китайские фермеры ищут тысячи… миллионы тонн карбамида и платят доллары. Гарнизон, где мы жили с ним в детстве, был по-соседству, и офицеры за выпивку, за подарки, «просто так» помогли. Он снял «нал» в инвалюте, создал «East.comm» (торговля) и пирамиду, схожую с «МММ», крал медь с алюминием и титан в лётной технике; убежал от бандитов вроде в Малайзию, был во Франции. Он мне много открыл тогда. (Я не спрашивал, я тогда с горя пьянствовал не без повода; ну, а нация хапала, попирая друг друга). В баре той встречи я взял горчицу, чтоб сдобрить рыбу. И он придумал вдруг, что не спирт, не компьютеры, не строительство, а он специи выберет как прикрытие дел на бирже и авантюр своих, также, кстати, как промысел. В подмосковном Кадольске, после и в Митрове, он в цеха старых фабрик, снятых в аренду, ввёз автоматы, добыл продукцию и, под слоганом «Первый Пряный Завод Г. Маркина», спёк дешёвые, позже фирменные, с ярким лейблом, пакетики; разместил в Москве и по области склады, в частности, на востоке и севере, для приезжих. Вытеснен из НИИ безденежьем и ненужностью, оказалось, лингвистики (но и тем, что случилось в семье моей, отчего мне с трудом с тех пор доставалась усидчивость и возникло желание смены мест), я стал дилером Марки: брал его пряности и сбывал их. Впрочем, брал пряности и в других местах.
– Для меня, Марка, деньги, – я продолжал.
Съев пятый, кажется, «трюфель», сын был испачканный, а обёртки совал в карман, озирая худого сивого дядю.
– Думаю, тысяч тридцать у. е., – открыл я (в мире инфляции всё считают на доллары, а зовут их «у. е.»). – Тридцать тысяч. Может, и больше.
– Квас, мы узнаем.
Вызванный клерк, сказав, что за мной «кредит в тридцать тысяч четыреста тридцать долларов восемь центов», быстро поправил чёрный свой галстучек и ушёл.
– И…? – бросил Марка.
– В общем, не знаю, как их верну.
Он взглядывал на часы.
– Жду венгров, ты извини уж… Если на вскидку, твой процент должен быть пятьдесят или сорок, чтобы кормить тебя. А тут кризисы, конкуренция; век посредников сякнет; и ты стал лишний. Год назад либо три ты работал кой с какой пользой. В наши дни даже я в поту. У тебя Ника с сыном… – Он качнул сигаретой. – Что с тобой делать? Ну, предположим… Знаешь немецкий? Скажем, беру тебя переводчиком. Не ходи, лишь в бумагах ставь подпись. – И он глотнул коньяк: – Щепетилен? Но ты на жалованье и так, раз должен.
– Нет, – возразил я. – Хворости… Потеряю свободу… Главное, жуть устал – от условностей, от у. е. устал. От условных вещей устал. Мне почти пятьдесят и… Хватит… Я благодарен, но не хотел бы… Ты и я… Ведь у нас много общего в прошлом, вольного, чистого… Деньги портят… Ты очень дорог мне… Нет, прости… Долг отдам… После… Ладно? Ты ведь потерпишь?
– Ника как? Я пол-года здесь не был.
Я б налгал, что пришла в себя, безмятежна, уравновешенна, как бывало, и тихо радостна (умолчав, что болел и тянула одна, мы в долгах и мне страшно: страшное есть предчувствие). Марка был за границей, и он не знал всего. Я б налгал ему запросто. Но в дверь сунулась морда в кремовом галстуке, коя гаркнула, хочет, «слышь, без свидетелей, побазарить пяток минут».
– Тайн не держим, – щурился Марка.
– Зря, – гость свалился подле нас кресло. – Кто много знает, он долго мучится. Это, Библия.
Марка ждал.
Гость комплекцией был борец. – Вам босс, Николай Николаич, типа там, кланялся. Он слыхал про вас, когда вы звались Маркой, делая на востоке нашей отчизны, – мы её любим, – всяческий бизнес. Вдруг вы слиняли. Но он нашёл вас. Он из Госдумы, он может всех найти. Николай Николаич, он, типа, кланялся и вас хочет в партнёры… Хаза отпадная… – Гость глазел вокруг. – Мы охранная фирма; это, спортсмены там, из спецов, те де. Наши лучше. Вашего тронул – он сразу свянул; вон, слышь, кудахчет. Мы вам полезные, Николай Николаич это считает. То есть вас ищут важные люди, вроде Корейца, а у вас фирма, также семья притом, чтоб туда-сюда вскачь скакать серым козликом… Николай Николаич с авторитетом. Я вам понятно? В ценах сойдёмся, тут без проблем, ништяк. Николай Николаичу каждый… – Резко пресёкшись, гость вынул трубку, склочно звонившую, и спросил: – Гвоздь, ты?.. Что?.. Базлает?.. Падла не хочет?.. Вскорости буду… сделаем… Извиняйте, – спрятал он трубку. – Это, подумайте. Преступления против личности вам не надо? Сёдня прихлопнули, прямо в «мерсе», ну, с «Оптимбанка» -то. Ба-альшой был! Очень бальшой вип!
Марка смеялся. – Сколь замечательный человек ваш босс! Мой респект ему. Но я связан контрактом; нет причин к беспокойству.
– Будут причины! Ваши заводики… Слышь, не цените вы, не цените… – Гость, крутя плечом, подымался. – Буром не прём, не думайте. Николай Николаич мог бы восток качнуть, там, братву и Корейца. Но понимает, кто вы и что. Вот номер… – Он вынул карточку. – Днём и ночью. Мало че пе кругом? – Он кивнул мне. – В этих всех случаях, говорит Николай Николаич, нужно закваски. Рад был, в натуре… – И, убрав непожатую толстопалую лодочку, гость пошёл к двери, как горилла.
Сразу и я встал. Хоть мы не виделись, может, с лета (хворь моя и отъезд его), я корыстью: выклянчить денег, – пусть без того был должен. Но, то ли так ослаб, что стал совестлив, я не мог просить и сказал лишь: – Первый визит таких? Гадко. Пакостно.
Он кивнул.
– След с Востока? Что ты там делал?
– Я делал деньги, крупные деньги. Я генетический спекулянт… Кореец? Авторитет? Да, было. Я с ним делился. Он счёл, что мало.
– Офис – не в банке счёт, не упрячешь. Будь осторожнее. И семья твоя…
Он допил коньяк.
– Дочь с женою на Мальте, скоро приедут. Я позабочусь… Не таковую я жизнь хотел, – продолжал он. – Двигаю деньги, биржи и акции; вот завод веду. Из столпов, дескать, рынка, «Форбсом» отмечен… – Он почесал нос кончиком пальца; между других двух был его «Кэмел», вяло дымивший. – Только ведь было всё уже, было: эти Морозовы и Гобсéки. Где они? Для чего теперь мы: Кац, Факсельберг, Фриман, Шустерман? Революция – не экспромт от нехватки хлеба, как утверждают…
В дверь вошла Мила. – Гости!
Марка шагнул ко мне. – Извини, бизнес-встреча… Чаще звони, Квас. Встретимся.
Я повёл сына к выходу. Мне навстречу шли люди, разные венгры. Ярость напала, я зашагал на них. Дурно выгляжу? Но я здесь на своей земле! – возбудились мысли. Я здесь, в России, странной, блаженной, нам воспретившей культы маммоны! Вспомнилось, что есть русские, кто, кляня иноверие, безоглядно заимствуют чуждый быт, как будто бы тот не следствие чуждых принципов, словно внешне быть кем-то не означает, что ты внутри как он. Но что я из себя являю, пусть неудачливый, надмевался я, – за тем русскость и право гордо здесь нынче шествовать. Чудилось, когда шёл на них, респектабельных и ухоженных, словно русского выше нет, словно я несусветно, непревзойдённо прав! Пусть Фиджи, «бентли», пентхаус не про таких, как я, но под ними – моя земля! пращур мой здесь владел! – я мыслил в жажде явить им смутное и неясное самому себе, но громадное и несметное, вдохновенное до восторга, это ужо вам!!!! Встречные жались в видимом страхе. Я миновал холл, вышел вон и, втянув звонкий воздух, выдохся. Здесь, в колодце домов под солнцем, чвикали птички, пáрили кучи грязного снега, лёд в лужах плавился… Гулко хлопнул я дверцей «нивы». Гул и хмельная, томная оглушённость – только в Москве весной в старых улочках. Я следил, как у задних дверей магазина выгрузили груз лакомый: вина, сыр, сласти, булочки.
– Ешьте пресный хлеб! – объявил я, предупредив хнык сына что-нибудь прикупить: средств не было на еду, тем более на поездку; топлива – на полста км. Всего не было, кроме тяги… или стремления… не стремления – а потребности ехать словно бы в тайну, нужную сыну, бывшему сзади, Нике, жене моей, но и мне и всему, верно, свету. Я здесь для денег – и не для денег. Я съездил к близкому перед нечто, что всё изменит, вот что я понял.
Деньги же выпрошу у приятеля, с кем знаком со студенчества, когда он читал Диккенса под коньяк и джин, бормоча в слезах, чтоб я вник в судьбу принца Уэльского, коим он, дескать, был (вставлялось, что, кроме этого, он не «Шмыгов», а «Шереметев», то есть он наш-таки, из российских). Пить-то он пил, но виделось, что цель знает. Мы с ним расстались: я на Восток к себе, он в Москву. Забылось бы, не случись переезд мой тоже в столицу. Он служил в МИДе и вёл при встречах лишь о себе одном, открывал министерские тайны, сплетничал. Я, ведом идеалами, брезговал трёпом, но притом чувствовал, что, пиши мемуары, он бы прославился по любви своей к факту. Вдруг он пропал, Бог весть куда. Без него шёл спектакль воровства и распада в бывшем Союзе. Он возник в девяностых, предом от шведской электрофирмы. В пятницы мы ходили по барам (он их отыскивал в новомодной Москве повсюду), вёл о Европе, где не пристроился, о своём новом месте и о правительстве, где он взятками всех имел-де. Пил он чрезмерно, делаясь жалким, то вдруг заносчивым. Ему было полста почти; щёки впалые, чернь волос (парик) с серебристостью, голливудские зубы, плюс нечто кунье в облике и в повадке. Женщин с ним не было, он о них заговаривал редко. Я к нему ехал.
– Чувствуют взрослые? – произнёс сын.
И я опомнился. Здесь со мной моя кровь, здесь живая душа, о которой забыли. Ради него, в том числе, я и еду, но – игнорирую, поместив среди скарба и бродя в прошлом, в сгинувших фактах.
– Что, сынок?
– Дети чувствуют, – пояснил он. – Взрослые чувствуют?
– По-другому.
Да, я не знал ответ. Много прожито, полон знаний и опыта, а – не знал.
– Иначе, – стал я домысливать, выезжая к бульварам. – Чувствуют смутно. (Он молча слушал). Взрослые, Тоша, чувствуют мельче, как бы условно; даже сам Моцарт. Чувствуют постно и через мысли, словно в тумане. Вроде как спят всю жизнь.
– Есть хочу, папа. Булочку.
Я пристал к ряду зданий, где, в белизне с чернотой стола, Шмыгов, модный очками, вскрикивал в трубку пафосным голосом; лента факса ждала его. В смежной комнате кашлял служащий, а другой тэт-а-тэтил лазерный принтер. Некто из юных был подле Шмыгова: в белоснежной фланели с поднятым воротом, в молодёжных ботинках, с длинной серьгою, сизоволосый и прыщеват. Взяв сотовый, Шмыгов нас познакомил (жестами), и Калерий, так звался некто, глянул, как рыба, парою óкул. Вряд ли он сознавал меня, вряд ли чувствовал, что я жив вообще.
– Запарили! Утомили! – дёрнулся Шмыгов, кончив с мобильным и подымая трубку от факса, чтобы вопить в неё с прежним пафосом.
А я видел стеллаж с товаром: сенсоры, кнопки, лампы, плафоны, счётчики, разных типов реле и плафоны, вырезы утеплённых полов etc. Швеция… Как Россия – тоже окраина в хмурых влажных лесах. Но – Europe с тягой к вещности… Горе нам с бесконечной землёй, пленящей нас, не дающей познать себя! Вечно смотрим в даль, отвращая опасность и поспешая, где ни затронут вдруг непостижный, да и не наш совсем интерес. Безумные, злимся, лаемся во все стороны в напридуманных злыдней, пыжимся, мним весь мир больным – но мы сами больны. Смертельно.
– Всё! – Шмыгов снял очки с куньего и сухого лица. – Болтал с одним: мол, нам в честь дружба с вами, ценим посредников. У нас счёт в вашем банке… что, не «Москва» ваш банк? Он: берём у французоу, но он готоу смотреть наши цены и, твердит, банк «Москва» хоть и есть такой, но он пользует «Бизнесбанкинг», и реквизит назвал. Вот такие дела, dear мой герр Кваснин, сэр! Нравственный кризис. И аномия… – Он вынул «ронсон», бренд-зажигалку. К счастью не связанный никаким родством и имевший счёт за границей (чем и прихвастывал), он встречал беды смехом. – Я расскажу, чёрт… Парни, чайкý нам! – бросил он служащим и зажёг сигарету. – Я жил в Советах, есть малый опыт. Как раньше было? К нам от французов, но и от турок лектрофигня плыла, чтоб под еуростандарты, – он кивнул на стеллаж, дымя. – Турок выперли за халтуру. Шмыгов же – и французов вон, «Лигерана». Был экстра-класс! И где он? Где-нибудь, но никак не в престольной, где Феликс Шмыгов сверг его для своей шведской мамы, чтоб сыметь бонус… Чай? – Он сел в кресло. – Блеск чаёк!.. Dear, знай, в каждой сделке мне – бонус, доля валютная. Чувствуя, что я асс, я – в Швецию, в головную контору вру, что вот-вот уйду к немцам в славный их «Симминс». И, одновременно, шлю контрактик в парочку лямов. С кем? А с КремЛЁМ шлю! Прежний торгпред их лям в десять лет слал. Шмыгов им – тридцать. Что они? Дали факс, что мне бонусы. А я в «Симминсе» НЕ был! – он лаял смехом. – Я сблефовал, сэр! Шмыгов, сэр, ТОТ ещё! – Он стряхнул пепел в пепельницу. – By the way, я звонил раз, но Береника… О, чёрт, забыл совсем! – подскочил он шарить в бумагах. – Где сучья карточка?!
– Феликс, денег бы, – попросил я. – Рубликов триста.
– Да без вопросоу! – Вынув бумажник из крокодиловой кожи («стоимость триста доллароу!»), он взглянул на потёртый, мятый мой вид. – Дошёл ты… Ну, как я шведов-то? Повышение на пять тысяч! Dear мой, помнишь бар, «Bishop’s finger»? Прямо сегоднячко в честь события…
– Не могу, – извинялся я, пряча деньги. – С сыном в деревню…
– Сколько лет?
Спрос досужий, как и обычно. Я сказал: «Пятый», – может быть, в сотый раз. Он спросил, как «вообще» дела, набирая вновь номер и извиняясь, что, мол, нужда звонить, и вопил абоненту, гладя Калерия. Я простился с ним. В мире сём я был лишний и отторгал сей мир эмиграцией.
Я сходил после в «Хлебный» взять сыну булочку. Мудрецы осудили бы вред муки с разрыхлителем, эмульгатором и отдушкой, варенной в сахаре, испечённой в трёхстах с лишним градусах в маргаринах, что распадаются на индолы-скатолы. Но я купил её. Мы давно в первородном грехе. Мы в vitium originis.
Я сообщил, как двигались в пробках, что он ест вредное.
– Почему?
– Потому что давно вместо хмелевых стали пользовать термофильные дрожжи; вред микрофлоре, так как в кишечнике квадрильоны бактерий…
– Деньги достал, пап?
Я глянул в зеркало: сзади ел булку мальчик.
– Неинтересно?
– Не-а, – трещал он. – Лучше про деньги. Все про хлеб мало, только про деньги. Я звонил бабушке, что игрушечный динозавр стóит – как её пенсия! И вы с мамой про деньги, не про бактерии. Разговаривали, я слышал, ты сказал, что займёшь их, чтобы нам съездить, а пока ездим, мама добудет. Деньги нужней.
Я понял, что я не стану, как Авраам из Библии (патриарх то бишь) важной личностью, респектабельным VIP-ом, базисом рода. Это во-первых. Кто я? Шваль, шушера, лузер, лавочник, слаб себя кормить, а не то что ещё кого. Школу кончил отлично, в ВУЗе позвали, помню, на кафедру, в НИИ к докторской приступал. Толк? Всё обвалилось, всё пошло прахом. Бездарь, кулёма, лох, неумеха… А во-вторых и в-десятых и окончательно – мне конец, если я, год болея, вижу жизнь, словно вещь вовне, словно мы разлучаемся.
– Деньги есть, – объявил я, съехав на МКАД. – Немного. Так, рублей триста.
– Столько, пап, динозаврик стоил! Что тут поделаешь, надо ехать… Ох, дети учатся или ходят в детсадики, а я езжу. Что тут не поделаешь? – лицемерил он.
МКАД была смертоносной: узкой, разбитой, с ямами между встречек, в язвах заторов. Мчащие хапать, грабить, паскудить (и побыстрее, чтоб себя сделать в новой формации), люди мёрли от стрессов в долгих стояниях, ссорились, убивали друг друга и расшибались. Вспыхнул раз бензовоз на спуске, я проскочил-таки перед взрывом. Лопалась камера – и в грязи, под дождём, ветром, снегом, с шансом быть сбитым, я заменял её. МКАД была точно дантов круг зла и агония с эмуляцией в нечто с ником «Россия».
О, неспроста всё!
Вдруг пробил час и явлено: «Возжелал Я запнуть сей мир и сгубить людей»?
Чур, Москва, ясли мерзостей, нянька зомби, монстр пожирающий, тварь стяжания! Да останешься в своей МКАД, как в зоне!
Нас ждал Кадольск – из пасынков, подражающих мачехе. В этом городе ста заводов, впавших в коллапсы и ставших складом импортной дряни, жили отец мой, мать и мой брат (больной); жили с самой отставки отца со службы. Мы к ним поехали, чтоб наутро и трогаться, благо, цель и их дом – на одной прямой.
«Нива» прянула в воле ровных, даже неистовых скоростей своих после жёванно-дёрганных и ходульных ритмов столицы. Мы неслись вдоль сверкания подмосковных полей в снегах. Магистраль («М-2») холодна пока для курортников, чтоб мчать в Сочи (в Крым), и для дачников. Оттого чаще мы обгоняли: фуры, автобусы и водил из «подснежников». Я топил педаль, чувствуя, как отзывчив старенький транспорт. Скорость под сто почти; «ниве» хватит… Но вдруг последовали рывки, мощь спала, и не на пятой, а на четвёртой… вскоре на первой рыкавшей скорости я дополз до обочины, вылез и, разглядев вдали съезд в Кадольск (первый съезд, их всего было три), отвалил капот. За спиной пёрли фуры, брызгая грязью с долгими рёвами. Наконец они стихли. Вновь возник шелест трав в полях, карк далёких ворон, скрип рощи… Я протёр жгут к свечам, изучать стал контакты… Разом надвинулась тень – джип, чёрный, с рингтульным тюнингом, «шевроле». Приспустилось стекло под сип:
– Малый, слышь? Где ловчее на Чапово, чтоб скорей? Нам туда.
«Малым» бросился стриженый, белобрысый, в белой рубашке, алый, словно придушенный, апоплектик, тип лет под сорок, с мутными глазками под белёсою бровью. Он был без шеи, с голосом сиплым… «Малый» – обидно. Но мы на трассе; здесь в цене помощь действием: объяснить маршрут, буксирнуть, одолжить домкрат, топливо. Апоплектик, выдавший «малый», может быть очень славный, лишь невоспитанный; да и звать меня по латыни именно «Малый». И я ответил: нужный съезд третий, где указатели на Клементьево и ш. Крымское, по какому в Кадольск и в Чапово.
Он взглянул на шофёра – на того самого, видел я, гостя Марки, в бежевом галстуке эмиссара-громилы некого «босса», и джип рванул вперёд, унося белый знак, особенный: шесть-шесть-шесть, – числа зверя, то ли иное что: «з 666 нн». Он спросил, значит, Чапово, где у Марки завод. Консенсус? Договорились? Едут принять объект? Вдруг спросивший – тот самый босс «Николай Николаич»?
«Малый…» – он обратился? Я не старик ещё, размышлял я, трогая с места, но и не «малый». Он так – по глупости, сам моложе меня, новорусскому навыку фанфаронов на джипах всех считать сором. Кстати, в провинции, куда едем, в правиле «малый». О, я там к «малому» не за день привык, усмотрев цель задеть меня! Апоплектик, в конце концов, мог быть в прошлом туляк.
Я ехал; и было жарко, как и всегда в закупоренной, с печкой, «ниве», движущей к югу. Но от просторов в яркости света я успокоился, будто выступил из поношенной кожи в новую, из червя в хризалиду – выступил и поплыл, восклицал поэт, в «хоры стройные»!