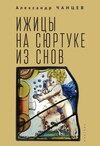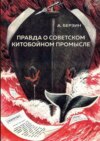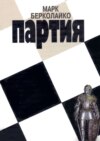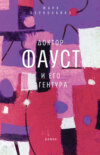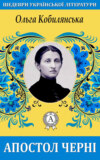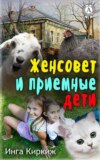Loe raamatut: «Зулумбийское величество»
© Инга Киркиж, текст, 2024
© Валентин Губарев, иллюстрация обложки, 2024
© Издательство бестселлеров Альтер Эго Бук, 2024
© ООО Альтер Эго Фильм, правообладатель, 2024
© ИП Дунаева Я. А., правообладатель, 2024
Все права защищены. Не допускается воспроизведение текста любым способом без указания автора и/или издательства Альтер Эго Бук.
* * *

Инга Киркиж – писатель, которую Борис Стругацкий еще на заре ее творчества, когда она писала под псевдонимом Аделаида Фортель, назвал «Надеждой русской фантастики".
Произведения зрелой Киркиж – это всегда непредсказуемый, захватывающий, интересный сюжет, который словно ребус – невозможно отложить, пока не разгадаешь.
Сочный, живой, меткий слог, яркие, запоминающиеся персонажи, многослойность нарратива – все это оставляет приятное послевкусие после первого прочтения. После второго – цепляет на крючок своей причудливости и выдумки так, что вы понимаете: эту книгу лучше держать под рукой, чтобы перечитывать, наслаждаться языком и каждый раз находить новые смыслы.
Рассказы
Бактерия-неваляшка
Всё в этом мире приводится в движение энергией Любви. Даже мировые катастрофы. Эта трагедия, получившая статус всемирной экологически-чистой катастрофы, не является исключением. Мало кто знает, что началась она в квартире блочного дома, являющейся собственностью человека, имени которого история не сохранила. Учёный себе и учёный, 34 года. Жил в Питере в Весёлом посёлке, как и остальные российские граждане, находящиеся, согласно мировой статистике, ниже черты бедности. Учёный, как и прочие российские граждане, своей нищеты не замечал: он покупал продукты в бюджетном универсаме «Пять копеек» на первом этаже своего дома и ходил на службу в лабораторию при Академии Наук. Учёный был человеком рациональным – не тратил времени на пустые разговоры, не читал глупых книг и без нужды в пространстве не перемещался. А потому единственная проблема, с которой он сталкивался, была проблема выноса мусора. Каждый день в его кухонной тумбочке скапливался мусор, состоящий из пластиковых пакетов с упаковками из-под готовой еды. Учёный выставлял его в прихожую, чтобы не забыть вынести. Но это не помогало. Убегая на работу, учёный уже в метро вспоминал, что пакет с мусором так и остался возле входной двери. Вечером рядом с ним уже стоял брат-двойник – точно такой же пакет с логотипом «Пять копеек». Через неделю в квартиру уже было сложно войти, а потому учёный трамбовал мусор в пакетах ногами, сминал его поплотнее и закидывал поверху вторым слоем мусора. Так и жил. Это ужасно не нравилось гостям учёного и раздражало его самого. Но он как-то существовал в таком режиме пятнадцать лет. Пока не появилась у него Любовь.
Её звали Настя, она работала в универсаме «Пять копеек» на первом этаже дома, в котором жил учёный. Она сидела за кассой и, поднимая глаза навстречу каждому покупателю, говорила: «Пакет нужен?» Все женщины за кассой вместо «здравствуйте» говорили «пакет нужен», но Настя говорила это так, словно её лично искренне интересовал этот бесхитростный вопрос. И от этого казалась не пустышкой, как остальной обслуживающий персонал универсама, а прекрасной дамой, наполненной глубоким внутренним содержанием. В общем, учёный втюрился в Настю и пригласил её в гости. А она взяла, да и пришла. И сразу напоролась на мусор. Мусор ей не понравился: он вонял, привлекал мух и загромождал путь к отступлению. Настя оценила ситуацию как опасную, попятилась бочком, бочком и к лифту. Первое свидание окончилось, так и не начавшись.
Учёный очень страдал и даже стал выносить мусор на помойку. Но только он успевал вынести два пакета, как на их месте тут же возникал ещё один – новый. Так что прогресс шёл медленными шажками и не утешал разбитое учёное сердце. Поэтому, будучи человеком ленивым, учёный пошёл путём научной эволюции. Он на недельку заперся в лаборатории и вывел бактерию, питающуюся пластиком. И никому о ней не сказал – а зачем? Бактерия была нужна ему, чтобы решить личную проблему, а решения личных проблем в Академии Наук не приветствовались.
Учёный вынес колонию бактерий в резиновой грелке, привязанной к животу, и поселил её в кухонной тумбочке, которую предварительно очень тщательно загерметизировал. Дальше оставалось просто скидывать в тумбочку пакеты с мусором и ждать, пока умницы-бактерии не выстроят в очередном пакете с логотипом «Пять копеек» свою сложно организованную цивилизацию и не проживут в ней сто двадцать поколений, размножаясь и хороня своих предков тут же, в пластике. То есть, минут пятнадцать. Далее, в качестве контроля за приростом населения тумбочки, надо было устроить бактериям локальный конец света: напустить на них засуху или кислотный дождь и выждать сутки, прежде чем помещать в тумбочку очередной пакет с мусором.
Фэн-шуй квартиры наладился, и жизнь учёного пошла в гору. Ему теперь не надо было пробираться в дом и из дома через мусорный перевал. Стали захаживать гости, и Настя, придя к нему во второй раз, не сбежала с порога, а прошла в квартиру и брезгливо уселась на засаленный диванчик. Учёный был вне себя от счастья и всё удивлялся своему неожиданному открытию: до чего же загадочные существа, эти женщины?!
Он вовсю старался понравиться Насте. Соблазнял её широтой своих познаний и высоким IQ своего учёного мозга. А Настя, слушая его хорошо поставленную речь, только позёвывала, округло открывая коралловый ротик. Но стоило ему кинуть в тумбочку пакет из-под молока, а через пятнадцать минут открыть её и продемонстрировать полнейшую пустоту, как Настя была сражена. Она отдалась учёному прямо на кухонном столе и в порыве страсти стонала, что хахалей-фокусников у неё ещё не было! У учёного на этом месте даже невольно поднялась самооценка.
Настя стала бегать к учёному в обеденные перерывы и перекуры. Она неистово, как весенняя кошка, предавалась любви прямо на пороге, а затем бросалась к волшебному «мусоропроводу» и кормила его принесённым с собой пластиком. А учёный смотрел на эту наивность и млел от чистоты души русской женщины. Он даже перестал контролировать прирост бактерий – ну, не отказывать же любовнице в её простодушной радости!
И однажды утром цивилизация кухонной тумбочки вырвалась из-под контроля. В тот день учёный проспал и не пошёл в Академию Наук – не сработал будильник на телефоне. Телефон тоже не сработал. Учёный хотел его подзарядить, но потерял зарядное устройство. Вместо него на полу лежала тонкая медная проволока с двумя металлическими штырьками на конце. Нормальный человек, глядя на это, сразу бы понял, куда делась зарядка. Но нашему учёному понадобилось ещё и взглянуть на электророзетку. Из стены торчали оголённые провода, уходили далеко по панелям дома, соединялись капиллярной системой электропитания с оголёнными проводами других квартир, превращая многоквартирную девятиэтажку в бомбу со взведённым детонатором. А в тумбочке для мусора зияла круглая дыра от проеденной пластиковой ручки.
Учёный на то и учёный, чтобы сразу оценить возникшую угрозу. Он тут же побежал вниз и обесточил дом, покромсал провода общего электрощитка. Спасение человечества, как известно, вещь наказуемая – он был схвачен жильцами и даже побит одним самым расстроенным соседом – тот и без того опаздывал, а тут такое хулиганство! После все они, конечно же, очень извинялись и по очереди ходили к учёному на поклон – сломанный щиток спас их дом от пожара. А сгорел почти весь квартал.
Оказалось, что, ну просто ужас, сколько всего на нашей планете сделано из пластика! В считаные дни Питер докатился до катастрофы. В универсаме «Пять копеек» в одночасье пропала упаковка со всех товаров. «Кока-кола» смешивалась с конфетами «Ментос» и фонтанировала на стены и потолки. В алкогольном отделе сошла лавина пивной пены и смешалась с текущей по полу молочной рекой, но, в конце концов, всё смыл кипяток из труб парового отопления. Когда наводнение схлынуло через пустые дверные проёмы, магазин заполнился покупателями. Катастрофа вызвала панику, и народ сметал всё, невзирая на товарный вид. Мороженое брали оголёнными брикетами, а колбасу – сразу очищенной от полиэтилена. Добычу несли по домам в жестяных вёдрах и алюминиевых тазах. Вообще металл очень поднялся в цене! Алюминиевый таз на барахолке уходил за стоимость пылесоса. Оно и понятно: пылесосы всё равно не работали. А таз – что ему сделается?
Бактерии шагали по городам и сёлам. По всей стране повылетали из своих гнёзд пластиковые окна и накрылись медным тазом иномарки. Малоимущий слой населения оказался в колоссальном преимуществе.
Запад спохватился не сразу. Москве ещё полгода удавалось делать вид, что у нас ничего не происходит. Как только правда всплыла наружу, Россию объявили страной под карантином. Но разве ж её удержишь – такую эпидемию? Хуже средневековой чумы! Русскую бактерию на западе окрестили «Неваляшкой» в честь знаменитой российской куклы, которую невозможно свалить с ног. Бактерия оказалась чем-то очень схожим, против неё не нашлось эффективного средства, и она за считаные дни развалила до основания экономику всех передовых стран. Больше всего пострадали США, у которых неожиданно стали рушиться небоскрёбы, хотя сами строительные компании уверяли своих граждан, что не использовали в строительстве пластик. Правительство, кстати, поддержало эту версию и подкрепило её выступлениями учёных, которые клялись, что на другом полушарии у русских бактерий поменялась магнитная полярность, и они, помимо пластика, начали жрать бетон.
Фигня на постном масле и наглая провокация – учёный это точно знал. Его бактерии не могли жрать бетон, они были заточены только под пластик.
Мировая катастрофа учёного не коснулась. Он уехал в деревню к бабушке, где происходящего кошмара практически не заметили. Уклад там сохранился патриархально-советский – железные грабли на деревянной ручке да водонапорные колонки – чего им сделается? Правда, однажды у всей деревни пропали пластиковые вёдра, и жители долго гадали, что это было: масштабное хулиганство или отлично организованная операция по борьбе с излишками. А на днях пришла растревоженная соседка и сказала, что ночью неизвестные стырили у неё все крышки на банках с вареньем – больше ничего не тронули, и, что примечательно, прикованный цепью к воротам пёс ни разу не тявкнул.
Учёный слушает всё это и помалкивает. Он согласен с правительством США – народ не должен знать правду, ему так спокойнее. Но вечерами учёный вспоминает Настю, её восторженную фразу: «А хахалей-фокусников у меня ещё не было!» – и сплёвывает табачную слюну: дура, мать её!..
Буриданова царица
Раньше меня страшно выводила из себя необходимость делать выбор. Я это ненавидела с детства. С того момента, когда мама спросила:
– Доченька, тебе какой турбокомпастер купить: синий или зелёный?
Надо сказать, разницы между ними не было никакой. Только один рисовал синим, а другой зелёным. И ладно бы, если хоть один из двух, предлагаемых на выбор, был жёлтый – я взяла бы его и рисовала солнышки. А что можно малевать синим? Даже траву не нарисуешь. А зелёным трава, конечно, будет, что надо, но тут уж тебе ни неба, ни солнышка. Я разревелась. Прямо у прилавка, глядя на чёртовы турбокомпастеры. А мама не на шутку перепугалась. Но к специалисту меня повела только спустя три года, когда школьная училка выписала соответствующее направление. И не пойти было просто нельзя.
– Ниночка, тебе какая собачка больше нравится – эта или эта?
Ах, да, меня зовут Нина, если вам это интересно. По счастью, имя выбирать не пришлось, его за меня выбрала мама. Но и она рассказывала, насколько ей это было непросто: то ли назвать в честь бабушки – Оленькой, то ли в честь любимой подруги – Машенькой, то ли как героиню модного романа – Констанцией. Откуда в этом логическом ряду взялась Ниночка, известно только маминому подсознанию, но у него не уточнишь. Что до меня, то мне довольно и того, что она не выбрала Констанцию.
Ну, это я просто так, между делом вспомнила. А в тот момент я уставилась на переливные голографии, откуда на меня смотрели по-собачьи ласково две шавки: одна лысая и чёрная, другая лохматая и белая. Я больше любила кошек и попугаев. Но ни тех, ни других мне не предложили.
– А как их зовут?
– Интересный вопрос, – неизвестно чему обрадовался дяденька с волосатыми пальцами. – Допустим, они тёзки. Обе Жучки.
– Допустим или точно? – с подозрением спросила я.
– Точно-точно! Это две Жучки. Жучка белая и Жучка чёрная.
Собачки стали мне ещё противнее, потому что ни разу на жуков не походили. Черно-лысая смахивала на крашеную крысу, а лохмато-беленькая на причёску соседки тёти Марины.
– А больше ничего нет? – спросила я с надеждой.
– Нет, только собачки.
Я представила себе, что мне сейчас светит не просто выбрать картинку, а кой-чего пострашнее – что одна из этих шавок, например, белая, сейчас спрыгнет с листа, начнёт об меня тереться, лизать мне лицо языком и вилять хвостиком. А мне придётся эту тетьмаринину причёску называть Жучкой, выгуливать по утрам и собирать совочком её какашки. И я разревелась.
– С вашей девочкой всё понятно, – сказал доктор и начал что-то быстро писать в карточке. – Налицо типичные проявления болезни Гецера.
– Это точно? – спросила маман.
– К сожалению. Вам придётся наблюдаться у специалистов, принимать медикаменты.
– А скажите, доктор, – мило улыбнулась маман. – Какого цвета на вас сегодня носки?
Сейчас я понимаю, что она держалась просто героически – окажись я на её месте, я бы ревела не хуже, чем от турбокомпастеров. Потому что даже очень малолетний человек с диагнозом Гецера попадал в генетическую выбраковку. Автоматически и навсегда. И ни тебе в университет поступить, ни на работу устроиться. Не говоря уже о таких вещах, как семья и детишки.
– Носки у меня сегодня чёрные, – волосатые пальцы закрыли тетрадку и отложили её на край стола.
– Чисто чёрные или с рисунком – продолжала атаку маман.
Дядька озадаченно глянул на нас и полез под стол проверять. А мама с ловкостью карточного шулера стянула со стола тетрадку, сунула её в свою сумочку и положила на её место точно такую же из другой стопки. Ни один листок не прошелестел. А когда оказалось, что доктору нужно чуть больше времени, чтобы раскатать штанины обратно, она прихватила ещё и тоненькую книжечку-методичку. Моя маман тоже генетическая выбраковка – это факт, но мозги у неё всегда были на месте. Поэтому ни одна собака в её жизни не догадалась, с кем она имеет дело.
Потом мы весело жгли тетрадку в тазике, энергично паковали вещи, слёзно прощались с друзьями, распаковывались на новом месте и учились, учились, учились делать выбор по стыренной у доктора методичке.
– Нина, что ты будешь на завтрак: пончики или мюсли?
– И я начинала рассуждать логически, как в методичке советовалось: с одной стороны, я обожала пончики, но вчера уже их ела. Значит, для разнообразия надо выбирать мюсли.
– Мам, а больше ничего нет?
– Есть, но надо выбрать.
– Тогда я выбираю третье.
Мама вздыхала и начинала замешивать оладьи: в любом случае условие было соблюдено – выбор сделан. Тогда я ещё не задавалась вопросом, как при сходном отклонении психики маме удаётся определить, что на завтрак будут именно оладьи, а, например, не омлет или бутерброды с сыром – она решала за меня, и этого было достаточно. Позже я поняла, что у маман существует целая система, в которой учитывается куча мелочей от наличия продуктов до погоды за окном. А тогда я просто проглатывала завтрак, напяливала форму, брала портфель и, уже завязывая ботинки, начинала мучиться:
– Мам, – я знала, что спрашивать не стоит, но, всё-таки, вдруг повезёт. – А как ты думаешь, какой маршрут выбрать: первый или второй?
– Сама, Ниночка, сама.
Никогда не везло. Я выходила из дому, шла по изогнутой улочке и останавливалась на развилке. Обе дороги вели к школе, но одна шла в гору и огибала кинотеатр, а другая тянулась низом через заброшенный виноградник. Меня всегда интересовало, как маман умудрилась выбрать город. Их на карте, я сама видела, фигова уйма, но мы приехали именно в этот: тёплый, солнечный, с морем, до которого прямо от нашего дома ходил воздушный трамвай. Море пахло солью, йодом и рыбой. Гораздо лучше, чем школа. И я, застревая на развилке, всякий раз прикидывала, а не махнуть ли на остановку воздушного трамвая. Но, к сожалению, такого варианта мне не предлагалось: идти нужно было только в школу. И, тоже к сожалению, пойти по двум дорогам сразу не получалось. Мне нравилась дорога мимо кинотеатра, потому что там каждый день вывешивали новые афиши – движущиеся картинки, на которых то горел синим пламенем корявый звездолёт, то целовались плодоножками инопланетные любовники. Дорога через виноградник была интересна ничуть не меньше: на подсохших листьях всегда висели гроздья улиток с раковинами, похожими на янтарь, а ещё, если постараться, в траве там можно было поймать здоровенного кузнечика. Я доставала монету и загадывала: решка – направо, орёл – налево. При выборе одного из двух нет ничего лучше монеты. Она меня ни разу не подводила.
А однажды я оказалась на развилке без монеты – предыдущую потратила накануне в школьном буфете, а новую мама забыла положить в мой карман. Сперва я запаниковала. Но потом, перелистав в памяти докторскую методичку, стала ждать знака. За поворотом взревел мотор. Я загадала: если машина грузовая, то пойду мимо кинотеатра, а если легковая, то виноградником. Но действительность плевала с далёкого облака на умную методичку и выкатила из-за поворота заблудившийся в тополях трамвай. Вы не подумайте, я не сразу отчаялась. Я повторила попытку. Но следующим оказался аэроллер с усилителем вибрации – последняя фишка пацанов постарше. Я обожала аэроллеры. Меня как-то прокатил на таком соседский Славка. Интересные ощущения, скажу я вам! Трясёт так, что даже кости изнутри щекочутся. Но в этот раз он меня не порадовал. Я почувствовала, что в носу уже начали собираться слёзы, и громко хлюпнула. Но, всё же, собралась с духом и решила загадать на пешехода. Если мужчина, то направо, если женщина – налево. Ждать пришлось недолго, из кустов выехал на старинном допотопном самокате пухлый малыш неопределённого пола, попал передним колесом в ямку на асфальте, упал и разревелся. Чужие слёзы заразительны – я разрыдалась вместе с ним. Малыша унесла перепуганная бабушка, а я осталась в одиночестве заливать слезами свою школьную форму.
Я всегда любила от души пореветь. Повод тут даже не важен, важен процесс: всё лицо влажнеет, изо рта текут слюни, из носа сопли, а тёплые слёзы катятся по щекам, капают с подбородка и затекают в рот; на языке солёно, на сердце сладко, а ресницы норовят склеиться, чтобы глаза вовек не видали этого безобразия. В данном случае – развилки и часов, которые показывали, что в школу я опоздала. Ну, а ещё качественный рёв даёт хороший результат: возле тебя сразу начинают скапливаться взрослые и интересоваться, что стряслось с несчастным ребёнком. И хоть один из них да догадывается взять тебя за руку и отвести, куда следует: в школу там, в госпиталь или домой. Но это был явно не мой день – никто так и не появился.
Я ревела, пока у меня в организме не закончилась отпущенная на слезы-сопли-слюни влага. Затем сбегала домой, надеясь, что мама всё-таки возьмёт выбор дороги на себя. Но мамы дома не оказалось. Так что я выпила залпом три стакана воды, вернулась на развилку и добросовестно отрыдала до полудня. Я устала не меньше, чем от полного учебного дня (рот затёк, а щёки щипало от соли), и взяла передышку. И пока я обтирала лицо лопухами, мне в голову сама собой пришла гениальная идея: раз нельзя выбрать одно из двух, надо поискать что-то третье. Вам, поди, сейчас смешно это слышать – то же мне, думаете вы, нашла гениальную идею! Но мне было только восемь, и в книжке, которую мы с маман почитали как библию, этот метод не рассматривался. Я пошла напролом между двух дорожек.
Новый путь до школы оказался долгим и потребовал нехилой физической подготовки. Мне пришлось вскарабкаться на скалу и спуститься оттуда по сыпучим камням, переплыть городской фонтан, не выпуская из рук портфеля, проломиться через кизиловые заросли и пройти насквозь куполообразное здание оранжереи со стеклянными стенами.
Оказалось, что выбранная мною дорога ведёт совсем не к школе, а к морю. И когда я неожиданно для себя очутилась на его берегу – на краю города и на краю всего мира, меня посетило новое откровение: действительность становится не такой уж суровой, если из двух вариантов выбирать нечто третье. Я провела на море весь день. Бегала босиком по мокрому песку, собирала ракушки, гоняла крабов и встречала закат. А потом из ночной черноты вынырнула заплаканная мама и забрала меня домой.
До сих пор не знаю, как ей удалось меня найти, но после того случая она больше не играла со мной в дурацкую игру «Выбери сама». С того момента я получала от неё чёткие директивы, какой дорогой ходить, где учиться и что надеть. И меня это полностью устраивало.
К двадцати трём годам, благодаря мудрому руководству маман, я худо-бедно научилась маскироваться под нормального человека и заняла маленькую, но неплохую должность в Департаменте рабочей силы Космопорта Љ 12. Главное правило, которое маман не уставала повторять, а я усваивать, было: «Не высовывайся, за нормальную сойдёшь!». Я не высовывалась – приходила вовремя, помалкивала на собраниях и педантично выполняла должностные обязанности. Офисная работёнка – «не бей сидячего»: с утра со всех отделов нашей огромной организации поступает список вакансий, которые до обеда мне надо внести в базу данных. Затем база автоматически размещает описание вакансий на специализированных ресурсах, принимает оттуда резюме от всех желающих, анализирует по основным параметрам, откидывая сходу процентов девяносто пять кандидатур, и назначает оставшимся время для личной аудиенции. А мне остаётся только посмотреть в ясные глазки будущих работников и выбрать кого-то одного. За двадцать три года жизненного опыта мои методы усовершенствовались настолько, что я вполне смогла бы сама написать книжку в помощь людям с симптомами Гецера. В пять раз толще той, которую в своё время умыкнула маман у психиатра. Поэтому интервью я неизменно начинала издалека:
– Будьте любезны, вытащите из колоды любую карту. А теперь те, кто вытащил чёрную масть, могут покинуть кабинет.
Я обожала это вступление – после него отсеивалась добрая половина. Оставшимся соискателям предлагалось занять места за столом. Стол у меня был, что надо: длиной во весь кабинет, так что, рассевшись по его сторонам, претенденты смотрелись двумя колоннами солдат, застывших по команде «смирно» перед маршальской трибуной. Они трепетно ловили каждый жест главнокомандующего смотром и были готовы выполнить даже намёк на приказ, но их маршал до поры до времени молчал. А после продолжительной паузы, напрягавшей нервы рядовых до предела, маршал звонил маме и ронял в трубку условную фразу:
– Рыба или мясо?
Под рыбой подразумевалась левая половина стола, под мясом правая.
– Мясо, – я слышала в трубке, как бежит в раковину вода и шипят на сковородке котлеты.
– Окей, – мама готовит мясо, значит, «рыба» вылетает. – Я попрошу выйти из кабинета тех, кто сидит по левую сторону стола. До свидания. Руководство Космопорта Љ 12 будет счастливо видеть вас в качестве кандидатов на новые вакансии.
Ну, и так далее…
Не буду утруждать вас подробностями, но суть сводилась к тому, чтобы сократить участников парада до двух человекоединиц, а потом кинуть монетку. Как я уже говорила, монета меня ещё ни разу не подводила. За исключением того случая в детстве, когда её со мной попросту не было – на развилке. Но сегодня она, чёрт знает отчего, прилипла к пальцам. Я озадаченно повернула ладонь и задумалась, как можно расценивать такой выверт. То ли решка, так как монета сейчас была повёрнута лицевой стороной вверх, то ли орёл, поскольку, не прилипни рубль к пальцам, выпал бы как раз-таки он. Я никогда не кидаю монету дважды – у меня тоже есть принципы. И потому, глядя на коварную мелочь, я запаниковала. Два кандидата на должность техоператора грузовых тележек – иммигранты планеты Ж-728-ЛО54-Б11 или, как их называют в просторечье, «жлобы», смотрели на меня восьмью парами глаз, не мигая и уже не дыша.
– Окей, – подумала я. – Возьму того, у кого детей больше, ему работа нужнее.
Я протянула им по стандартному бланку анкеты и попросила:
– Напишите, пожалуйста, в графе «семейное положение» количество имеющихся на вашем иждивении детей.
Оба «жлоба» синхронно подхватили клешнями ручки и вывели по цифре восемь.
Я сглотнула первый солёный ком и набрала домашний номер. Решила, что спрошу: «Один или два?». Тот, который ближе к двери, будет номер один…
Напрасный труд – маман к телефону не подошла. Это уж вообще небывалое дело: ну, ладно, монета к пальцам прилипла, но чтобы матушка свалила из дома, забыв телефон… Метода, заботливо выстроенная нашими с ней обоюдными усилиями, рухнула в одночасье. Мир растерял все свои краски, и только оранжевые лбы «жлобов» оставались яркими заплатками на его мучнисто-сером фоне. И эти яркие лбы требовали моего решения. Молча, как приснопамятные голографии «Жучка и Жучка». А я, затягивая с ответом, заставляла «жлобов» то измерить клешнями стол в моём кабинете, то решить математические задачки, то подпрыгнуть (кто выше) на месте, то пробежаться по коридору наперегонки… Короче, перебрала все варианты, кроме «камень, ножницы, бумага» (заранее поняла, что их конечности могут выбросить только «ножницы»).
Я устала не меньше, чем от пяти часов полноценного рёва. Таких сволочных кандидатов у меня ещё никогда не было: они всё делали одинаково и синхронно, выдавая идентичные результаты, словно всю жизнь тренировались проходить интервью у человека с диагнозом Гецера. Мы развлекались до тех пор, пока последний час рабочего дня не замигал на часах лукавым зелёным светодиодом и у моей начальницы не лопнуло терпение. Она выскочила из своего кабинета и набросилась на меня прямо в коридоре, как щенок на тряпку:
– Что вы себе позволяете, Колыманова!?
Ах, да, фамилия моя Колыманова – будем знакомы до конца. Ой, только не надо ахать: «Как, та самая Колыманова?!» Уверяю вас, не сделай я в тот день верный выбор, я как была генетической выбраковкой, так ею и осталась бы.
– Как что? – пролепетала я. – Интервью по отбору кандидата на должность техоператора грузовых тележек.
– И как ваши успехи? Выбрали?
Начальству никогда нельзя говорить «нет», оно этого не любит. Поэтому я сказала то, что остаётся:
– Да. Обоих, – и, видя удивлённо вздёрнутые брови начальницы, добавила. – Думаю, нам необходимо расширить эту должность до двух мест. Пусть один работает в дневную смену, а другой в ночную. А то ночью никто тележками не занимается…
– Вот как? – неизвестно чему обрадовалась начальница. – То есть, вас, Колыманова, не устраивает утверждённое штатное расписание? То есть вы, Колыманова, считаете себя умнее начальства? Мило! Знаете, мне придётся донести это до вышестоящего руководства. А вы, Колыманова, пока дорабатывайте.
Я, в абсолютно подавленном состоянии, вернулась на своё рабочее место, понимая, что быть ему уже завтра не моим. «Жлобы», скорбно шевеля ложноусиками, приволоклись следом. Я посмотрела на них и подумала: «Вот это да! И начальницу разозлила, и сама под увольнение попала, а что с ними делать, так и не сообразила».
– Укажите в графе «предполагаемая зарплата» сумму, за которую вы согласны работать, – сохраняя остатки спокойствия, решила, что отброшу самого жадного.
«Жлобы» схватили ручки и, вычерчивая на бумаге синхронные круги, написали одну и ту же цифру. К слову, вполовину меньше указанной в штатном расписании.
Всё. Я сдалась. И, как оказалось позже, сделала свой единственно правильный выбор в жизни.
– Сдайте мне ваши трудовые и по две голографии – вы приняты. Рабочий график: семь дней в неделю по двенадцать часов. Обеденный перерыв – час. Начало смены в девять утра и в девять вечера.
Я расписалась в их книжках и оформила два пропуска, понимая, что подписываю собственный волчий билет. Решила ещё, что сейчас реветь не буду, потерплю до дома. И тут один из «жлобов» сказал, трепетно прижимая к груди пропуск:
– Пожалуйста, простить мы, госпожа Колыманова. Мы должен признаться.
– Ю-ю, признаться, – пристыженно заморгал восемью глазками второй. – Объяснять доступный понимания госпожа пример, мы – батарейка.
– Типа, он минус, я плюс. Вместе – генерация события. Госпожа Колыманова не выбирать, мы управлять события.
– Ю-ю, как мы выгодно. Только я плюс, он минус. Вместе батарейка. Потому монета прилипать, а мама телефон забывать.
Тут я не выдержала и выругалась:
– Вот свиньи! Сказали бы сразу, что всё за меня уже решили, я бы и не мучилась!
– Не всё, госпожа Колыманова, – защёлкали они хитином. – Госпожа мочь выкинуть мы оба. Но она добрый, она не выкинуть. Она мы оба взять и дать пропуск в жизнь на эта планета.
– Мы для вы благодарны и хотеть искупить вина. Пусть только госпожа сказать, какой выгода.
– Ю-ю, какой желание.
Тут я совсем размякла от их сочувствия и брякнула, ни на что не надеясь:
– Да какое у меня может быть сейчас желание? Только одно: пусть не уволят, – и разревелась, не дотерпела-таки до дома.
«Жлобы» дружно протянули мне салфетки и хором ответили:
– Никто вы не уволить!
За пять минут до конца рабочего дня уволили начальницу. Её звонок руководству вдруг вызвал бурю, которая обрушилась на её же голову. Оказалось, что на разрядившиеся и на самоблуждающие по ночам тележки давно валятся в компанию жалобы, и моя отмазка про посменных техоператоров вдруг стала свежей и актуальной идеей. Начальницу выбросили, как нагадившего в гостиной щенка, а мне достался её кабинет, её настенный календарь и её оклад.
Маман, кстати, этого поворота событий не одобрила: она всегда считала, что генетической выбраковке не следует слишком высовываться. Ну, не суть.
Через полгода я перевела «жлобов» из техобслуги тележек в собственные заместители – по очередной новой должности мне полагались два зама. А ещё через год мы с ними заняли кресло директора Космопорта Љ 12. «Жлобы» стремительными темпами тащили меня вверх по служебной и социальной лестнице, как флаг, пока не водрузили на самой вершине, спросив однажды:
– Госпожа Колыманова желать стать президент Объединённая Земля или нет?
Я подумала, подумала и спросила:
– А что-нибудь третье есть? Могу я, скажем, баллотироваться на пост царицы?