Ломоносов
Tekst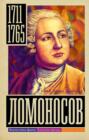


Mine üle audioraamatule
- Maht: 300 lk. 50 illustratsiooni
- Žanr: Biograafiad ja memuaarid
Конечно, соблазнов в Москве было много!
В то время это был город контрастов: роскошь и нищета, благолепие и криминал – все было перемешано. Славяно-греко-латинская академия располагалась совсем близко к Кремлю, но с другой стороны ее окружали районы вовсе не благополучные.
Бок о бок с Кремлем, там, где ныне Манежная площадь, шумел грязный Толкучий рынок, где сновали продавцы всевозможной ароматной снеди, девушки с букетами полевых цветок или лукошками земляники, и тут же рядом – перекупщики краденого, старьевщики… По другую сторону от Кремля располагались Торговые ряды, а за ними – вонючее Зарядье, некогда процветавший купеческий район. Пришел он в упадок из-за прихотей Петра Великого: по приказу царя были сооружены земляные бастионы, перекрывшие стоки воды в Москва-реку. К тому же в Зарядье располагалась та часть торга, где продавали скот и птицу, и из-за их помета в воздухе стоял смрад, доходивший и до Заиконоспасского монастыря.
Процветал в Москве и криминал. Шайки воров безжалостно обчищали зазевавшихся прохожих, а ночью так и вовсе опасно было на улицу выходить – не только ограбят, но и зарежут. Собирались разбойники под Каменным мостом, иначе называвшимся Всесвятским – у устья Неглинки. Там они делили награбленное, там решали свои воровские дела. От того места до Спасских школ – пешком полчаса.
И в таком вот окружении на Красной площади действовал публичный театр для людей низкого звания – «Комедийная храмина». Там выступала немецкая труппа, ставившая переводы пьес Мольера, Кальдерона и других знаменитых европейских драматургов. Драму обыкновенно разделяли на 12 действий, которые делились на несколько явлений или сцен. В антрактах представляли шутовские интермедии, в которых не скупились на пощечины и палочные удары. Из-за этих вставок пьесы растягивались очень надолго. Одна пьеса могла идти целую неделю. Если заводилась у молодого Михаила лишняя копеечка – мог и он позволить себе полюбоваться театральным действием.
А в праздники на Красной площади ставилось множество ларьков и палаток, где и угощение продавали, и народ веселили. Особенно популярны были кукольные представления с участием незадачливого Петрушки.
В такие дни москвичи, одевшись получше и почище, выходили на прогулку. А знатные люди, разряженные сверх меры, проезжали по Красной площади в каретах. Это был своеобразный показ мод: собравшийся народ открыто обсуждал, кто как одет и причесан, какие на ком украшения, у кого выезд богаче и рысаки лучше.
Манера одеваться москвичей сильно отличалась от северной. Там сохранялись в значительной степени еще старые русские моды, а москвичи и москвички предпочитали одеваться по-новому: красавицы наряжались в декольтированные платья с круглым кринолином. Женские станы теперь плотно перехватывали жесткие корсеты, получившие в России название «шнурование». Шнурование не позволяло даме сутулиться и делало талию тонкой. Облик придворных щеголих завершали пудреные прически. Порой это свои волосы, но чаще – парики из волос, купленных у крестьянок. И мужчины, и женщины в то время густо румянились и сурьмили брови. Пользовались духами: в ходу были гулявая, то есть розовая вода – женственный аромат, зорная вода – на листьях горьковатого любистока, острый, мужской аромат и мятная настойка, по другому называемая «холодец».
Платья знатных особ отличались необыкновенной роскошью. Их расшивали золотой и серебряной нитью, украшали кружевом и даже драгоценными камнями. Антиох Кантемир как-то заметил, что иной «щеголь деревню взденет на себя целу». Роскошь и мотовство многих приводили к разорению.
Конечно, студенты Спасских школ вместе с толпой любовались праздничными выездами, смеялись над приключениями Петрушки, покупали у лотошников пирожки и спелые яблоки. Много в той толпе было и доступных женщин, которые не могли не привлечь внимание молодого здорового мужчины. Но Ломоносов не оставил нам никаких воспоминаний о своей личной жизни в то время. Надо помнить, что в юности на формирование его характера значительное влияние оказали старообрядцы, для которых любые сексуальные отношения вне брака являлись смертным грехом. Так что можно предположить, что молодой человек либо держал в строгой тайне все свои связи, либо подавлял в себе плотские желания, отдавая все силы учению.
Обман раскрыт
Однако, несмотря на прилежание и успехи, в какой-то момент карьера Ломоносова чуть было не рухнула! В конце лета 1734 года обман насчет его происхождения раскрылся. Причем виноват Ломоносов был сам.
В то время студенты Спасских школ часто отправлялись в путешествия в составе экспедиций и миссий. В 1725 году трое учеников академии отправились с миссией в Пекин, когда посланником в Китай был назначен граф Савва Владиславич Рагузинский. В 1733 году была открыта Камчатская миссия, куда поехали иеромонах Заиконоспасского монастыря Александр и 12 студентов Спасских школ. Ломоносов мечтал о путешествиях, мечтал увидеть мир. Поэтому, когда известный картограф Иван Кириллов собирался в экспедицию в киргиз-кайсацкие степи, Ломоносов решил снова исказить свою биографию, чтобы быть рукоположенным в священнический сан и в этом качестве войти в состав экспедиции. Он показал под присягой, что «отец у него города Холмогорах церкви Введения пресвятыя богородицы поп Василий Дорофеев». Но при проверке выяснилось, что священника с таким именем не существует. И тогда уже Ломоносову был учинен строгий допрос, на котором он повинился и рассказал правду: что по рождению он сын черносошного [20]крестьянина. Казалось, над талантливым молодым человеком нависла беда. Наказание грозило быть очень строгим и даже жестоким: он присвоил себе дворянство, врал, незаконно получал стипендию… тут одним исключением из академии не отделаешься, можно было и под кнут пойти.
Возможно, по этому поводу он написал невеселые шуточные стихи-аллегорию о несбывшихся надеждах:
Услышали мухи
Медовые ду́хи [21],
Прилетевши сели,
В радости запели.
Егда стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли-бо ноги.
Ах, плачут убоги:
Меду полизали,
А сами пропали.
Но произошло почти что чудо: никакого наказания не последовало. За Ломоносова вступился престарелый Феофан Прокопович, соратник самого Петра Великого, и молодой человек продолжил обучение.
А на листе с горько-шутливыми стихами учитель поэтики, сам великолепный переводчик Федор Кветницкий написал: «Pulchre», то есть «Прекрасно».
Легенда
И вот тут возникла легенда, которая до сих пор бытует в исторической литературе. Мол, на самом деле Ломоносов – никакой не крестьянский сын, а внебрачный отпрыск Петра Первого.
Шептались, что на смертном одре Петр поведал Феофану Прокоповичу, что есть у него внебрачный сын, рожденный девушкой из села Холмогоры. Невероятная гипотеза! Но нашлось и объяснение, как царь мог встретиться с простой северной крестьянкой. Мол, Елена Ивановна Сивкова в 1711 году прислуживала при старообрядческом обозе, привезшем рыбу в местечко Усть-Тосно, недалеко от Петербурга. Девица она была красотой и статью не обделенная, вот и решили старообрядцы подсунуть ее царю в обмен «на дружбу и заступничество».
Нашлись даже сведения, что Петр I действительно встречался в феврале 1711 года в местечке Усть-Тосно с Федором Бажениным и обозом с российского Севера, а в числе «обозников» значились некая Елена Сивкова и Лука Ломоносов. После возвращения из Петербурга староста Лука дескать срочно выдал Елену замуж за своего родственника Василия Ломоносова. После этого на имя старосты якобы стала поступать помощь из государевой казны. Когда же Елена умерла, архиерейская служба отправила в Николо-Корельский монастырь, в котором учился Михайло, паспорт на имя Михайлы Васильевича Ломоносова, с тем чтобы обоз, который регулярно ходил из монастыря в Москву, забрал сего отрока и привез в Первопрестольную. По этой версии именно по протекции на самом высоком уровне и поступил никому не известный юноша в школу Заиконоспасского монастыря на казенный кошт. И именно поэтому доведавшегося до правды настоятеля Германа Копцевича внезапно отправили из Москвы в провинцию. Чтоб не разгласил чего лишнего.
Дальнейшие события эту легенду укрепили: Прокопович приказал перевезти в Петербургскую академию 12 лучших студентов, и Ломоносов был в их числе.
Тайна его рождения скрывалась тщательно: опасались, что могут порешить царева отпрыска. Времена-то были неспокойные. Потому Прокопович перед смертью добился того, чтобы Ломоносов оказался включен в число тех, кого академия отправила учиться за границу.
Адептов у этой легенды нашлось изрядно. Усматривают значительное сходство между портретами Петра Первого и Ломоносова. Находят схожесть и в их характерах (оба были вспыльчивы), и в их сложении: при высоком росте и большой физической силе у обоих были небольшие ступни и кисти рук. Даже то, что выйдя из себя Михаил Васильевич мог огреть тростью собрата-академика, напоминало повадки Петра Первого.
Однако, повторимся: это – всего лишь легенда. Никаких веских подтверждений она не имеет.
Глава третья
В поисках знаний

Киево-Могилянская академия

Кристиан-Альберт Вортман. Портрет Михаила Ломоносова. 1757

Неизв. автор. Портрет архиепископа Феофана Прокоповича. Середина XVIII века

Неизв. автор. Дом Михаила Ломоносова на реке Мойке в Санкт-Петербурге. XIX век
Переезд в Киев
Славяно-греко-латинская академия к 1730‐м годам стала именно духовным, религиозным образовательным учреждением. Ученики набирались в основном из духовного сословия, из дворян и разночинцев, иногда даже в принудительном порядке. В их числе могли оказаться священники, дьяконы и монахи. Среди предметов на первом месте стояло богословие, затем – философия по Аристотелю, и уже потом – физика, метафизика, психология, риторика, метеорология. Студенты старших классов академии уже были достаточно подкованы, чтобы проповедовать в церквах. Они также в 1712–1747 годах принимали участие в исправлении Библии в ее славянском переводе.
Но, давая широкое гуманитарное образование, академия не могла дать Ломоносову глубокие знания естественных наук – физики и химии.
Отчасти этот недостаток восполняла практика: в Москве в Лефортово действовал госпиталь голландца Николая Бидлоо, выпускника Лейденского университета. При госпитале работала первая в России госпитальная медико-хирургическая школа, готовившая лекарей для армии и флота. Многие из учеников Спасских школ, разочаровавшись в отвлеченной философии и стремясь к практической работе, просто сбегали из монастыря и шли работать в Московский госпиталь. Это было несложно, так как у ректора академии следить за беглецами не хватало возможности и времени, а наставнику госпиталя доктору Бидлоо необходимы были знатоки латинского языка. Процесс «общения» с госпиталем особенно активно протекал как раз в то время, когда там учился Ломоносов. Кто знает, если бы не приглашение в Петербург, возможно, так бы поступил и Михайло, ведь он не был удовлетворен программой обучения.
В Заиконоспасском монастыре было много летописей и богословских книг, были труды античных философов, но очень мало попадалось книг физических и математических. Когда Михайло обращался с вопросами к учителям, те направляли его в свою альма-матер – Киево‐Могилянскую академию.
Киевская духовная академия возникла в первой половине XVII века, когда Киев еще находился под властью Речи Посполитой. Основателем ее считается митрополит Петр Могила, преобразовавший Киево‐братские Богоявленские школы в Православную академию. Выпускниками этой академии были люди знаменитые: митрополит Димитрий Ростовский, философ Григорий Сковорода, философ и поэт митрополит Стефан Яворский, гетманы Юрий Хмельницкий, Петр Дорошенко… К началу XVIII века количество учащихся достигло рекордного числа – две тысячи человек.
И вот Ломоносов обратился к архимандриту с просьбою, чтобы его отпустили на год в Киево‐Могилянскую академию. Наверняка он идеализировал это учебное заведение, будучи наслышан о тех временах, когда там преподавали Феофан Прокопович – сподвижник Петра Великого, и Стефан Яворский, перебравшийся в Москву и реформировавший Славяно-греко-латинскую академию.
Архимандрит ответил на эту просьбу согласием и даже выдал способному ученику деньги на проезд. А вот далее мнения исследователей биографии Ломоносова расходятся. Одни пишут, что молодой человек нескольких месяцев слушал философские лекции Иеронима Миткевича, а также лекции по математике и физике. Другие же подвергают сомнению сам факт появления его в Киево‐Могилянской академии.
К 1730‐м годам внутри Киевской академии возник конфликт между богословским и естественнонаучным направлением в преподавании. Причем богословие взяло верх, а значит, ничего нового Ломоносов узнать не мог, ведь он уже прочел достаточное количество церковных книг и на своей малой родине, и потом в Заиконоспасском монастыре. Разочаровали его и устаревшие схоластические методы преподавания, бесконечные словопрения – богословские диспуты. К тому же в Киеве было сильно польское влияние. Для прожившего три года в Москве Ломоносова поляки были врагами: чуть более ста лет прошло с тех пор, как князь Пожарский и гражданин Минин изгнали их из Кремля. Поэтому Ломоносов в Киеве не прижился, предпочел вернуться в Москву и как раз успел вовремя, чтобы полюбоваться крупным инженерным достижением: в 1735 году мастером Иваном Моториным был отлит огромный Царь-колокол. В разгар работ мастер умер, и работу довел до конца его сын Михаил.
Вес колокола достигал двухсот тонн, а высота – более шести метров. После отливки выяснилось, что достать колокол из ямы проблематично: слишком он тяжелым вышел. Москвичи ходили любоваться на невиданной величины колокол да судачили: как такую махину поднять? Наверняка среди зевак был и молодой Ломоносов, может, даже и прикидывал – как поднять колокол, да только знания его в математике и механике были еще недостаточны.
Ну а тем временем императрица распорядилась нанести на колокол декоративные украшения и надписи. Работы продлились долго! А в 1737 году – уже после отъезда Ломоносова в Петербург – в праздник Троицы случился большой пожар, так и получивший название Троицкого. Тот пожар настолько раскалил колокол, что когда на него плеснули водой, чтобы охладить, он треснул. Отвалился кусок примерно два метра в высоту.
Переезд в Санкт-Петербург
В конце 1735 года в жизни Ломоносова произошло знаменательное событие, определившее всю его дальнейшую карьеру: он был отобран в числе 12 учеников для определения в Санкт-Петербургскую Императорскую Академию наук для дальнейшей учебы.
Учреждение Российской академии наук в 1725 году явилось самым значимым событием недолгого правления Екатерины Первой. Однако вся подготовка этого грандиозного проекта была проведена еще самим Петром Великим.
Программа Российской академии была продиктована потребностями быстро развивающейся страны. В отличие от иностранных академий, которые в основном подводили итоги научной работы, в России научная работа велась в стенах самой академии по трем направлениям: математическому, физическому и гуманитарному. Занятия проходили в Географическом департаменте, в Библиотеке, в Кунсткамере, в Физическом кабинете, Астрономической обсерватории, Химической лаборатории, Анатомическом театре, Ботаническом саду. При академии были типография, книжная лавка, библиотека, богатые коллекции и лаборатории для исследований. Библиотека в определенные часы была открыта для любого жителя Петербурга. Высшим научным органом являлось Академическое собрание, или Конференция.
Первыми русскими академиками стали специально приглашенные из-за границы иностранные ученые: Даниил Бернулли, Леонард Эйлер и другие.
Академики обязаны были читать лекции для студентов – лучших учеников других учебных заведений: Навигацкой школы, Шляхетского корпуса, Славяно-греко-латинской академии… И вот теперь из Москвы отправились в столицу из богословского класса Василий Лебедев, Яков Виноградов, Яков Несмеянов; из философии Михаил Ломоносов, Александр Чадов, Дмитрий Виноградов, Иван Голубцев; из риторики Прокопий Шишкарев, Семен Старков; из пиитики Алексей Барсов, Михаил Коврин, Никита Попов. Сопровождать студентов в поездке из Москвы в Петербург назначили отставного прапорщика Василия Попова. Дорога заняла десять дней – в том веке скорости были иными. В середине января Михаил Ломоносов был зачислен студентом в Академический университет. Первые 2,5 месяца ученики жили в самом здании Академии наук, а во второй половине марта для них были наняты палаты на «общем монастырском дворе», принадлежавшем новгородской епархии. Здание располагалось неподалеку, на Васильевском острове, «от Большой Невы реки на левой стороне».
Петербург
И четверти века не прошло с того года, как в новый город была перенесена столица. О невиданном деянии – основании целого города на пустынном берегу, среди болот – ходили легенды. Вот одна из них: Петербург строил Петр Великий, Царь-богатырь на пучине. Построил на пучине первый дом своего города – пучина его проглотила. Петр-богатырь строит второй дом – та же судьба. Петр не унывает, он строит третий дом – и третий дом съедает злая пучина. Тогда царь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил свой широкий лоб, а в глазах его загорелись злые огоньки. Долго думал Петр и придумал. Растопырил он свою богатырскую ладонь, построил на ней сразу свой город и опустил на пучину. Съесть целый город пучина не могла, она должна была покориться, и город Петра остался цел.
Наверняка что-то подобное рассказывали и Ломоносову. С каким чувством он слушал эти сказки? Восторгался деянием первого российского императора или посмеивался над наивностью небылиц? Да только не мог 24‐летний студент не понимать, сколь сложные инженерные задачи пришлось решить строителям, прежде чем возникла новая российская столица.
Петербург во времена Ломоносова был совсем не таким, каким мы привыкли его видеть. Говорили об этом городе: с одной стороны море, с другой – горе, с третьей – мох, с четвертой – ох! А порой и вообще желали новой столице провалиться на дно морское.
Не было тогда еще знаменитого Зимнего дворца, не было Казанского и Исаакиевского соборов, не было и Медного всадника. На месте Исаакиевского собора стояла лишь скромная церковь, ближе к заливу располагалась Английская набережная, где жили английские купцы.
Каменное строительство в городе начнется лишь несколько лет позже, ну а пока большинство зданий деревянные, нет еще знаменитых набережных – у Невы, у Мойки и других рек топкие, поросшие осокой и кустарником берега.
«Что касается Петербурга, то он живописно расположен на прекрасной реке, называемой Невой… Город стоит на трех островах. На одном расположено Адмиралтейство, которое и дает острову название; здесь же находятся летний и зимний дворцы. Второй остров называется Петербургским, на нем расположены крепость и прекрасная церковь, где покоится тело… Петра Первого, его последней императрицы – Екатерины и нескольких его детей. Третий остров называется Васильевским, на нем расположены биржа, рынок, судебное и торговое управления (называемые здесь коллегиями) и другие общественные здания. Предполагалось, что здесь будут жить купцы; но хотя дома и улицы очень красивы, они по большей части не заселены, поэтому Адмиралтейский остров по населению значительно превосходит другие. Зимний дворец маленький, выстроен вокруг двора, вовсе не красив, в нем много маленьких комнат, плохо приспособленных, и ничего примечательного ни в архитектуре, ни в обстановке, ни в живописи. Летний дворец еще меньше и во всех отношениях посредственный, за исключением садов, которые милы (а для этой страны – прекрасны), в них много тени и воды», – описывала его в 1727 году леди Рондо.
Каменными тогда были лишь дворец Петра Первого в Летнем саду, куда более роскошный дворец Меншикова, Адмиралтейство, Кунсткамера… И еще несколько церквей. Каменным было и здание Двенадцати коллегий, выстроенное под прямым углом к набережной Невы. Перед коллегиями в те времена располагалась обширная площадь – Коллежская [22]. О том, почему здание выстроено так странно, сложена легенда. Наверняка ее пересказывали и Ломоносову. Мол, Петр I поручил Меншикову строительство здания Двенадцати коллегий вдоль набережной Невы. Оно должно было стать продолжением Кунсткамеры. А в награду Петр разрешал Меншикову использовать под свой дворец всю землю, что останется западнее новой постройки. Меншиков якобы рассудил, что если поставить дом лицом к Неве, то земли ему достанется совсем мало. И решил он поставить здание не вдоль, а перпендикулярно набережной. Свой же дворец он отделал на славу, выстроив самый большой и самый богатый дом в Санкт-Петербурге и окружив его парком.
Но затем последовала расплата. Вернувшись из поездки, Петр пришел в ярость. Таская Меншикова за шиворот вдоль всего здания, он останавливался у каждой Коллегии и бил его своей знаменитой дубинкой.
Однако ко времени приезда Ломоносова в Петербург светлейший князь уже несколько лет как сгинул в ссылке в Березове. В роскошном дворце некогда всесильного Меншикова в тридцатые годы располагался Сухопутный шляхетский корпус – учебное заведение для детей дворян, созданное по Указу Анны Иоанновны и при участии известного фельдмаршала Миниха. По тем временам корпус мог считаться крупным учебным заведением: обучалось там около двухсот человек. Возраст кадетов был самый разный: от 12 до 20 лет. Поступить туда у Ломоносова не было шансов. Зато он наверняка любовался на фасад этого здания, изукрашенный скульптурами, пилястрами и фронтонами с позолоченными коронами, с большим балконом над парадным входом – для оркестра, чтоб приветствовать гостей. Наверняка Ломоносов размышлял о судьбе государева любимца – человека, в отрочестве торговавшего на площади блинами, а в зрелом возрасте управлявшего огромной империей.
Не мог не поразить молодого Ломоносова Васильевский остров – Гостиный двор и Биржа. Хотя все это имело совершенно иной вид, нежели теперь. Не было еще привычного нам здания Биржи и ростральных колонн. Очень много пустого пространства. К берегу подходили лодки и небольшие корабли с неглубокой осадкой: те, которым нужна глубокая вода, не могли зайти дальше Кронштадта. Портовые постройки большей частью были деревянными – это таможенные службы. Совсем недавно по повелению императрицы Анны Иоанновны перенесли их сюда с Городского острова.
К коммерции в Петербурге, как и в Архангельске, относились с уважением: «Коммерция есть способ, чрез который деньги в государстве получаются и многие тысячи человек содержатся, которые без того хлеба иметь не могли бы», – рассуждал экономист середины осьмнадцатого века.
Чем там только не торговали! И съестными припасами, и тканями, и мехами, и всевозможными изделиями… Пуд ржаной муки стоил 5,5 копейки; пшеничной ручной лучшей муки – 30 копеек. Стоимость окорока свиного – 40 копеек за пуд. А вот богатая ливрея с золотым галуном стоила аж 70 рублей! Шляпа – 2 рубля.
В амбарах, или кладовых Гостиного двора в изобилии были представлены льняные, холщовые и камчатные ткани – не только заграничного, но и отечественного производства. Это при дворе предпочитали парижскую и берлинскую работу, а люд попроще с удовольствием покупал более дешевое – местное. Торговали тут и стеклянными изделиями и зеркалами – все российского производства. Без знания химии хорошее зеркало не изготовить!
Мог подивиться Ломоносов и на предметы роскоши, привозимые из-за границы: шляпы, перчатки, платки, чулки, шелковые ленты, кружева. Заинтересовали молодого человека и механические английские часы, которые особым спросом не пользовались: мало кто умел починить часы, если они сломаются. Позже Ломоносов изучит их механику и сам будет конструировать усовершенствованные хронометры.
И если молодой Ломоносов не мог позволить себе ни камзол с галунами, ни английские часы, то уж совершенно точно он любовался представлениями уличных кукольных театров, точно таких же, как и в Москве, и наблюдал за тем, как спускают на воду новые корабли – почти как в Архангельске.
Верфи в Петербурге тоже были заложены еще самим Петром Первым – но позже, нежели на родине Ломоносова. В 1712 году здесь сошла на воду 54‐пушечная «Полтава» – первый российский линейный корабль. Тут была построена и испытана первая подводная лодка – «потаенное судно» крестьянина Ефима Никонова. Но то была диковинка, обыкновенно же тут строились небольшие суда – галеры, буера, бригантины и шнявы.
Ломоносов не раз наблюдал за тем, как корабль, назначенный к спуску, стоял прикрепленный большими железными балками к полозьям, намазанным жиром. Как потом он съезжал на воду, когда отнимали поперечные балки, держащие его с обеих сторон на штапеле. Поначалу корабль шел медленно, а потом прибавлял скорость и слетал в воду как стрела. Полозья при этом ломались вдребезги.
