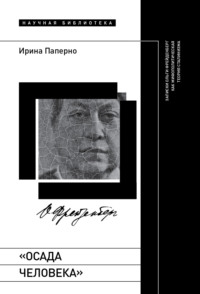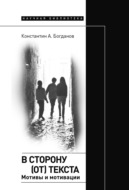Loe raamatut: ««Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма»
1. ВВЕДЕНИЕ
«МЕЖДУ НАУЧНОЙ ТЕОРИЕЙ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВОСПРИЯТИЕМ ЖИЗНИ»
С самых ранних дней детства, как только во мне проснулось сознание <…> у меня было чувство <…> что все то, что находится во мне и вне меня, не исчерпывается собой, а имеет значение (I–II, 1)1.
Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955) написала эти слова на первой странице своих записок, когда работа уже подходила к концу. Она пояснила, что при других обстоятельствах могла бы стать религиозной, но, родившись в секулярной еврейской семье, выбрала другой путь – литературу. В отличие от двоюродного брата, Бориса Пастернака, Фрейденберг не обладала талантом писателя. Она стала филологом. Когда Фрейденберг размышляла о своей с детства усвоенной логомании («чувство, что все <…> имеет значение»), к концу подходила и ее карьера профессора классической филологии в Ленинградском университете.
Презумпция смысла была свойственна гуманитарной мысли на рубеже двадцатого века. Достаточно вспомнить о герменевтике Вильгельма Дильтея. «Жизнь» или «переживание жизни» (die Erlebnisse) получают «выражение» и «объективируются» в формах культуры и искусства, и именно человек искусства в своей способности дать выражение жизненному опыту является подлинно живущим. Но что же делать человеку, которому отказано в художественном таланте? Такому человеку остается путь «дешифровки» выражений опыта. В этом качестве историк или филолог становится художником второй руки, способным к повторному переживанию (das Nachleben) жизни. Так описала герменевтический метод Ханна Арендт в эссе «Дильтей как философ и историк» (1945)2. В 1945 году, находясь в эмиграции в Нью-Йорке, Арендт смотрела на эти гуманистические представления с позиции человека эпохи Гитлера и Сталина. В это время она начинала работать над анализом тоталитаризма.
Арендт пишет о понятии жизни, исполненной смысла и доступной пониманию благодаря усилиям искусства или истории, с горькой иронией. Слова Фрейденберг, написанные в 1947 году, лишены иронии. Едва пережив блокадy, она сомневалась, что ей удастся пережить и идеологические чистки, начавшиеся тогда в Ленинградском университете. Для Фрейденберг вера в осмысленность жизни и в свою способность интерпретировать были не только научным методом, но и стратегией выживания.
В наше время Фрейденберг, которой мало удалось напечатать при жизни, привлекает все больше внимания как оригинальный и еще не вполне оцененный теоретик культуры, разработавший самобытную концепцию мифа и особую методологию3. Как классический филолог она нашла и сторонников, и противников4. В последние годы немало писали о парадоксах посмертной репутации Фрейденберг – о запоздалом признании, при котором ее идеи оказались предвестиями открытий других; о том, как трудно критиковать концепции автора такой трагической судьбы; о столкновении поклонников и хулителей5.
Помимо научного наследия, к настоящему времени представленного в печати (главным образом благодаря усилиям Н. В. Брагинской), Фрейденберг оставила огромный корпус «человеческих документов», по сей день почти не опубликованный. Через много лет после ее смерти в архиве Фрейденберг обнаружили 34 рукописные тетради автобиографической хроники под общим названием «Пробег жизни»6. В процессе писания она называла этот документ – отчасти воспоминания, отчасти дневниковые записи – записками.
Фрейденберг начала свои записки зимой 1939/40 года, описав детство, отрочество и юность, или «автобиографию», с 1890 до 1917 года. Она начала новую тетрадь в мае 1942 года, чтобы описать блокаду Ленинграда, сначала ретроспективно, потом в форме дневника, прервала свою хронику в апреле 1944 года (после смерти матери) и возобновила в июне 1945-го, чтобы рассказать об окончании войны. Ей кажется, что и она не пережила войну, и она пишет с позиции мертвеца, насильно возвращенного к жизни, пишет, «чтоб только донести до чернил и бумаги рассказ о сталинских днях» (XXI: 6, 11). Вскоре она понимает, что не в силах писать, и возобновляет записки через два года. Между 1947 и 1950 годом она регулярно вела записи, документируя репрессии в Ленинградском университете для будущего историка (как и в блокаду, писала по ходу событий или по их свежим следам). В 1948–1949 годах, чтобы «заполнить лакуну», она написала воспоминания о своей жизни от поступления в университет в 1917/18 академическом году до начала войны в 1941-м. Одновременно она продолжала описывать события дня, так что хроника настоящего и воспоминания о прошлом писались параллельно. В декабре 1950 года Фрейденберг после нескольких попыток поставила точку под своей хроникой. В это время она покинула университет. Написанные в течение десятилетия, в сложной временнóй перспективе, записки охватывают почти всю жизнь Фрейденберг и большую часть истории двадцатого века.
Есть все основания считать, что главной частью и центральным ориентиром записок является хроника ленинградской блокады – девять тетрадей под названием «Осада человека». Когда Фрейденберг завершила свои записки, история всей ее жизни была ориентирована по оси «после блокады» и «до блокады».
Образ блокады приобрел для Фрейденберг символический смысл: это было воплощение «советского строя». Блокадный день, многократно описанный в дневниковых записях, виделся ей как «простой обыденный советский день» (XXVIII: 18, 78), а блокада, или «осада», стала своего рода полевым опытом жизни в сталинском государстве.
Записки исполнены внимания к «методу» (Фрейденберг часто употребляет это слово).
Так, Фрейденберг вполне сознательно применяла ходы той методологии, которую она разработала в своей научной деятельности, «генетическую семантику»7. Она описывала свою жизнь через метафоры, символы и мифологические сюжеты и нередко видела свое настоящее как возвращение прошлого, а прошлое как прообраз настоящего. Метафора была для нее способом мышления: «я думала метафорами. Каждая мысль бессознательно опрокидывалась для меня образом» (XXVI: 80, 76).
Установка на научный метод в описании собственной жизни была вполне сознательной. Во время блокады (думая ночью «о себе и о науке») она сформулировала свое жизнеотношение: «я никогда не могла ставить перегородок между научной теорией и непосредственным восприятием жизни; одно выражало другое» (XVI: 122, 17).
При общем единстве герменевтического подхода и генетического метода в разных частях своих записок Фрейденберг прибегала к разным жанровым рамкам и стратегиям интерпретации.
«Автобиография» в двух тетрадях (№ I–II), сшитых в одну, представленная как «вступление» или «увертюра» к жизни, когда начнется «настоящая любовь» (I–II, 179), была написана для ее тогдашнего возлюбленного – Б. Выдержанная в лирическом тоне, напоминающем о ранней прозе Пастернака, эта часть записок исполнена пафоса любви как «особого мироощущения», наделяющего жизнь («каждый пустяк») глубокой символикой (XI: 91, 201).
Блокадная часть (тетради № XII-bis–XX) – это дневник (порой «ретроспективный дневник»)8, подобный полевому дневнику этнографа, написанный с позиции антрополога – участника-наблюдателя, занятого описанием особого блокадного быта и осмыслением жизни в осажденном Гитлером городе в мифополитическом ключе: «Жизнь в преисподней, куда загнал человека кровавый спрут» (XIX: 163, 71). (Под кровавым спрутом она имеет в виду Сталина.) Это хроника ежедневной жизни в ситуации катастрофического голода и полной несвободы, когда «глотать и испражняться [человек] должен был по принуждению» (XIII: 37, 15), и каждая деталь бытовой жизни, каждая функция тела (добывание, приготовление и поглощение пищи, пищеварение и выделение) оказалась значимой.
Записки о блокаде (как и исполненные любви записки о начале жизни) насквозь пронизаны смыслом, причем это документ не только тотального семиозиса («все <…> имеет значение»), но и тотальной политизации. Это герменевтика, рожденная из опыта «осады человека», когда власть проникала в каждую клетку жизни – в теле, доме, городе.
Как покажет будущее, блокадный опыт оказался непреодолимым – и по силе травматического воздействия на человека, и по влиянию на метод интерпретации, в котором отныне будет преобладать политическое.
Записки послевоенного времени (тетради № XXI–XXXIV), как и блокадные записки, в основном написаны в форме дневника или ретроспективного дневника. Послевоенные записки также включают этнографические описания быта, выполненные в политическом ключе («быт был выдержан по-сталински» (XXVIII: 8, 49)). Как полагает Фрейденберг, «[г]осударство, с воцареньем Сталина, выработало целую систему, в которой барахтался человек» (XXIII: 34, 20). Эта «продуманная система голода и унижения», «нарочитая система „трудностей“» представлялась ей как «террор бытовой» (XXVIII: 19, 84).
Вместе с тем после войны началась «небывалая даже у Сталина реакция»; «удушье началось такое, что никто не мог дышать – не одни люди науки и искусства, но любой человек» (XXV: 63, 9–10). Фрейденберг описывает и документирует (с приложением протоколов собраний и резолюций) пережитые ею идеологические чистки и репрессии в Ленинградском университете.
Начиная с блокады и во все послевоенные годы Фрейденберг кажется, что голод, разруха и бытовые трудности, как и идеологический контроль, были результатом «продуманной», «нарочитой», то есть преднамеренной, системы государственного подавления человеческой личности.
Мысль о будущем историке и размышления о природе «сталинской системы» пронизывают и воспоминания о жизни в 1917–1941 годах (тетради № III–XII), писавшиеся одновременно с хроникой 1948/49 года. В отличие от первой «автобиографии», с ее ориентацией на будущее, и от хроники с открытым концом, которую она вела в годы блокады и после войны, это история жизни (она называет эту часть записок своей «научной биографи[ей]» (XXXII: I, 27)), которая создавалась в остром сознании того, что последовало за событиями этих лет, и притом соотнесенная с большой историей.
Послевоенные записки заключают в себе последовательно (хотя и не всегда эксплицитно) разрабатываемую теорию государства, которая восходит непосредственно к опыту блокады и к блокадным запискам. Как Фрейденберг решила уже после войны, «Гитлер и Сталин, два тирана, создали новую форму правления, о которой Аристотель не мог знать» (XXVIII: 7, 47), и она описывает и анализирует эту систему для историка и читателя будущего. Записки Фрейденберг – это хроника, стоящая на твердых теоретических основаниях.
Трудно сказать, входила ли разработка политической теории в намерения Фрейденберг, но даже если она не осознавала свою задачу таким образом, описывая, «как мы жили» (XVIII: 154, 79), она не только видит повседневность в политических терминах, но и применяет к жизненным ситуациям аналитические категории и концептуальные метафоры политической философии и мифологии.
Для Фрейденберг, филолога-классика, «политика» – это производное от греческого полиса. Организующей метафорой ее политической теории является концепт corpus politicum (body politic), введенный Платоном и Аристотелем и развитый Гоббсом. Фрейденберг активно пользуется образом единого тела государства-Левиафана и идеей войны всех против всех, приходя при этом к другим выводам, нежели Гоббс. Более того, проводя параллель между телом человека и телом общества, она анализирует воздействие государственной власти на тело человека. В современных терминах мы называем такой подход биополитическим.
В подходе и концептуальном аппарате Фрейденберг можно усмотреть много общего с западной политической философией ее времени: с понятиями и идеями Ханны Арендт, Вальтера Беньямина, Карла Шмитта, Лео Штрауса, Карла Лёвита и других авторов, занятых анализом политической ситуации в Германии, о которых, работая в «полной культурной изоляции» (XXVII: 83, 9), она едва ли могла знать. Тем более значительны эти странные сближения.
Диаметрально отличаясь в оценке происходящего (Шмитт принял нацизм), эти авторы подходили к современной политике в антропологическом ключе – как к положению человека в социальном мире. Многие из них уделяли большое внимание роли мифологического мышления, пользуясь (в разных целях) образом государства-Левиафана9.
Особенно бросаются в глаза параллели между Фрейденберг и Ханной Арендт. Подобно Фрейденберг, Арендт настаивала, что государство Гитлера и Сталина («тоталитаризм») было «новой формой правления», которая «существенно отличается от всех иных форм политического подавления»10. Как и Фрейденберг, она была классиком по образованию, и для нее слово «политика» также непосредственно связывалось с греческими полисом и идеей corpus politicum, а в Гоббсе она видела теоретика тоталитарного государства avant la lettre. Во многих отношениях Арендт и Фрейденберг пришли и к сходным выводам.
Между Фрейденберг и ее современниками на Западе имеются и существенные различия. Фрейденберг выстраивала свою политическую теорию изнутри тоталитарного государства и в некоторых отношениях (главным образом, в своем видении истории) думала по-другому. Более того, работая в единственно возможной в этих условиях форме – частной, тайной хроники, – она создала политическую теорию, неотделимую от наблюдений над своей повседневной жизнью, теорию-дневник, в которой организация быта предстает как модель работы государственной системы.
Записки Фрейденберг кажутся явлением редким, если не уникальным, среди известных нам документов ленинградской блокады и сталинских репрессий. Однако зачатки такого подхода можно найти в блокадных записках (тоже тайных) современницы Фрейденберг, ленинградского литературоведа Лидии Гинзбург. Хотя и не так последовательно, как Фрейденберг, Гинзбург старается осмыслить бытовой опыт блокады в терминах политической теории и смотрит на блокаду как на модель положения человека в ситуации террора11.
По всей видимости, Фрейденберг не знала не только о Ханне Арендт, но и о тех идеях, которые в то же самое время разрабатывала в своих записных книжках Лидия Гинзбург, хотя они жили на одной улице, в 350 метрах друг от друга, на противоположных сторонах канала Грибоедова12.
Следует задуматься и о разобщении, или одиночестве, которое создало сталинское государство, и о том, что, несмотря на культурную изоляцию (о которой много пишет Фрейденберг), разные люди независимо друг от друга приходили к сходным выводам. С нашей точки зрения, это свидетельствует и о социальной разобщенности, и об общности мысли – прочнейшей из связей среди людей.
В военные и послевоенные годы Фрейденберг считала ведение тайной хроники «долгом перед историей». Она не раз обращается к непонятливому будущему историку: «Историк не поймет, как население могло выносить подобную систему подавлений и насилий. Так вот, я ему отвечаю…» (XXXII: IV, 77) Она вполне сознает опасность ведения таких записок: «И хоть я не знаю, увидят ли они свет (кто их спрячет? Куда?), я не хочу отказаться от того, что я считаю своим долгом перед историей. <…> Лучше рисковать жизнью, но тайно писать» (XXXII: I, 45).
Фрейденберг сочла необходимым упомянуть (в скобках) и о недостатках записок, которые были ей дороже жизни: «Да, я еще забыла рассказать об одной вещи (мои записки свободны от принуждения, сбивчивы, непоследовательны и написаны бедным языком, отражая утомленный и обедненный мозг)» (XXVII, 83, 12–13).
Владея даром наблюдения, описания и формулирования, Фрейденберг действительно отнюдь не всегда пишет хорошо. В записках то и дело встречаются повторения (порой навязчивые), многословие, длинноты, сбивчивость, поспешный и бедный язык. Она часто писала быстро и всегда без черновика.
(Признаюсь, что в этой книге я в основном привожу примеры мастерского письма, замечательных описаний, блестящих формулировок, которые не вполне адекватно представляют весь текст записок длиной более чем в две тысячи машинописных страниц.)
Написанные тайно (и в этом смысле свободные от принуждения), записки Фрейденберг свободны и от соблюдения некоторых конвенций хорошего тона.
В своих моральных суждениях она бывает безжалостной и к себе, и к другим (что неприятно поразило некоторых из читавших опубликованные в отрывках записки 1940‐х годов). Она включает отвратительные детали, которые нечасто встретишь даже и в интимном дневнике.
Отчасти это можно объяснить позицией антрополога. Так, в хронике блокады, как и надлежит этнографу, Фрейденберг описывает «структуру» и «функции» тела (и своего собственного тела) в ситуации голодания, включая постоянные поносы. Она описывает дом и город, покрытые экскрементами. Документируя чистки в Ленинградском университете, она описывает, не гнушаясь подробностями, склоки и интриги на кафедре, в которых видит «стоки советских академических нечистот» (XXV: 71, 43). В безжалостной хронике советского быта, будь то блокадный или послевоенный день, человек предстает «в неубранном естестве» (XXVIII: 17, 78) – фраза Фрейденберг, не стеснявшейся показать человека со спущенными штанами и в прямом, и в переносном смысле. Под ее пером хроника повседневности, во всей своей непривлекательности, получает символическое и теоретическое осмысление, обращается в этнографию, историографию, политическую теорию. Как этнограф Фрейденберг выступает в двойственной роли наблюдателя и участника, и немудрено, что порой и она может показаться читателю в неприглядном виде.
Мы, далекие потомки, не можем поставить под сомнение ни ее восприятие жизни, какой бы непривлекательной ни казалась открывающаяся картина, ни тот высокий пафос истории, который подлежит запискам, писавшимся с риском для жизни. Но роль читателя-исследователя состоит и в том, чтобы подвергать документы анализу и интерпретации.
Написанные человеком, жившим в эпоху Гитлера и Сталина, записки отражают и утомленный мозг измученного автора. И в этом состоит их ценность как документа – свидетельства об эпохе, «непревзойденной по масштабам давления власти на человека и по крепости его ответной стальной закалки»13.
Едва ли будет преувеличением сказать, что записки Фрейденберг – история жизни, совпавшей с революцией, двумя мировыми войнами и сталинским террором, и бытовая хроника, написанная исследовательницей культуры, которая теоретизировала свое переживание и восприятие жизни, представляют собой один из самых замечательных человеческих документов двадцатого века.
***
Ко времени ее смерти в 1955 году архив Фрейденберг был упакован в железный сундук, в котором он пролежал в квартире ее наследницы, Русудан Рубеновны Орбели, до начала 1970‐х годов.
История архива сама по себе свидетельствует и о времени, в котором он создавался, и о нашем времени, и заслуживает внимания.
По одной версии, первым, кто открыл этот сундук, был Ю. М. Лотман. В 1973 году он опубликовал в «Ученых записках Тартуского университета» три статьи «из научного наследия О. М. Фрейденберг», сопроводив их своим предисловием, в котором назвал Фрейденберг предтечей семиотического метода14. Архивом заинтересовалась семья Пастернаков. Тогда же Н. В. Брагинская обнаружила на дне сундука переписку Ольги Фрейденберг с Борисом Пастернаком15. Опубликованная по-русски в Нью-Йорке в 1981 году, эта переписка была переведена на несколько языков и привлекла большое внимание. В России переписка публиковалась (в различных изданиях) начиная с 1988 года16.
В середине 1970‐х годов записные книжки Фрейденберг были переданы семье Пастернаков в Москве, перепечатаны на машинке (в объеме более чем 2400 страниц) и переправлены в домашний архив семьи Леонида Пастернака в Оксфорде. С 2015 года записки находятся в Гуверовском институте при Стэнфордском университете в Калифорнии и доступны для исследователей.
Когда переписка Ольги Фрейденберг и Бориса Пастернака была подготовлена к печати (это сделали Евгений Борисович и Елена Владимировна Пастернак, но их имена по понятным причинам не были указаны при первых публикациях в тамиздате), многочисленные отрывки из записок Фрейденберг использовались в качестве соединительной ткани между письмами.
В течение 1980‐х годов в эмигрантской печати были опубликованы два фрагмента, исполненные острого политического содержания: о блокаде и о репрессиях в Ленинградском университете в 1946–1948 годах. На публикации стояло имя «Невельский», за которым скрывалась Юдифь Матвеевна Каган, классический филолог из Москвы (дочь философа Матвея Кагана, члена Невельского кружка Бахтина)17.
В 2012 году записки Фрейденберг были использованы в документальном труде Петра Дружинина «Идеология и филология», посвященном репрессиям в Ленинградском университете в конце 1940‐х годов18. Дружинин цитировал послевоенную хронику Фрейденберг, в частности ее резкие суждения о поведении коллег, оказавшихся объектом чисток и проработок, в качестве комментариев к опубликованным им документам. Вокруг этого разгорелась дискуссия, в ходе которой достоверность мемуарных свидетельств Фрейденберг, а также ее моральный облик и научная состоятельность стали предметом страстной полемики. Нападки поступили со стороны филолога-классика из Ленинградского университета Ирины Левинской, которая почувствовала необходимость заступиться за учителей и коллег, представленных в записках в неприглядном виде. Левинская заявила, что Фрейденберг была склонна считать «доносчиками и интриганами» своих соперников по науке. Брагинская ответила, что Фрейденберг – «один из самых чистых людей, каких я знала, и нет никого, кто мог бы по праву бросить в нее камень». Она также признала, что больше сорока лет держит текст записок «под спудом», отчасти из страха такой реакции, «[н]о теперь время пришло». Тогда, в августе 2013 года, Брагинская сообщила, что весь текст записок «выложен на сайте „Архив Фрейденберг“ под паролем и может быть открыт в один день»19.
Этот эпизод не только позволяет поставить вопрос о статусе дневников и мемуаров как исторического свидетельства, но и показывает эмоциональное напряжение, которое вызывают такие свидетельства у членов сообщества, даже двумя поколениями позже.
По сей день записки Ольги Фрейденберг остаются запертыми «под паролем».
***
Предлагаемая читателю книга задумана как опыт чтения (интерпретации) записок Ольги Фрейденберг. Она адресована не только коллегам, ученым-гуманитариям, для которых Фрейденберг представляет интерес как исследователь и теоретик культуры, но и читателю, размышляющему о том, как «мы жили» (и как жить) под осадой, когда власть (как однажды написала Фрейденберг) пробирается «в самое сердце человека, удушая и преследуя его везде, даже наедине, даже ночью, даже в своем глубоком „я“» (XIV: 106, 109).
Смею надеяться, что когда записки будут наконец опубликованы и доступны читателю (о чем мечтала Фрейденберг), моя книга сможет послужить путеводителем по страницам этой гигантской хроники.
Особое внимание будет сосредоточено на хронике ленинградской блокады и послевоенных репрессий, и в мою задачу входит проявить ту политическую теорию сталинизма, которую Фрейденберг разрабатывала (пусть и не всегда осознанно) в записях о своей повседневной жизни.
Это теория, выстраданная как опыт и запечатленная в человеческом документе.