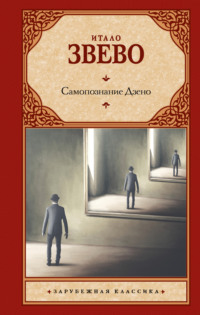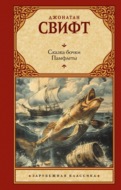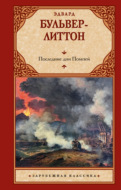Loe raamatut: «Самопознание Дзено»
Серия «Зарубежная классика»
Перевод с итальянского С. Бушуевой

© Перевод. С. Бушуева, наследники, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
I. Предуведомление
Я врач, о котором в этом повествовании отзываются порой не самым лестным образом. Тот, кто понимает в психоанализе, знает, чем объяснить антипатию, которую обнаруживает ко мне пациент.
Но о психоанализе я говорить больше не буду: о нем достаточно много говорится дальше. Я должен только принести извинения за то, что принудил больного составить свое жизнеописание: это нововведение, видимо, заставит недовольно поморщиться всех психоаналитиков. Но мой пациент был стар, и я надеялся, что, по мере того как он будет предаваться воспоминаниям, для него будет оживать его прошлое и, таким образом, его работа над собственным жизнеописанием послужит прекрасным вступлением к психоанализу. Мне и сейчас эта мысль кажется удачной, ибо она привела к результатам, которых я даже не ожидал и которые были бы еще значительнее, если бы больной не бросил лечения в самом разгаре, предательски похитив у меня плоды долгого и терпеливого анализа его воспоминаний.
Я публикую его записки из мести и надеюсь, что это будет ему неприятно. Однако пусть он знает, что я готов разделить с ним баснословный гонорар, который принесет мне эта публикация, но только с одним условием: он должен возобновить лечение! Казалось, его так интересовала собственная персона! Если б он знал, сколько неожиданного обнаружит он в моих комментариях ко всей правде и лжи, которые он здесь нагромоздил!
Доктор С.
II. Вступление
Попытаться воскресить свое детство? Между мною и той давней порой пролегло более пяти десятков лет, но мои дальнозоркие глаза, может быть, и сумели что-нибудь там разглядеть, если бы свет, который оттуда еще пробивается, не заслоняли, словно высокие горы, прожитые мною годы, а главное, некоторые особенно памятные мне часы.
Доктор сказал, чтобы я не старался заглядывать слишком далеко. Для них, врачей, важны и недавние события, и прежде всего сны, которые снились нам накануне. Но все-таки должен же быть и здесь какой-то порядок! И вот, чтобы иметь возможность начать ab ovo1 и облегчить тем самым доктору его задачу, я, выйдя от доктора, который надолго покидает Триест, тут же купил и прочел трактат по психоанализу. Читать его было нетрудно, но очень скучно.
Пообедав, я удобно растянулся в глубоком кожаном кресле, держа в руках карандаш и лист бумаги. Лоб мой гладок, потому что я тщательно избегаю всякого умственного усилия. Моя мысль кажется мне существующей совершенно отдельно от меня. Я ее вижу. Вот она поднимается, вот опускается, но это все, что она делает! Чтобы напомнить ей о том, что она все-таки мысль и что ей следует как-то себя обнаружить, я сжимаю в пальцах карандаш. И тут же мой лоб собирается в морщины, потому что каждое слово состоит из множества букв, и настоящее властно вступает в свои права, затемняя прошедшее.
Вчера я попытался совершенно отвлечься от окружающего. Эксперимент завершился глубоким сном, и единственным его результатом было то, что проснулся я освеженным и отдохнувшим, и у меня осталось странное ощущение, будто я видел во сне что-то очень важное. Но что – забыто, потеряно навсегда.
Благодаря карандашу, который я держу в руке, сегодня я не засыпаю. Я вижу – то смутно, то ясно – какие-то странные картины, которые не могут иметь никакого отношения к моему прошлому. Вот паровоз, который пыхтит на подъеме, таща за собой вереницу вагонов; кто знает, откуда он едет и куда и как оказался здесь!
В полудреме я вспомнил, что в прочитанном мною трактате по психоанализу говорится, что с помощью этой системы можно вспомнить даже самое раннее – еще младенческое – детство. И я тут же вижу младенца в пеленках – но почему этот младенец обязательно я? Он совсем на меня не похож, и, я думаю, это не я, а ребенок моей свояченицы, который родился несколько недель назад и который кажется нам настоящим чудом – такие у него крохотные ручки и такие большие глаза! Бедное дитя! Где уж мне вспомнить свое детство! Я даже не в силах предупредить тебя, переживающего сейчас свое, о том, как важно для твоего здоровья и умственного развития его запомнить! Когда еще доведется тебе узнать, что для тебя было бы очень полезно удержать в памяти всю твою жизнь, даже ту огромную ее часть, которая тебе самому будет противна! А покуда ты, еще лишенный сознания, устремляешь свой крохотный организм на поиски приятных ощущений; твои сладостные открытия приведут тебя на путь страданий и болезни, и на тот же путь толкнут тебя и те люди, которые меньше всего желают тебе зла. Что делать! Защитить твою колыбель невозможно! В твоем теле – о детеныш! – все время происходят таинственные реакции. С каждой новой минутой в него заносится новый реагент, а так как не все твои минуты чисты – сколько возможностей заболеть! И потом – о детеныш! – в тебе течет кровь людей, которых я знаю. Минуты, которые проходят сейчас, может быть, и чисты, но такими, конечно, не были века, которые подготовили твое рождение.
Но я опять оказался слишком далеко от образов, которые предшествуют сну. Попытаюсь еще раз завтра.
III. Курение
Доктор, которому я рассказал о своих попытках, посоветовал мне начать с исторического анализа моей страсти к курению.
– Напишите-ка, напишите! И вы ясно увидите всего себя!
Думаю, что о курении я могу писать прямо за столом, не отправляясь дремать в кресло. Я не знаю, с чего начать, и призываю на помощь сигареты, которые все, в сущности, похожи на ту, что я держу сейчас в руке.
И тут мне сразу же открывается одна вещь, о которой я давно позабыл. Первых моих сигарет, сигарет, с которых я начал, теперь уже нет. Были такие в семидесятых годах в Австрии. Они продавались в картонных коробках с фирменным знаком, изображавшим двуглавого орла. И вот, пожалуйста, рядом с этой коробкой в моей памяти сразу же возникают какие-то лица, и в каждом из них есть какая-то черточка, которой достаточно, чтобы я угадал имя, но недостаточно, чтобы эта неожиданная встреча меня взволновала. Я пытаюсь добиться большего и иду к креслу; лица сразу же начинают таять и расплываться, и на их месте появляются какие-то ухмыляющиеся шутовские рожи. Разочарованный, я возвращаюсь к столу.
Один из тех, кого я сейчас видел, тот, у кого немного хриплый голос, – это Джузеппе, друг моего детства, мой сверстник, а другой – мой брат, который был на год меня моложе и умер много лет назад. Если не ошибаюсь, именно Джузеппе, получив однажды от отца много денег, подарил нам эти сигареты. Но я был убежден, что брату он дал больше, чем мне. Отсюда – необходимость раздобыть себе еще. Так получилось, что я начал красть. Летом отец имел обыкновение оставлять в столовой на стуле свой жилет, в кармашке которого всегда была мелочь. Так я раздобывал десять сольдо, необходимые для приобретения драгоценной коробки, и одну за другой выкуривал все десять сигарет, составляющих ее содержимое, чтобы не хранить слишком долго компрометирующую меня добычу.
Все это лежало в моей памяти на самой поверхности – только протяни руку – и оживает лишь сейчас просто потому, что раньше я не придавал этому никакого значения. Но вот я обнаружил начало своей дурной привычки, и, кто знает, быть может, я от нее уже избавился? Чтобы проверить, я в последний раз зажигаю сигарету: вдруг я тут же с отвращением ее отшвырну?
Помню еще, что как-то раз отец застал меня в ту минуту, когда я шарил в карманах его жилета. С наглостью, на которую сейчас я уже не способен и которая сейчас приводит меня в ужас (кто знает, может быть, этот ужас очень важен для моего излечения?), я сказал ему, что мне захотелось сосчитать, сколько на жилете пуговиц. Отец посмеялся над моей склонностью то ли к математике, то ли к портновскому ремеслу и не заметил, что пальцы мои находились в кармашке его жилета. К моей чести я должен добавить, что достаточно было этого смеха над моей – на деле уже не существовавшей – наивностью, чтобы я раз и навсегда покончил с воровством. То есть я крал и потом, но уже не сознавая, что это воровство. У отца была привычка оставлять на краях столов и шкафов наполовину выкуренные виргинские сигары. Я думал, что таков его способ их выбрасывать, и мне даже казалось, будто я видел, как наша старая служанка Катина их убирала. Их-то я и докуривал потихоньку. Уже в тот момент, когда они оказывались у меня в руках, меня пронизывала дрожь при мысли о том, как мне будет плохо! Потом я курил до тех пор, пока лоб не покрывался холодным потом и желудок не начинало выворачивать. Да, никто не посмеет сказать, что в детстве мне не хватало силы воли!
Я прекрасно помню, как отец отучил меня и от этой привычки. Однажды летом я вернулся с какой-то школьной экскурсии усталый и потный. Мать помогла мне раздеться и, завернув в свой пеньюар, уложила спать на диване, на котором сама сидела с шитьем. Я уже почти совсем спал, но в глазах у меня все еще стояло солнце, и я не мог забыться окончательно. Я ощущаю как нечто совершенно отдельное от себя то сладостное чувство, которое в детстве всегда неотделимо от отдыха после сильной усталости, и это ощущение так живо, словно я сейчас лежу подле родного мне тела, которого давно уже нет на свете.
Я хорошо помню большую прохладную комнату, где мы в детстве любили играть и которая сейчас, в наше жадное до пространства время, разделена на две. В сцене, которую я вспоминаю, мой брат не показывается, и это меня несколько удивляет, потому что он ведь тоже должен был участвовать в этой экскурсии, а потом отдыхать вместе со мною. Может, он спал на другом конце большого дивана? Я смотрю туда, но мне кажется, что там пусто. Я вижу только себя, свой сладостный отдых, мать и потом отца: его голос внезапно раздается в комнате. Войдя, он поначалу меня не заметил и громко позвал:
– Мария!
Мама с еле слышным «тсс» указала ему на меня, спавшего, по ее мнению, глубоким сном, но на самом деле бодрствовавшего. Мне так понравилось, что отец должен был считаться с моим сном, что я не шевельнулся.
Отец шепотом пожаловался:
– Мне кажется, я схожу с ума. Я почти уверен, что полчаса назад оставил в той комнате на шкафу половину сигары, и вот ее нет! Со мной творится что-то неладное: вещи исчезают у меня из-под носа!
Тоже шепотом, но в котором ясно сквозила насмешливость, сдерживаемая лишь боязнью меня разбудить, мать ответила:
– И все-таки после обеда в ту комнату никто не входил.
Отец пробормотал:
– Да я и сам это знаю, и именно потому мне и кажется, что я схожу с ума.
Он повернулся и вышел.
Я приоткрыл глаза и посмотрел на мать. Она снова взялась за шитье, но продолжала улыбаться. Разумеется, она не верила в то, что отец сходит с ума, раз могла смеяться над его страхами. Эта ее улыбка так запала мне в память, что я сразу же ее узнал, когда однажды увидел на губах своей жены.
Свободно предаваться пороку курения мне мешала не столько нехватка денег, сколько запрещения, но они лишь еще больше подогревали мою страсть.
Помню, что курил я, прячась по углам, ужасно много. Меня и сейчас еще тошнит, когда я вспоминаю о том, как однажды полчаса просидел в каком-то подвале в обществе двух других мальчиков, от которых в памяти у меня не осталось ничего, кроме их детских одежек: две пары штанишек, которые стоят в воздухе сами по себе, потому что тела, которые были в них заключены, стерло время. Мы принесли с собой много сигарет и хотели узнать, кто из нас выкурит больше за наименьший срок. Победил я и героически скрыл дурноту, вызванную этим странным состязанием. Потом мы вышли на солнце и свежий воздух, и мне пришлось закрыть глаза, чтобы не упасть. Придя в себя, я начал хвастаться своей победой. И тогда один из двух маленьких человечков сказал:
– А мне неважно, что я проиграл. Я всегда курю ровно столько, сколько мне хочется.
Я хорошо помню эту исполненную здравого смысла фразу, но совсем не помню то, по всей видимости, здоровое личико, которое должно было быть обращено ко мне в эту минуту.
Но тогда я еще не знал, любил ли я или ненавидел сигарету – ее запах и то состояние, в которое она меня приводила. Хуже было, когда я узнал, что все это я ненавижу. Узнал я это, когда мне было уже около двадцати. Несколько недель у меня страшно болело горло и держалась высокая температура. Доктор прописал мне постельный режим и абсолютное воздержание от курения. Я хорошо помню это слово: абсолютное. Оно болезненно поразило меня, а лихорадка придала ему еще особую окраску: огромный вакуум, и невозможно противиться огромному давлению, которое всегда возникает вокруг вакуума. Когда доктор ушел, отец (матери к тому времени уже не было в живых) еще некоторое время посидел со мной, не выпуская изо рта огромной сигары. Уходя, он ласково провел рукой по моему пылающему лицу и сказал:
– Не кури, а?
Меня охватило глубокое беспокойство. Я думал: раз мне это вредно, больше я курить не буду, но сначала я должен сделать это в последний раз. Я зажег сигарету и сразу же почувствовал, что беспокойства моего как не бывало, хотя температура поднялась еще выше и при каждой затяжке я чувствовал такое жжение в миндалинах, будто к ним прикасались раскаленной головешкой. Я докурил сигарету до конца с прилежанием человека, выполняющего обет, и с теми же ужасными мучениями выкурил за время той болезни еще множество других. Отец, который приходил и уходил, не выпуская изо рта сигары, восклицал:
– Молодчина! Еще несколько дней воздержания, и ты здоров!
Достаточно было одной этой фразы, чтобы мне захотелось поскорее остаться одному и получить возможность закурить. Я даже притворялся, что сплю, чтобы заставить его уйти пораньше.
Так за время этой болезни я обзавелся еще одной слабостью, помимо своей страсти к курению: желанием победить эту страсть. С той поры мои дни заполнились курением и обещаниями бросить курить. Чтобы сразу все стало ясно, я должен сказать, что порой дело обстоит так и сейчас. Длинная вереница последних сигарет, образовавшаяся в течение двадцати лет, продолжает пополняться. Правда, решимость моя с годами несколько поостыла, и мое старое сердце относится к этому пороку гораздо снисходительнее, чем раньше. В старости люди вообще склонны снисходительно посмеиваться над жизнью и над тем, что составляет ее содержание. И я могу даже сказать, что с некоторых пор выкурил множество сигарет, которые… не были последними!
На титульном листе одного словаря я нахожу следующую запись, выполненную красивым почерком с завитушками:
«Сегодня, 2 февраля 1886 года, я перехожу от изучения юриспруденции к изучению химии. Последняя сигарета!»
Это была очень важная последняя сигарета. Помню надежды, которые были с ней связаны. Я взбунтовался против канонического права, которое казалось мне слишком далеким от жизни, и устремился в науку, которая была самой жизнью, правда, замкнутой стеклянными стенками колбы. Эта последняя сигарета означала жажду деятельности – причем деятельности даже чисто физической – и ясного мышления, трезвого и основательного.
Затем, желая вырваться из цепей углеродных соединений, в которые я так и не смог поверить, я снова вернулся к праву. Увы! То была ошибка, и она тоже была отмечена последней сигаретой, дату которой я обнаруживаю в одной книге. Эта сигарета тоже была очень важной, ибо в тот день я смиренно и с самыми лучшими намерениями возвратился ко всяческим осложнениям с «моим», «твоим» и «его», разорвав наконец углеродные цепи. К химии я оказался малопригодным, в частности потому, что у меня были недостаточно ловкие руки. Да и как они могли быть ловкими, если я продолжал дымить как турок!
Сейчас, когда я анализирую свои поступки, во мне рождается подозрение: а не потому ли я так любил сигареты, что мог возложить на них ответственность за свою никчемность? Кто знает, сумел бы я стать, если б бросил курить, тем идеальным, сильным человеком, которым я надеялся стать? Может быть, именно сомнение в этом и привязало меня к моему пороку: ведь, в сущности, это очень удобный способ жить – веря, что ты незауряден, только незаурядность твоя покуда не проявляется. Я выдвигаю эту гипотезу для того, чтобы объяснить свою юношескую слабость, но без особого убеждения. Сейчас, когда я стар и никто от меня ничего не требует, я все равно от сигареты перехожу к решению бросить курить и от этого решения – снова к сигарете. Теперь-то какой смысл во всех этих решениях? Уж не похож ли я на того, описанного Гольдони, старого гигиениста, который всю жизнь прожил больным, но умереть непременно желал здоровым?
Однажды, когда я студентом съезжал с квартиры, мне пришлось за свой счет переклеивать в комнате обои, потому что они все были исписаны датами. Может, я и съехать-то решил оттого, что комната превратилась в кладбище моих добрых намерений и я считал немыслимым возобновлять их тут же?
Мне кажется, что у сигареты куда более острый вкус, когда она последняя. У других тоже есть свой вкус, но менее острый. Особый вкус последней сигарете придает чувство победы над самим собой и надежда на то, что в самом ближайшем будущем мы обретем здоровье и силу. Достоинство же других сигарет состоит в том, что, закуривая их, мы как бы утверждаем свою независимость, в то время как здоровье и сила остаются за нами, только немного отодвигаются в будущее.
Стены той комнаты были все исписаны датами: надписи были самых разных цветов, а некоторые даже исполнены масляной краской. Твердое решение, очередной раз вызванное к жизни самой искренней верой, находило соответствующее выражение в интенсивности цвета, призванного затмить предыдущую запись. Некоторые даты были избраны мною из-за гармонии цифр. Помню одну дату из прошлого века, словно созданную для того, чтобы навсегда опечатать гроб, в котором я желал похоронить свой порок: «Девятый день девятого месяца 1899 года». Выразительно, не правда ли? Новый век принес мне даты, по-своему музыкальные. «Первый день первого месяца 1901 года». Мне до сих пор кажется, что если б эта дата могла повториться, я сумел бы начать жизнь сначала.
Но календарь полон дат, и, при некотором усилии воображения, каждая из них годится для принятия очередного решения. Помню, например, – может быть, оттого, что мне казалось, будто в ней заключен какой-то в высшей степени категорический императив, – следующую дату: «Третий день шестого месяца 1912 года, 24 часа». Она звучит так, словно каждая цифра удваивает здесь предыдущую.
1913 год принес мне минуту замешательства: не хватало тринадцатого месяца, чтобы согласовать его с годом. Но не нужно думать, будто дате, призванной особо подчеркнуть день последней сигареты, обязательно нужны какие-то внутренние согласования. Многие из дат, которые я нахожу на любимых картинах и книгах, режут глаз своей уродливостью. Например: «Третий день второго месяца 1905 года, шесть часов». В ней есть свой ритм, если приглядеться, потому что каждая цифра отрицает здесь предыдущую. Множество событий, а точнее, все события, от смерти Пия IX до рождения моего сына, я счел заслуживающими того, чтобы отметить их обычным железным решением. Домашние поражаются моей памяти на радостные и печальные годовщины в нашей семье и считают, что я очень добрый и внимательный человек.
Для того чтобы эта моя болезнь «последней сигареты» выглядела все-таки не так глупо, я попытался придать ей даже некоторый философский смысл. «Последняя, больше никогда!» – восклицает человек с благородным видом. Но как быть с благородным видом, когда обещание выполнено? Принять благородный вид можно лишь тогда, когда возобновляешь решение! И потом, время для меня – это вовсе не та невероятная вещь, которую невозможно остановить. Ко мне, и только ко мне оно возвращается.
Болезнь – это убеждение, и я родился с этим убеждением. О той болезни, которой я переболел в двадцать лет, я бы мало что теперь помнил, если б тогда же не описал ее врачу. Странно, насколько лучше запоминаются слова, нежели чувства, которые не были высказаны вслух.
Я пошел к тому врачу, потому что мне сказали, будто он вылечивает нервные болезни электричеством. Я думал почерпнуть в электричестве силу, которая была мне необходима для того, чтобы бросить курение.
У доктора был большой живот и астматическое дыхание, которое вторило потрескиванию электрической машины, запущенной с первого же сеанса. Сеанс этот меня разочаровал, потому что я надеялся, что при осмотре врач обнаружит яд, отравляющий мою кровь. Он же вместо этого заявил, что находит мою конституцию здоровой, а после того как я пожаловался ему на плохое пищеварение и дурной сон, высказал предположение, что у меня пониженная кислотность и вялая перистальтика. Последнее слово он произнес столько раз, что я запомнил его на всю жизнь. И он прописал мне кислоту, которая нанесла серьезный ущерб моему здоровью, потому что с тех пор я страдаю повышенной кислотностью.
Когда я понял, что сам он никогда не откроет присутствия никотина в моей крови, я решил ему помочь и высказал предположение, что мое недомогание, возможно, следует приписать курению. Он с усилием пожал толстыми плечами:
– Перистальтика… Кислотность… Никотин не имеет к этому никакого отношения…
Я проделал семьдесят электрических процедур, и, может быть, они продолжались бы до сих пор, если бы я сам не решил, что с меня достаточно. Я не столько ждал от них чуда, сколько надеялся, что результат убедит доктора запретить мне курение. Кто знает, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь, если б тогда я был укреплен в своем решении еще и запрещением врача!
Вот как я описал доктору свою болезнь. «У меня нет сил заниматься, и в тех редких случаях, когда я ложусь спать вовремя, я не могу заснуть до первых колоколов. По этой же причине я разрываюсь между химией и юриспруденцией: обе эти науки требуют, чтобы работа начиналась в строго определенные часы, а я никогда не знаю накануне, во сколько поднимусь завтра».
– Электричество излечивает любую бессонницу! – изрек эскулап, глаза которого смотрели не столько на пациента, сколько на циферблат.
В конце концов я заговорил с ним так, словно ему был известен психоанализ, рождение которого я, таким образом, робко предвосхитил. Я рассказал ему о своих неприятностях с женщинами. Мне мало было одной, и нескольких мне тоже было мало. Я желал всех! Когда я шел по улице, возбуждение мое переходило всякие границы: все проходившие мимо женщины были моими. Я разглядывал их с наглостью, оттого что мне необходимо было почувствовать себя животно-грубым. Мысленно я раздевал их, оставляя им только туфельки, заключал их в объятия и отпускал не раньше, чем убеждался, что для меня в них не осталось ничего неизведанного.
Попусту потраченная речь и совершенно напрасная откровенность! Доктор пропыхтел:
– Ну, знаете, я надеюсь, что электропроцедуры не излечат вас от этой болезни! Еще чего не хватало! Да я бы не прикоснулся к Румкорфу, если бы от него можно было ждать подобных эффектов!
И он рассказал мне анекдот, который считал очень остроумным. Один больной, страдавший той же болезнью, что и я, пришел к знаменитому врачу с просьбой его вылечить, и врач, которому это прекрасно удалось, вынужден был уехать из города, потому что пациент хотел спустить с него шкуру.
– Но мое возбуждение нездорово! – воскликнул я. – Оно вызвано ядом, из-за которого у меня воспалены вены.
Доктор пробормотал с удрученным видом:
– Нет на свете людей, довольных своей участью!
И, собственно, только для того, чтобы его убедить, я сделал то, чего не пожелал сделать он: я сам изучил свою болезнь, собрав все ее симптомы. Взять, скажем, мою рассеянность. Она тоже не давала мне заниматься. Когда я готовился в Граце к первому государственному экзамену, у меня был тщательно составленный список книг, которые должны были мне понадобиться в течение всего курса обучения, вплоть до последнего экзамена. И кончилось тем, что накануне первого экзамена я увидел, что выучил разделы, которые должны были мне понадобиться несколько лет спустя. Поэтому экзамен мне пришлось отложить. Правда, и эти-то разделы я изучал не очень прилежно из-за живущей по соседству девушки, которая удостаивала меня всего лишь кокетством, правда, довольно откровенным. Когда девушка показывалась в своем окне, я не мог больше прочесть ни единой строчки. Ну не дурак ли тот, кто ведет себя подобным образом? Помню маленькое беленькое личико в окошке: овальное, обрамленное воздушными рыжеватыми локонами. Я глядел на него, мечтая утопить эту белизну и это красноватое золото в своей подушке.
Эскулап пробормотал:
– В любовной игре тоже есть своя прелесть. Доживите до моих лет, так уж не полюбезничаете.
Теперь-то я точно знаю, что о любовной игре он не имел ни малейшего понятия. Мне пятьдесят семь лет, но я уверен, что если я не брошу курить и меня не вылечит психоанализ, то в последнем взгляде, брошенном мною с моего смертного ложа, будет сквозить желание, которое я, несомненно, почувствую к своей сиделке – если только это будет не моя жена и если моя жена позволит, чтобы она была красива.
Я был с ним откровенен, как на исповеди: женщины нравились мне не целиком, а… частями! У всех у них мне нравились ножки, если только на них были хорошенькие туфельки, у многих шея, хрупкая или, напротив, полная, у некоторых грудь – если только она была маленькая. И я продолжал перечислять части женского тела, покуда доктор меня не прервал:
– Но все эти части составляют целую женщину!
Тогда я произнес очень важную фразу:
– Здоровая любовь – это такая любовь, когда любишь женщину целиком, с ее характером и ее душой.
До той поры я не знал такой любви, а когда узнал, то она тоже не принесла мне выздоровления, но мне важно вспомнить, что я напал на след болезни там, где доктор видел одно лишь здоровье, и что мой диагноз впоследствии полностью подтвердился.
В лице одного моего приятеля, не врача, я нашел человека, который гораздо лучше понял меня и мою болезнь. Большого проку от этого, правда, не было, но в моей жизни прозвучала новая нота, эхо которой отдается до сих пор.
Мой друг был богатым человеком, который скрашивал свой досуг учеными занятиями и литературной работой. Но говорил он намного лучше, чем писал, а потому мир так и не узнал, каким он был прекрасным литератором. Он был крупный и очень толстый и как раз в ту пору, когда я с ним познакомился, с большим рвением занимался лечением, в результате которого должен был похудеть. За несколько дней он добился таких замечательных результатов, что на улице все норовили к нему подойти, чтобы рядом с ним, таким изможденным, лучше почувствовать собственное здоровье. Я завидовал его умению добиваться всего, чего ему хотелось, и, пока длился курс лечения, был с ним неразлучен. Он позволял мне трогать свой живот, который с каждым днем уменьшался в объеме, и я, сделавшийся из зависти недоброжелательным, говорил ему, желая ослабить его решимость:
– Но когда лечение закончится, что вы будете делать со всей этой кожей?
И он с абсолютным спокойствием, выглядевшим несколько комическим на его изможденном лице, отвечал:
– Через два дня я начинаю массаж.
Его лечение было продумано во всех деталях, и можно было не сомневаться, что все будет происходить точно по расписанию.
Все это внушило мне такое доверие, что я рассказал ему о своей болезни. Этот рассказ я тоже помню. Я сказал ему, что мне легче не есть три раза в день, чем отказаться от бесчисленного количества сигарет, и что в результате мне то и дело приходится брать на себя одно и то же крайне изнуряющее меня обязательство. Взяв такое обязательство, нечего и думать заняться чем-нибудь другим, потому что только Юлий Цезарь умел делать несколько дел зараз. Хорошо еще, что я могу не работать, покуда жив мой управляющий Оливи. Но вообще куда это годится, чтобы человек, подобный мне, только и умел, что предаваться мечтам да пиликать на скрипке, к которой у меня, кстати, нет никаких способностей.
Похудевший толстяк ответил мне не сразу. Он был человек методический и сначала надолго задумался. Потом с назидательным видом, на который он имел право, если принять во внимание его превосходство надо мной в данном вопросе, он объяснил, что настоящей моей болезнью были не сигареты, а принимаемые мною решения, и что я должен покончить со своим пороком, не принимая никаких решений. По его мнению, за эти годы во мне как бы образовались два разных человека: один был хозяином, а другой рабом, который, однако, так любил свободу, что при малейшем ослаблении бдительности восставал против своего хозяина. Поэтому я должен предоставить рабу полную свободу и в то же время взглянуть своему пороку прямо в лицо, так, словно вижу его впервые. Мне следует не бороться со своим пороком, а как бы не замечать его, постараться забыть, что я ему привержен: в общем, небрежно повернуться к нему спиной, как поворачиваемся мы спиной к человеку, общаться с которым считаем ниже своего достоинства. Просто, не правда ли?
И в самом деле, мне показалось все это чрезвычайно простым. Мне и вправду удалось не курить в течение нескольких часов, после того как я с огромным трудом изгнал из своей головы все помыслы об обязательствах; но когда мой рот очистился и в нем появился тот невинный вкус, который должен ощущать новорожденный младенец, мне захотелось закурить; а когда я закурил, я почувствовал угрызения совести, заставившие меня снова принять решение, которого я так хотел избежать. Это был более длинный путь, но приводил он к тому же самому результату.
Негодяй Оливи подал мне как-то мысль подкрепить мое решение пари.
Мне кажется, что Оливи всегда был таким, каким я вижу его сейчас. Сколько я его помню, он всегда был немного сутулым, но крепким, и всегда казался мне таким же старым, как и сейчас, когда ему восемьдесят. Он всю жизнь работал на меня и продолжает работать до сих пор, но я его не люблю: мне кажется, что работу, которую он выполняет, он отнял у меня.
Мы заключили пари. Тот из нас, кто закурит первым, должен заплатить штраф, а затем мы оба вновь обретаем свободу. Таким образом, управляющий, приставленный ко мне для того, чтобы я не разбазарил отцовское наследство, покушался на материнское, которым я распоряжался самостоятельно!
Пари оказалось самым кабальным, какое только можно себе представить. Если раньше я бывал поочередно то рабом, то хозяином, то теперь я стал только рабом, причем рабом Оливи, которого так не любил. Я закурил сразу же. Потом подумал, что мог бы его обмануть, продолжая курить тайком. Но в таком случае к чему было заключать пари? Тогда я бросился на розыски даты, которая гармонировала бы с датой пари; я хотел, чтобы день, в который я выкурю последнюю сигарету, был, таким образом, зафиксирован не только мною, но и Оливи. Но бунт раба продолжался, и из-за курения у меня даже появилась одышка. Желая сбросить с себя эту тяжесть, я пошел к Оливи и во всем ему признался.