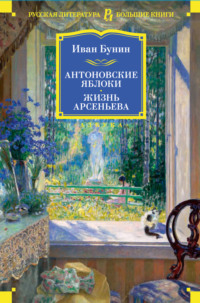Loe raamatut: «Антоновские яблоки. Жизнь Арсеньева»
© И. Н. Сухих, статья, 2024
© Оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
* * *


Проза Бунина: зрение и память
«Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих… Так сложилась и судьба моей юности, определившей и всю мою судьбу». Таким (печальным или оптимистическим?) размышлением начинается одна из глав автобиографической книги Бунина «Жизнь Арсеньева» (книга вторая, глава XVI).
Согласно другим бунинским воспоминаниям, у его писательской колыбели сошлись Случай и Предопределение.
«То, что я стал писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-нибудь „на роду написано“. ‹…› От некоторых писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что это совсем так, но все-таки могу представить себе их и не писателями, а вот самого себя не представляю», – утверждал Бунин («Из записей», 1927).
Но внешний толчок, выявивший это призвание, оказался «странным», неожиданным, даже смешным. Уже в конце жизни писатель вспоминал, что в восемь лет он увидел в какой-то книжке изображение уродливого человека, карлика с палкой, и прочел подпись под картинкой, поразившую непонятным последним словом: «Встреча в горах с кретином».
«В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?» – спрашивает Бунин. И не удерживается от иронического и горького замечания: «Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с кретинами… ‹…› Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории» («Автобиографические заметки», 1950).
Эта необыкновенная жизнь оказалась и очень долгой. Бунин стал таким же писателем-мафусаилом ХХ века, каким в веке девятнадцатом был обожаемый им Л. Н. Толстой.
Иван Алексеевич Бунин родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже в старинной дворянской семье. Он гордился своей родословной, восходящей к XV веку, и не раз упоминал, что среди его предков были поэтесса начала XIX века А. П. Бунина и даже В. А. Жуковский (незаконный сын помещика И. А. Бунина).
Но эти сладостные воспоминания не отменяли неприглядного настоящего. В отличие от своих знаменитых соседей Тургенева и Толстого, имения которых находились неподалеку, в той же черноземной, глубинной России, Бунин оказался помещиком, дворянином лишь по рождению, но не воспитанию, образованию, образу жизни.
Отец, получивший небольшое наследство, окончательно разорился. Поэтому трехлетнего ребенка из Воронежа увезли на глухой хутор в Орловской губернии. «Тут, в глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной» («Автобиографическая заметка», 1915). (Даже в одном предложении виден Бунин-писатель: предметных деталей, описания внешнего мира здесь больше, чем психологических признаний.)
Но поэзия природы, раннее бессистемное чтение, первые стихотворные опыты не могли заменить систематического образования. Вместо толстовских гувернеров и тургеневских поездок в Париж, этот дворянин имел лишь странного воспитателя, учившего «чему попало и как попало».
В 1891 году Бунин поступил в Елецкую гимназию. «Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные, – известно, что такое русская, да еще уездная гимназия и что такое уездный русский город! Резок был и переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии и к тяжкому быту тех мещанских и купеческих домов, где мне пришлось жить нахлебником» («Автобиографическая заметка»).
Через пять лет Бунин уходит из гимназии, не закончив ее. Вся его последующая жизнь – это жизнь странника, вечного скитальца, обитателя гостиниц и чужих квартир, так и не дожившего до собственного дома.
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!
У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!
(«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…»25 июня 1922 г.)
«Я тогда жил, несмотря на свою внешнюю общительность, вне всякого общества. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам…)», – передавал Бунин сходное ощущение уже не в стихах, а в прозе.
С ранней юности он вел жизнь скорее не дворянина, а разночинца, лишенного прочных корней и привязанностей, зарабатывающего на жизнь собственным трудом. Этим трудом стала литература в разных ее формах и проявлениях.
Бунин не любил чеховский «Вишневый сад», но «вечный студент», сын аптекаря Петя Трофимов мог быть его старшим братом, спутником по странствиям «из Вологды в Керчь» и «из Керчи – в Вологду». «Я же чуть не с отрочества был „вольнодумец“, вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею…» («Автобиографическая заметка»).
После ухода из гимназии Бунин занимается самообразованием со старшим братом Юлием, опять живет в деревне, много сочиняет, публикует первые стихи и рассказы (с 1887 года), начинает работать в газете «Орловский вестник». В Орле, вспоминал он впоследствии, «меня сразила, к великому моему несчастью, долгая любовь» («Автобиографическая заметка»). Страстные и мучительные отношения нищего журналиста с дочерью елецкого врача Варварой Владимировной Пащенко через пять лет (1894) окончились разрывом. Девушка вышла замуж за друга Бунина. Эта драматическая история через много лет станет центральным событием автобиографической хроники «Жизнь Арсеньева», где Варвара превратится в Лику.
Подзаголовок этой книги – «Юность». Бунин не случайно расстается со своим персонажем на этом пороге. «Дальнейшие дни и годы моей жизни, – написал он уже о самом себе, – образуют, при всей их разности, нечто все-таки более однородное, более простое, обыденное, более близкое мне теперешнему, нежели переменчивость, давность, легендарность детства, отрочества, юности, первой молодости. Присказка всегда поэтичнее сказки».
Через несколько лет Бунин женился на Анне Николаевне Цакни, но и этот брак оказался недолгим (1898–1899). В 1906 году писатель познакомился с дочерью известного общественного деятеля Верой Николаевной Муромцевой. Через год она стала женой Бунина, прожила с писателем почти пятьдесят лет, после его смерти написала замечательные мемуарные книги «Жизнь Бунина» и «Беседы с памятью».
Переживая личные драмы, Бунин тем не менее много работает, его произведения появляются в серьезных журналах, он переселяется в Москву, знакомится со многими известными писателями, в том числе А. П. Чеховым, В. Г. Короленко, А. И. Куприным, В. Я. Брюсовым, М. Горьким. Кажется, Бунин угадал свое призвание, занял в современной литературе прочное место: издавал книги, получал премии, был даже избран почетным членом Академии наук, стал писателем-академиком. Но он все время чувствовал себя обойденным, родившимся не вовремя.
Дар Бунина был изобразительным, пластическим. Он великолепно чувствовал природу, рисовал пейзаж, многосторонне воспроизводил быт и характеры. Не случайно больше всего среди русских писателей он ценил Толстого и Чехова. Он написал книгу-размышление «Освобождение Толстого» (1937) и до последних дней работал над мемуарно-биографической книгой о Чехове, изданной уже после смерти (1955).
В девятнадцатом веке, среди писателей-реалистов, Бунин чувствовал себя своим. Но в модернистскую эпоху, в Серебряном веке такие поэзия и поэтика казались несовременными, устаревшими. Одним – потому, что в произведениях Бунина не было, как у символистов, лиловых миров и взгляда сквозь. Другим – потому, что у него отсутствовала, как у «новых реалистов» М. Горького и Л. Н. Андреева, даже его друга А. И. Куприна, отчетливая публицистическая установка, лозунг, призыв.
Одним современникам Бунин казался излишне бытовым писателем, другим – недостаточно идейным. А он всю жизнь отстаивал право художника, прежде всего, изображать человеческие характеры, вписанные в мир божий и неотделимые от него.
В статье «На поучение молодым писателям» (1928) Бунин спорит с критиком Г. Адамовичем, который признавался в своей нелюбви к «внешней изобразительности», «описательству», «бытовизму» и призывал молодых писателей обратиться к «изображению внутреннего мира». Бунин принимает поучения на свой счет, но не понимает такого механического разделения и такой нелюбви к миру внешнему. «Но люби, не люби, как все-таки обойтись без этой изобразительности? ‹…› Но как же все-таки обойтись в музыке без звуков, в живописи без красок и без изображения (хотя бы и самого новейшего, нелепейшего) предметов, а в словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной? Это очень старо, но, право, не так уж глупо: „Писатель мыслит образами“. Да, и всегда изображает. ‹…› А потом – что же делать и с этим внутренним миром, без изобразительности, если хочешь его как-то показать, рассказать? Как его описать без описательства? Одними восклицаниями? Нечленораздельными звуками?»
Здесь – главная коллизия творческой жизни Бунина. Он ощущает себя одиноким наследником великой традиции, посланником девятнадцатого века в двадцатом. Он страдает и за себя, и за настоящее искусство, которое, с его точки зрения, декаденты и модернисты подменяют фокусами, кривляньем, пошлостью и патологией.
К. И. Чуковский на много лет запомнил один мучительный ночной монолог Бунина. «Он с первых же слов стал хулить своих литературных собратьев: и Леонида Андреева, и Федора Сологуба, и Мережковского, и Бальмонта, и Блока, и Брюсова… ‹…› Он говорил о писателях так, словно они, ради успешной карьеры, кривляются на потеху толпы. Леонида Андреева, который в то время был своего рода властителем дум, он сравнивал с громыхающей бочкой – и вменял ему в вину полнейшее незнание русской жизни, склонность к дешевой риторике. Бальмонта трактовал как пошляка-болтуна. Брюсова – как совершенную бездарность, морочившую простаков своей мнимой ученостью. И так дальше. И так дальше. Все это были узурпаторы его собственной славы.
В ту ночь, слушая его монолог, я понял, как больно ему жить в литературе, где он ощущает себя единственным праведником, очутившимся среди преуспевающих грешников» (К. Чуковский. «Дневник», март 1968 г.).
Тяжелую травму непризнания, литературного одиночества Бунин не мог изжить до конца жизни.
РЕАЛИЗМ: СОЦИАЛЬНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ
В «Жизни Арсеньева» есть замечательное, несомненно автобиографическое, признание. «Это было уже начало юности, время для всякого удивительное, для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшееся удивительным особенно: ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…» (книга вторая, глава XV).
Знакомая Бунина вспоминает сходное высказывание: «У меня не глаз, а настоящий фотографический аппарат. Чик-чик, и готово. Навсегда запечатлел» (Т. Д. Муравьева-Логинова. «Живое прошлое»).
Зрение, слух, обоняние становятся главным бунинским инструментом. Писатель неистощим и изобретателен именно в описательстве, в изображении мира. В воспоминаниях о Чехове Бунин рассказывает, что их сближало «выдумывание художественных подробностей». В этом соревновании, кажется, выигрывал младший товарищ. Бунинская страсть к подробностям удивляла Чехова и даже казалась избыточной. Рассказ «Сосны» (1901) он сравнил со «сгущенным бульоном» (письмо Бунину, 15 января 1902 г.).
Но свист сурка или запах ландыша – только начало, исходная точка в постижении мира. А. Н. Толстой передает рассказ М. Горького (Бунин не раз гостил у него в Италии): «Тогда в моде была такая игра. Сидят в ресторане, зашел человек, и вот дается 3 минуты, чтобы посмотреть и разобрать его. Горький посмотрел и говорит: он бледный, на нем серый костюм, узкие красивые руки, и все. Андреев смотрел 3 минуты и понес чепуху, даже цвет костюма не успел заметить. А вот у Бунина был очень зоркий глаз. Посмотрел и за 3 минуты все успел схватить, он даже детали костюма описал, что галстук с такими-то крапинками, что неправильный ноготь на мизинце, даже бородавку успел заметить» («Слово есть мышление»).
Писатель вспомнил о бытовом эпизоде, а философ Ф. А. Степун выразил это свойство в замечательной обобщенной формулировке: «Не надо забывать, что греческое слово „теория“ означает не мышление, а созерцание. Талант Бунина это помнит. Бунин думает глазами, и лучшие страницы его наиболее глубоких вещей являются живым доказательством того, что созерцание мира умными глазами стоит любой миросозерцательной глубины. У Бунина же зрение предельно обострено; ему отпущены не только орлиные глаза для дня, но и совиные для ночи. Поистине он все видит» («Иван Бунин», 1934).
Этот хищный интерес к внешнему миру делает Бунина реалистом по складу таланта. Но искусство всегда говорит о человеке. Игра в подробности не самоцельна, она переходит в угадывание и изображение характера. Продолжим рассказ Горького – Толстого: «Все это он подробно описал, а потом сказал, что это международный жулик. Почему – этого он не знает, но жулик. Тогда они позвали метрдотеля и спросили, кто этот человек. Метрдотель сказал, что этот человек откуда-то появляется часто в Неаполе, что он собой представляет – не знает, но у него дурная слава. Значит, Бунин совершенно точно сказал».
Однако Бунину недостаточно социальных объяснений, идеи зависимости человека от среды, которая была основополагающей среди реалистов XIX века. Он предлагает свою версию, свою концепцию личности: взгляд на человека как страстное, чувственное существо, заброшенное в этот мир, как в космос, и мучительно пытающееся его постичь.
Не устану воспевать вас, звезды!
Вечно вы таинственны и юны.
С детских дней я робко постигаю
Темных бездн сияющие руны.
В детстве я любил вас безотчетно, –
Сказкою вы нежною мерцали.
В молодые годы только с вами
Я делил надежды и печали.
Вспоминая первые признанья,
Я ищу меж вами образ милый…
Дни пройдут – вы будете светиться
Над моей забытою могилой.
И быть может, я пойму вас, звезды,
И мечта, быть может, воплотится,
Что земным надеждам и печалям
Суждено с небесной тайной слиться!
(«Не устану воспевать вас, звезды!..»,1901)
Бунинское бытописание избирательно, ориентировано на вечные темы.
Поэтому, с одной стороны, Бунин все время отталкивается от писателей-публицистов, от навязываемой ему роли обличителя социальных язв и общественных пороков (хотя в начале 1910-х годов он пишет несколько повестей и рассказов, которые воспринимались как острая социальная критика русской жизни). С другой же – продолжает бесконечный спор с символистами, для которых внешний мир («быт») был лишь призрачной прозрачной паутиной, сквозь который просвечивало бытие.
«А за мостом, в нижнем этаже большого дома, ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешанная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешанной сверху донизу. „Социальные контрасты!“ – думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины… На Московской я заходил в извозчичью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам… Наблюдение народного быта? Ошибаетесь, – только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!» – иронически возражает он писателям-общественникам, противопоставляя социальным контрастам зеркальную витрину колбасной лавки, а сочувствию к народу – созерцание мокрой веревочки на чайнике. («Жизнь Арсеньева», книга пятая, глава XI).
В книге «О Чехове» Бунин доказывает, что старая реалистическая литература тоже обновлялась и успешно осваивала темы, которые символисты считали своими: «Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература „зашла в тупик“, стала чахнуть и сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описания действительности… Но давно ли перед тем появились, например, „Братья Карамазовы“, „Клара Милич“, „Песнь торжествующей любви“? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда „Вечерние огни“ Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных „народных“ сказках, о „Смерти Ивана Ильича“, „Крейцеровой сонате“? И так ли уж были не новы – и по духу и по форме – как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?» («О Чехове», часть 2).
Обозначая близкую ему традицию, Бунин в одной ранней статье назвал ее реализмом в самом высшем смысле слова («Памяти сильного человека», 1894).
Через тридцать пять лет Бунин исповедуется молодой писательнице Галине Кузнецовой: «С тех пор как я понял, что жизнь – восхождение на Альпы, я все понял. Я понял, что все пустяки. Есть несколько вещей неизменных, органических, с которыми ничего поделать нельзя: смерть, болезнь, любовь, а остальное – пустяки» (Г. Кузнецова. «Грасский дневник», 2 мая 1929 г.).
Чем дальше, тем больше бунинское творчество сосредоточивается на этих немногих органических вещах.
«АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ»: ПРОЗА КАК ПОЭЗИЯ
Бунин стал известен прежде всего как поэт. Однако он не разделял непреодолимой чертой лирические и эпические произведения. В статье с условным заглавием «Как я пишу» (1929) он признавался: «Свои стихи, кстати сказать, я не отграничиваю от своей прозы. И здесь и там одна и та же ритмика… – дело только в той или иной силе напряжения ее».
Объединяет разные литературные роды свойство, которое Бунин называет изначальный звук. «Не готовая идея, а только самый общий смысл произведения владеет мною в этот начальный момент – лишь звук его, если можно так выразиться. И я часто не знаю, как я кончу: случается, что оканчиваешь свою вещь совсем не так, как предполагал вначале и даже в процессе работы. Только, повторяю, самое главное, какое-то общее звучание всего произведения дается в самой начальной фазе работы…»
Если бунинская лирика тяготеет к прозе, то его эпические произведения, повести и рассказы, напротив, стремятся к поэтическому звучанию. Фабула и персонажи в них часто подчинены эмоции, настроению, звуку. Один из бунинских современников, С. А. Венгеров, использовал для обозначения бунинских рассказов тургеневское жанровое определение: стихотворения в прозе.
«Антоновские яблоки» (1900) на много лет стали самым известным, главным, фирменным произведением Бунина-прозаика.
«…Вспоминается мне ранняя погожая осень». Рассказ начинается с многоточия, словно после вздоха, как продолжение только что прерванного разговора. Как и в «Листопаде», повествование движется от ранней погожей осени к зиме. Но здесь меняются не просто пейзажи, а жанровые картинки, создающие целостный образ дворянской жизни за целый век, от Пушкина до современности.
«Да, были люди в наше время…» – вздыхал старый солдат в лермонтовском «Бородино». «Была игра!» – мечтательно говорил герой пьесы А. В. Сухово-Кобылина, шулер Расплюев. Бунин не фиксирует внимание ни на повествователе, ни на других героях. Темой его рассказа, как в лирическом стихотворении, становится само движение, теперь уже не только природного, но исторического времени.
Было время, когда в дворянских усадьбах кипела жизнь, со смехом и азартом убирали яблоки и хлеб («„Ядреная антоновка – к веселому году“. Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился… Вспоминается мне урожайный год»), время шумной, веселой торговли и тихих ночей, время, когда повествователь был юношей-барчуком и с надеждой смотрел в будущее: «Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!» (глава I).
Бунин настаивает на одной социальной черте деревенской жизни: ее экономическом и нравственном единстве. «Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, – очень недавно, – имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию». (Через семнадцать лет, в эпоху «Окаянных дней», его точка зрения изменится на противоположную: он обнаружит не просто границу, но пропасть, бездну между дворянами и поверившим лозунгам большевиков «народом»).
Спокойное домовитое существование подошло к концу, превратившись из образа жизни в забаву. «За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков – охота» (глава 3). Описав лишенное прежнего размаха занятие (вспомним хотя бы сцену охоты в «Войне и мире»), повествователь в начале последней главы подводит безрадостный итог: «Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч… Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!» (глава IV).
Она сохраняет в миниатюре прежние занятия (охота, молотьба, вечерние встречи с пением под гитару, «как в прежние времена») и тоже не лишена прелести и поэзии. «Хороша и мелкопоместная жизнь!» – еще раз, словно уговаривая себя, повторяет рассказчик. «Эх, кабы борзые!» – в форме чужого слова воспроизводит он реплику какого-то мелкопоместного.
Но не случайно финал рассказа приурочен к зиме: «Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок…» В отличие от символа у символистов, бунинская символика ненавязчива, почти незаметна. Однако и во времени года, и в характеризующих песню заключительных эпитетах («подхватывают с грустной, безнадежной удалью») есть отчетливый символический намек.
Дворянская культура, наследником которой чувствует себя повествователь, – уже в прошлом. «А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из „Евгения Онегина“. И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою… Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически-красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза…» (глава III).
Прежние люди стали книгами и портретами, «старинная мечтательная жизнь» превратилась в воспоминание. Одновременно с «Антоновскими яблоками» Бунин пишет рассказ «Эпитафия» (1900). В нем в той же манере неспешного рассказа изображено, как исчезает мужицкий мир: пустеет деревня, падает поставленный когда-то крест, зарастают лебедой поля. «– Ни души! – сказал ветер, облетев всю деревню и закрутив в бесцельном удальстве пыль на дороге».
Этот рассказ повествователь оканчивает риторическими вопросами и надеждой на цивилизацию, которая, возможно, построит на месте исчезнувшей новую жизнь (редкая для Бунина мысль). «Руда! Может быть, скоро задымят здесь трубы заводов, лягут крепкие железные пути на месте старой дороги и поднимется город на месте дикой деревушки. И то, что освящало здесь старую жизнь, – серый, упавший на землю крест будет забыт всеми… Чем-то освятят новые люди свою новую жизнь? Чье благословение призовут они на свой бодрый и шумный труд?»
Звук же «Антоновских яблок» – светлая печаль. Рассказ часто называли элегией в прозе, хотя сам автор позднее протестовал против такого определения.
«Антоновские яблоки» – эпилог и эпитафия к важной традиции русской литературы. Усадебный хронотоп Пушкина, Тургенева, Фета – уже в прошлом. Через три года в пьесе Чехова начнут рубить вишневый сад и раздастся звук лопнувшей струны. В книге «Темные аллеи» Бунин писал это прошлое уже по памяти, как затонувшую Атлантиду.
«ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»: САТИРА И ПРИТЧА
Именно потому, что Бунин часто писал с натуры, он особенно ценил выдумку и тянулся к ней. В специальных записках «Происхождение моих рассказов» он признался, что один из самых лучших его рассказов возник вроде бы случайно: проходя мимо витрины книжного магазина в Москве, он увидел русское издание повести Томаса Манна «Смерть в Венеции», но так и не купил эту книгу, прочитав ее много позднее. «А в начале сентября 1915 года, живя в имении моей двоюродной сестры, в селе Васильевском, Елецкого уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу „Квисисана“, где мы жили в тот год, и тотчас решил написать „Смерть на Капри“, что и сделал в четыре дня – не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней и тишине в усадьбе и в доме… ‹…› Заглавие „Смерть на Капри“ я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую строку: „Господин из Сан-Франциско…“ И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в „Квисисане“) я выдумал». Но эта выдумка, как всегда у Бунина, опирается на прочную бытовую основу. Множество точных подробностей не возникли без опыта его жизни в Италии и далеких путешествий на океанских пароходах.
История смерти богатого американца на солнечном острове писалась, таким образом, в глухой деревне. Из глубины России Бунин предлагает свой взгляд на судьбу всей современной цивилизации.
Эта цивилизация представлена обитателями парохода с говорящим названием «Атлантида». Пароход – современный ковчег, где, окруженные небывалой роскошью, плывут в Европу хозяева мира: великий богач, знаменитый писатель, всесветная красавица, наследный азиатский принц, множество других декольтированных дам и мужчин во фраках и смокингах. Среди них – и семья главного героя, господина из Сан-Франциско с женой и дочерью, имени которого «никто не запомнил».
Герой – человек не только без имени, но и без биографии. Неизвестно, как, каким образом он заработал свое богатство и положение, упомянуто лишь, что для этого понадобились «китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами».
Зато подробно рассказано о планах героя. Завоевав прочное положение, он собирается объехать весь мир – Италию, Францию, Испанию, Англию, Грецию, Палестину, Египет и даже Японию. Господин предполагает наслаждаться солнцем и «любовью молодых неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной», предаваться разнообразным удовольствиям «отборного общества», включая стрельбу в голубей и участие в папской мессе.
Но путешествие заканчивается, едва успев начаться. Господин из Сан-Франциско внезапно умирает на острове Капри, и его теперь никому не нужное и всех пугающее тело, помещенное в ящик из-под содовой воды, совершает обратное путешествие через океан в трюме того же парохода в сопровождении безутешных жены и дочери.
В отличие от многих других рассказов, Бунин добавляет к своей привычной описательности сатирический пафос и открытую идею.
Обычный быт парохода «Атлантида» изображен с сатирической злостью и мрачной символичностью. Хозяева жизни утопают в роскоши, целый день едят и спят, развлекаются на вечерних балах, совершенно не обращая внимания на многочисленных молчаливых и незаметных людей, которые обеспечивают, ухаживают, прислуживают, доставляют: «…Великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах»; «Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их».
Защищенные богатством, ослепленные ярким электрическим светом, эти люди не замечают символических предзнаменований и не верят во что-то превосходящее их возможности. Между тем рыжего капитана Бунин сравнивает с огромным языческим идолом, трюм парохода – с недрами преисподней, девятым кругом ада, а в конце повести появляется и сам Дьявол, следящий со скал Гибралтара за уходящим кораблем.
Примечательно, что все обитатели «Атлантиды» – люди без имен. Имена Бунин дает только простым итальянцам: коридорному слуге Луиджи, танцорам Кармелле и Джузеппе, лодочнику Лоренцо. Неаполь и Капри представлены Буниным как противоположный полюс изображенного мира, полюс бедной, но естественной и гармоничной жизни.
На пароходе, развлекая пассажиров, танцует красивая фальшивая пара, нанятая «играть в любовь за хорошие деньги». На Капри два простых итальянца, спускаясь с гор, останавливаются у иконы Богоматери и поют «наивные и смиренно-радостные хвалы ‹…› солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной…» (Бунин вспоминал: «…Взволновался я и писал даже сквозь восторженные слезы только то место, где идут и славословят Мадонну запоньяры».)
Слуги на пароходе невидимы и безответны. Бойкий коридорный Луиджи, с «гримасами ужаса», «с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью», на самом деле смеется над господином.
«Огненные несметные глаза» верхних этажей и «багровое пламя» в утробе парохода противопоставлены совсем иной цветовой гамме: «Шли они – и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово».
«Господина из Сан-Франциско» называют самым толстовским рассказом Бунина. Действительно, у позднего Толстого есть прямо перекликающиеся с бунинскими повесть «Смерть Ивана Ильича» и притча «Много ли человеку земли нужно?». Как и Толстой, Бунин противопоставляет фальшь богатства естественному простодушию простых людей. Подобно Толстому, Бунин сатирически смотрит на цивилизацию, которую благословляет Дьявол.