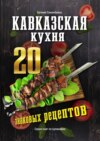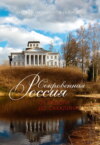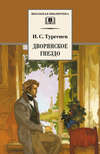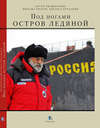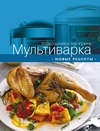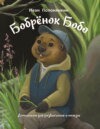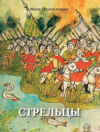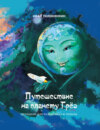Loe raamatut: «Арская дорога»

© Оформление. ООО «Издательство «Перо», 2024
© Полонянкин И.Ф., 2024
Глава первая
Макарьевская ярмарка
Прошло несколько лет. Стрельцы прочно осели на Сарапульских дворцовых землях вблизи Арской дороги: начинали с землянок да полуземлянок, но со временем переселились в кряжистые сосновые и ладные срубы, которые выстроились в починки, деревни и сёла: Бегуны, Лагуново, Килино, Кузнецово, Немешаево, Шадрине и другие. Трудно было. Одни надорвались от непосильной работы и ушли в мир иной, другие сбежали на волю от трудового рабства, помня свои воинское умение и вольную жизнь, но основная часть продолжала трудиться не покладая рук и зажила так же, как и в прежние времена, успешно и в достатке. Стрельцы не забывали своего прошлого, помнили достоинства и недостатки каждого, относились с уважением к воинским заслугам, отзывались на беды и призывы бывших сослуживцев, оказывали посильную помощь в новом для них крестьянском труде. Крепли сообща, и в этом им помогали сохранённые традиции и вера.
Бывшему стрелецкому пятидесятнику Килину Павлу Тимофеевичу в текущем году поручил народ собрать обоз и везти товары Лагуновского общества на Макарьевскую ярмарку в Нижний Новгород: различную бытовую утварь, домотканые половики, охотничьи и рыболовные снасти, рыбу вяленую, мёд, сушёные грибы да ягоды. Товаров было много, ему доверяли, а в помощники, для обучения и сопровождения обоза, дали подросших молодых и боевитых стрелецких сынов. Отправились в дорогу сразу после завершения полевых работ. Дорога была известная и не из лёгких. Лето в своём начале оказалось жарким и одновременно грозовым. Шквальный ветер приносил дожди, дороги размывались, но быстро просыхали и покрывались твёрдой коркой, а на глинистых обочинах оставались глубокие лужи.
К стенам Макарьевского монастыря прибыли вовремя: ярмарка только-только запестрела разными товарами, загудела купеческими завлекающими призывами и криками зазывал. Павел Тимофеевич поспешил в гостиничный двор Макарьевского монастыря, но при входе остановился как вкопанный: навстречу уверенной походкой, в сопровождении нескольких помощников шёл высокий и статный, ухоженный и независимый то ли купец, то ли боярин, но до боли знакомый человек. Волевой взгляд на секунду коснулся Павла Тимофеевича, заставив его с уважением опустить руки и склонить голову в поклоне.
Он лихорадочно искал в памяти этого человека, но вспомнить так и не смог. Зашёл в монастырь, заявил о своём товаре, переговорил с некоторыми служивыми и направился к обозу, но его перехватил незнакомец и настойчиво пригласил следовать за ним. Через некоторое время они подошли к одной из больших лавок гостиничного двора: незнакомец остановился у скрытой двери с левой стороны лавки, дёрнул за шнурок, открыл и шагнул внутрь. Следом за ним Павел Тимофеевич оказался в комнате без окон, с крепким дубовым столом, стоящим посередине, стульями, креслом и боковым диванчиком. Несколько свечей на стене нещадно чадили из-за нехватки воздуха. Незнакомец молча подал знак и, оставив гостя, скрылся в потайной двери. Привыкнув к полумраку, Павел Тимофеевич осмотрелся: помещение было обставлено без излишеств и напоминало рабочий кабинет, но не купеческую комнату. «Так вот где зарабатывают деньги…» – не успел подумать, как дверь скрипнула. Он разом охватил крупную и сильную мужскую фигуру, властную осанку, наткнулся на встречный взгляд и в мгновение вспомнил спасителя стрельцов и их семей в ту далёкую зиму – своего свата, купца Фёдора Петровича, старшего брата мужа дочери Семёна Петровича. Сердце Павла Тимофеевича захлестнула горячая волна благодарности, ноги сами собой подогнулись, и он упал бы на пол, если бы не Фёдор, который успел подхватить его, слегка прижал к себе и усадил на стул. Возникшая минутная тишина была нарушена рослым отроком, который шумно, без смущения заскочил в кабинет, быстро, гремя посудой, расставил на столе угощения, через мгновение появился снова, но уже с чаем… и снова исчез.
– Узнал, Павел Тимофеевич?
– Да разве можно забыть такое! Все долгие годы поминаем тебя добрым словом, Фёдор Петрович!
– Как мои братья, Семён да Матвей? Живы, здоровы? – Павел Тимофеевич в растерянности развёл руками, не зная, что ответить. – Говори как есть, Павел Тимофеевич.
– Да что говорить, беда у нас с ними: третий год уж как сгинули, и не знаем, где искать. Приходили весточки, что живы они: то где-то в низовьях Волги, то на Дону, то с башкирами… У Семёна две дочки растут, бывает, появляется. Младшую дочь ещё и не видел. А Матвей атаманит где-то… Да разве можно об этом говорить… Всем сообщаем, что Матвей Петрович в казаках на юге, а Семён Петрович на заработках. Он когда появляется, хороший куш привозит, помогает, этим хозяйство поддерживает да справно за нашу семью подворный налог платит…
Несмелый стук в дверь прервал беседу: появился помощник, осторожно подошёл к купцу, прошептал что-то на ухо и отошёл.
– Павел Тимофеевич, ты что за свой товар хочешь?
– Дак это товар не мой, Лагуновского общества.
– Я без обмана, ты знаешь. Начнешь торговлю, посоветуйся с товарищами. Я буду на ярмарке ещё неделю, потом уеду за Каму, в Сибирь. Условие одно: за это время ты мне всё расскажешь о братьях, что знаешь, а я расскажу тебе о семьях Андрея и Наума для передачи братьям. Передашь им о нашей встрече и укажешь, где меня можно найти… если что. Сами не хотят ко мне, пусть детей направляют: выучу, дорогу в люди дам. Одна у нас кровь.
Подумав, добавил:
– Товар у тебя добротный, востребованный, мы проверили. Надумаешь продать сразу – обратишься к нему. Если сам будешь продавать, то всё лето до Медового Спаса простоишь, а кто на земле работать станет?
Фёдор Петрович устало махнул рукой, указав на стоящего в стороне помощника и тихо сказал:
– Иди. Вечером приходи, рассказывать про братьев будешь.
Уже темнело, когда Павел Тимофеевич подошёл к лавке, но Фёдора там не оказалось. На стук вышел помощник и дал в провожатые рослого отрока, серьёзного не по годам, но по-детски доверчивого и открытого, который чем-то напомнил ему молодых Семёна и Матвея:
– Андрей, проводишь гостя к Фёдору Петровичу.
– Хорошо, – отрок кивнул и доброжелательно пригласил за собой гостя, – дядька уж давно прислал меня. Ждёт…
Они зашли на территорию монастыря. В одной из башенок спустились по лестнице в подвальный коридор и оказались в просторной келье. Сводчатый потолок, два маленьких оконца-бойницы в толстой стене, стол, две лавки, стул, большой сундук, в правом дальнем углу опёртый на стену старый деревянный крест, иконы, с потолка свисает чадящая лампада; на столе – свечи в подсвечниках освещают и келью, и стоящего на коленях человека.
Фёдор услышал скрип двери, перекрестился, легко поднялся на ноги и повернулся навстречу, улыбаясь:
– Рад твоему приходу, Павел Тимофеевич. Не обессудь, что встречаю в келье. Монастырь не раскольничий, я понемногу помогаю ему, а он – мне. Но в расколе и в старой вере остались все мои родные, поэтому я помогаю и раскольникам. Торгую со всеми. Бог прощает меня, а игумен Тихон молится за меня. Погоди, многого расскажу тебе интересного. Но сначала ты мне расскажи, что знаешь о жизни моих братьев. – И строго, по-отцовски обратился к провожатому:
– А ты, Андрюшка, тоже послушай… Чай, дядьками они тебе будут, как и я. Потом детям и внукам своим расскажешь о нашей жизни… И смажь петли, сколько раз говорить тебе…
Глава вторая
Нежданные сборы
Купец Фёдор уже длительное время стоял на высоком берегу Волги у стен монастыря, недалеко от главного входа – Святых ворот, над которыми возвышался купол церкви Михаила Архангела. Ярко светило солнце, от стен тянуло теплом разогретого кирпича. Впереди расстилалась широкая, неохватная взглядом Волга; где-то там, вдали, по левому берегу – Жёлтое озеро, залитое речными водами после весеннего разлива, широкое русло реки Керженец, от берегов которой на десятки и сотни вёрст тянулась лесная чаща, порою с непроходимыми завалами, с множеством раскольничьих скитов и поселений. Много лет назад он впервые посетил Макарьевскую ярмарку, почувствовал её мощь и притяжение, получил доходы, несопоставимые с доходами от московской торговли, и теперь каждый год приезжал сюда. Здесь он познакомился с купцами из Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и других городов, связанных с Волжским путём из Закавказья, Средней Азии, Ирана и Индии, выгодно обменивался с ними русскими и европейскими товарами.
Фёдор ежегодно тайно, после Медового Спаса – дня окончания ярмарки, по просьбе игумена монастыря поднимался в верховья реки Керженец и проходил множество скитов и селений, обменивал свои и монастырские товары на пушнину, шкуры и другие таёжные товары, а порой просто отдавал под запись и честное слово лесных скитальцев до следующей поездки. Последние годы в раскольничьих скитах и селениях каждый год появлялось множество новых беглецов, всё больше из стрельцов, и одиноких, и с семьями.
От набежавших воспоминаний он передёрнул плечами, окинул взглядом нагромождение лавок и конских телег, превращённых в торговые места, возвышавшиеся строения армянской церкви и татарской мечети, прислушался к разноголосому шуму, подумал: «Да, теряет монастырская ярмарка свой напор – уже и говор тише, и бурлит меньше, нет былого размаха. Надо поспешать и перебираться на тот берег, занимать места лучшие в сельце, пока народ в раздумьях».
Мысли Фёдора перескочили на вчерашний рассказ стрельца о том, с каким трудом и сложностями они добирались и обживали дворцовые земли, об участии братьев Семёна и Матвея в астраханском бунте. Повернулся к монастырской церкви, многократно перекрестился, шевеля губами. «Слава Богу! Вовремя в тот год ушёл с Астрахани и товар не потерял, пристроил. А ведь тем атаманом, точно Матвей был! Признал он меня, да мне и окружающим не признался. Видать, и Семён где-то рядом был».
Задержался в воротах, окинув взглядом обитель: потерявшие былое величие крепостные облезшие стены и башенки с прохудившейся кровлей, центральный пятиглавый Троицкий собор, Успенская церковь, двухэтажная трапезная палата, поставленная на высокий подклет, – и, раскланиваясь со своими знакомыми, с достоинством зашагал по монастырскому двору.
Уже длительное время в подклете трапезной палаты Фёдор занимал помещения для хранения товаров, а жил рядом, в келье, под одной из стенных башен. На ярмарку его завлёк давний товарищ по цеху в год, когда государь Пётр Алексеевич своим царским указом лишил Макарьвский Желтоводский монастырь большей части доходов и перенаправил их в государственную казну. После этого ярмарка начала угасать, а на противоположном берегу Волги в селе Лысково – разрастаться; там уже возникли временные деревянные строения, лавки и трактиры.
Фёдор посетил подклет, осмотрел товары, в том числе и переданные Килиным, и собрался выходить, когда к нему скорым шагом подошёл молодой послушник и пригласил в трапезную к игумену Тихону.
Игумен сидел в одиночестве, думая о будущем и православных в Керженских скитах. Он помнил совместные беседы с купцом Фёдором и владыкой Арсением, епископом Андрусским, который на время был прислан за какие-то провинности в монастырь и скончался в 1706 году; помнил самоотверженные ежегодные тайные походы купца по лесам и скитам с товарами для поддержания жизни уединившихся раскольников и их семей.
В последние дни игумену уже неоднократно приносили вести о притоке новых людей в Керженецкие леса, большинство пришли с котомками, нуждались в инструментах, бытовой утвари и семенах, чтобы обеспечить себя жильём и продуктами на очередную зиму, передали списки необходимых товаров, и он решил просить купца о срочной помощи.
Был уже вечер, когда Фёдор покинул покои игумена и спустился в свою келью; тускло горели свечи, племянник Андрюшка встречал его с горящими глазами, увлечённый рассказами о стрелецкой службе.
Павел Тимофеевич привстал со скамьи, приветствуя купца, но Фёдор озабоченно посмотрел на него:
– Павел Тимофеевич, мне нужна твоя помощь. Я могу с тобой быть откровенным?
– Конечно, Фёдор Петрович! Всё для тебя сделаем, что сможем.
– Хорошо. Тогда два дня нам на сборы, и пойдём с товарами в верховья реки, дорога известная. Твои люди да телеги, мои да монастырские. По благословению игумена Тихона пойдём, людям поможем, доброму делу послужим да отцовской вере. А сейчас иди, отдыхай, предупреди людей да готовьтесь к сборам.
Наутро Фёдор отправил своих молодых помощников вместе с монастырскими послушниками-провожатыми в Керженецкие леса с сообщением о скором движении обоза с заказанными товарами.
Глава третья
Русский разлом
Игумен Тихон, начальник и наставник монахов и послушников, а также других насельников окружающих земель, к Макарьевскому монастырю прибился ещё дитём и всю свою жизнь посвятил служению Богу, церкви и монастырю. В его памяти с детства сохранились образы непримиримых спорщиков, известных макарьевских воспитанников и наставников русской православной церкви: будущего патриарха Никона и протопопа Аввакума, которые, обладая железной волей, даром убеждения и красноречия, разрушили основы существующей веры, а её осколки разбросали по бескрайным русским просторам.
Игумен с горечью выдохнул из себя: «Нет ныне единой и сильной православной Русской Церкви, не стало и единого русского народа: разбежались когда-то верные монастырские насельники по лесным скитам да окраинам. Сбылись все три пагубы, о коих говорил Иван Неронов царю: мор, меч, разделение».
Он хорошо помнил те годы, когда обитатели монастыря, как и все на земле русской, жили в спорах и распрях, посеянных патриархом Никоном и протопопом Аввакумом, выходцами из соседних нижегородских сёл Григорово да Вельдеманово. Противники не стремились к примирению, а разломили церковь на новолюбцев, верующих, привыкших подчиняться, и старолюбцев, хранителей основ отцовской веры, которые без страха и оглядки упорно шагали по старой русской дороге.
И патриарх Никон, и протопоп Аввакум в своё время оказали заметное влияние на становление и судьбу игумена: он стал сторонником патриарха, но, в то же время, остался тайным обожателем стойкости и таланта Аввакума.
Тихон подошел к небольшому столику у окна, взял книгу, погладил ладонью: эта книга была его тайной. Под кожаной потёртой обложкой бронзовой застёжкой закрыто от любопытных глаз переписанное монахом в Пустозерске творение самого протопопа Аввакума: «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
Осенил себя крестным знамением, заглянул в книжное писание. Голос протопопа, как в далёком детстве, строками проник в его сердце:
«…Многострадальный узник темничный, горемыка, нужетерпец, исповедник Христов священнопротопоп Аввакум понужден был житие свое написать отцом его духовным иноком Епифанием, дабы забвенью не было предано дело Божие. Аминь. Всесвятая Троица, Боже, Создатель всего мира, помоги и направь сердце мое начать с разумом и кончить делами благими то, о чем ныне хочу я глаголать, недостойный. Разумея же свое невежество, припадая к твоим ногам, молюсь тебе, у тебя помощи прося: Господи, направь мой ум и укрепи сердце мое не о красноречии печься, но приготовить себя к творению добрых дел, о которых глаголю, чтобы, просвещенный добрыми делами, встал я на Судище справа от тебя, причтенный со всеми избранными твоими. И ныне, Владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком возглаголю…»
Игумен Тихон в задумчивости закрыл книгу. Двоякие чувства раздирали его душу всю жизнь, не помогали горячие молитвы и строгие посты, истязания своего тела и духа: так и не смог принять насильственное разделение единой православной веры и русских людей, всегда с уважением относился к старолюбцам за их твёрдость и преданность своим убеждениям.
«Разбросали единый кулак растопыренной ладонью; потеряна мощь русского народа! Благо есть ещё люди, понимающие это. Помоги им Господи!» – думал он о Фёдоре, отправляющемся в верховья реки. Всю ночь молился, простоял на коленях, вымаливая божьей помощи русским скитальцам, а для себя – прощения. С трудом поднялся на ноги, завернул в чёрную тряпицу письмо, писанное накануне, и Аввакумову книгу. Подумал: «Времена опасные ныне», – и вышел из кельи.
Обоз Фёдора собирался у монастыря. Была ещё ночь, но чувствовалось, что заря уже зарождается где-то далеко-далеко на востоке, там, за горизонтом, где завиднелась еле-еле светлая полоска. Когда обозначился обоз, из монастырских ворот вышел игумен Тихон и молча встал у тёмной стены. Фёдор подошёл к нему, сложив руки крестом:
– Благословите, Владыка.
– Бог благословит!
Купец склонился, поцеловал благословляющую руку игумена, услышал шёпот:
– В дороге ничего не бойся, кого надо, предупредили, чужих и солдат сейчас там нет. Кланяйся старцу Иоанну… в дальнем скиту. К нему иди один. Обязательно повстречайся, передай книгу и письмо моё. Расспроси, потом всё расскажешь. С Богом! – Всё так же скрываясь в темноте стены, осенил крестом удаляющийся обоз, вздохнул: «Сколько лет минуло, наверное, уже не придётся свидеться с Иваном».
Это была его тайна и горькая ноша: раскол церкви расколол и их жизнь – он потерял единственного родного человека. Они ещё детьми-сиротами прибились к монастырю, но вскоре дороги их разошлись: старший брат-погодок Иван после церковного собора, провозгласившего новые обряды и порядки, вот таким же ранним утром ушёл из монастыря с обозом старолюбцев и исчез из его жизни на долгие десятилетия. Однако усилия игумена, направленные на возвращение в лоно церкви колеблющихся раскольников, размывали границы их противостояния и приносили свои плоды: однажды на ярмарке ему в руки передали письмо от старца-раскольника Иоанна, и между ними возникла переписка, а потом произошла и неожиданная встреча.
После стрелецкого бунта обозлённые царские слуги и солдаты хватали всех шляющихся по России, забивали тюрьмы и подвалы монастырей стрельцами и их семьями, разбойными людьми и раскольниками. Много было доносчиков, сказывающих «Слово и дело государево», а ярмарки, трактиры и площади наводнили ярыги.
В тот год Тихон только приступил начальствовать, стремился поддерживать заведенный распорядок, но это ему не удавалось: монастырь скорее напоминал осажденную крепость, набитую торговцами с товарами и сбежавшимися под крепкие стены насельниками, солдатами и пропахшими подвальной гнилью и смрадом шляющимися дорожными и беглыми людьми.
Игумен Тихон, чтобы не допустить какой заразы, просил всех начальных внимательно осматриваться да следить за монастырскими и прибывшими людьми, сам который раз посещал их скопища во дворе монастыря и сидельцев в подвалах и кельях. Там и встретился с острым взглядом исхудалого статного и высокого седого старца, окружённого плотным людским кольцом. Стар уже и опытен, а сердце ёкнуло, чуть не бросился к нему в ноги, как в детские времена. Но сумел всё же переломить себя, вида не подал. Тот же улыбнулся ему навстречу краем губ и спокойно продолжил свой рассказ окружающим.
Тихон выждал время, всё расспросил у ключника и попросил привести старца в келью. Он часто так делал, приглашая для бесед разных людей, волею случая оказавшихся в монастыре: угощал, интересовался жизнью. Встречи ждал нетерпеливо и трепетно: что же стало со старшим братом? Где носило его время? Он уже не сомневался, что брат его и есть тот самый старец Иоанн, к которому тянутся раскольники и колеблющиеся для укрепления духа и воли, на которого объявили охоту и церковь, и власти. Стоял пред иконой на коленях и молил: «Господи, поддержи и укрепи меня! Дай свидеться с братом, единственной родной кровинкой. Не дай предать Тебя перед выбором крови и веры. Поддержи и укрепи силой Твоей веру мою. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Стук в дверь прервал его молитву. Игумен поднялся на ноги, запустил гостей в келью, выпроводил ключника, закрыл дверь и уж потом произнёс:
– Проходи, Иван. Наконец-то мы с тобой свиделись.
Прямой взгляд, родной, любящий и бездонный, пронзил игумена:
– Я рад встретиться с тобой, Тиша. Ты многого достиг. Игумен… Но сомнения могут сгубить тебя. Нам с тобой придётся долго говорить о Божьем деле. Быть может, и поймём друг друга? Помнишь, тятя всегда тебе благоволил и хотел, чтобы ты был в церкви. А как мама любила тебя!
Иван замолчал, сделал шаг, став напротив игумена, и неожиданно крепко сверху, как в детстве, сжал его в своих объятиях:
– Здравствуй, брат. Как долго ждал я этой встречи с тобой.
Тихона внезапно накрыла пелена радости и отчаяния. Он склонился на плечо старшего брата, прижался к нему, как в детстве, словно к отцу, и забылся на время.
Беседовали всю ночь, а на рассвете, загнав коней, примчался гонец из Тайного приказа с требованиями препроводить старца-раскольника Иоанна в Преображенское, в подвалы. Когда об этом принесли весть в келью игумена Тихона, гость тоже услышал её из-за шторки скрытой комнаты.
Проводив гонца, Тихон на минуту задумался: «Обязанности монастырского начальника понуждают меня содействовать исполнению указания. И я буду содействовать, но исполнители – государевы служивые люди…»
– Что, игумен, задумался? – неожиданно раздался голос брата из потайной комнаты.
– Нет, брат, мне и задумываться нечего… – После небольшой паузы добавил: – Я не Каин и не Иуда. Прощай, оставляю тебя в келье. Думаю, ты помнишь наши детские пряталки? Дай Боже, ещё свидимся. – И поспешно покинул келью.
С той встречи прошло более десятка лет, и сейчас, при виде уходившего обоза, воспоминания всколыхнули игумена: «Да, нужно смириться с расколом, быть терпимым. Всё делается по воле Божьей. Пора прекращать церковные распри. Нельзя принуждать подобного по плоти и крови быть подобным душой, духом и верой. А сколько на земле разных язычников и иноверцев? Разве всех их переделаешь под себя? Господь не позволит этого».