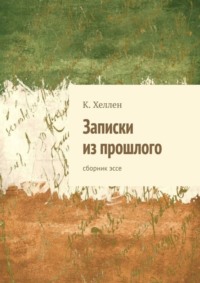Loe raamatut: «Записки из прошлого. Сборник эссе»
Илона Коложвари Переводчик
© К. Хеллен, 2023
© Илона Коложвари, перевод, 2023
ISBN 978-5-0060-6267-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Записки из прошлого» – очередной сборник К. Хеллен. Этот сборник объединяет подборки статей, зарисовок, рассказов, эссе и текстов на разные темы, которыми автор заставляет читателя думать, сопереживать, разгадывать тайны, спорить и соглашаться, отправляться на поиски истины, задавать вопросы и добиваться ответов, вспоминать прошлое и обращать свой взор на мир, открывая его с совершенно неожиданной стороны. В этой книге К. Хеллен предстаёт перед нами в новом образе. Не только как автор «волшебных» рассказов, но и как незаурядная и интересная личность, чья жизнь полна тайн, сопереживания и сострадания людям и всему живому. Не ограничиваясь рассуждениями о жизни и мироздании, она отчаянно пытается найти определение себе самой, наблюдая за собой с неподдельным удивлением, иронией и интересом. Творчество К. Хеллен удовлетворит самого взыскательного ценителя изящной словесности, кроме того, данную книгу (антологию) можно читать в любой последовательности записей и сборников, собранных и переведённых в разные годы, начиная от самых ранних, до самых поздних.
Предисловие от И. Кóложвари и К. Бейнусовой
«Записки из прошлого», возможно, самый личный и особенный из всех сборников работ К. Хеллен. Так, каждая книга – это свидетельство, каждая книга представляет собой память о человеке, создавшем её, свидетельство о его жизни. Как нет двух одинаковых людей, так и нет одинаковых книг, каждая книга – по-своему уникальна и неповторима. Данное собрание сочинений (вобравшее в себя отдельные сборники статей-эссе, заметок и записей автора) представляет собой избранное из разрозненного творчества К. Хеллен, свидетельствующей о ключевых событиях ирландской истории, о человеке и его мире, о неизменной любви, о судьбах мира и напряжённой жизни души и духа. Этот сборник, безусловно, открывает нам новую К. как автора-мистика, автора-исследователя, автора-патриота, творчество которого вобрало в себя многие из важнейших тем ирландской культуры: её фольклор, её историю и, в том числе, переживания и мысли о судьбе своего народа и языка, а также глубокие философские размышления и собственно литературное творчество, которые неразделимы в авторском слове.
Творчество К. во многом символично и глубоко исповедально. Надеемся, что эта исповедь окажется услышана сердцем своего читателя и всякий, в ком есть живой интерес к бесконечному разнообразию и богатству ирландской культуры и её истории, сможет найти что-то и для себя в «Записках» К. или по-новому взглянуть на окружающий мир и автора, диалог с которым и есть весь этот сборник.
Do ut facias 1
Предисловие от И. Кóложвари
Du ut facias – первый мой опыт перевода записей К. Хеллен и, вместе с тем, моя первая попытка объединить их вместе, собранные из разных источников, и, очевидно, лет. Тем не менее, как мне видится, именно в этом сборнике К. предстаёт перед нами наиболее простороечивой, даже схематичной в своей речи, категоричной и в то же «человечной», приближенной к простому человеку, его восприятию и актуальным для него вопросам. Тем не менее, это весьма провокационный сборник, спорный и даже немного эпотажный, в котором К. бросает «вызов» не только всему внешнему миру, но и самому читателю, впрочем, как и себе самой. Именно поэтому сборник получил название «Даю, чтобы ты сделал». Полагаю, К. оценила бы, сделай мы эту ультимативную латинскую фразу призывом к исполнению написанного.
Вместо эпиграфа
Моё слово
Я не гонюсь за красивым словом,
Как охотник за молодой ланью. С псами.
Я не хочу писать для салонов, напудренных дам
и припадочных юношей,
Профессоров-демагогов; ищущих и пришедших. Для тех моё слово, кто его знает.
Кто видел и слышал. Кто верит и помнит. И готов ещё… Всегда готов. Вечно!
Для тех моё слово.
Пусть не звучит оно в песнях и домах,
Пусть не мелькает в газетах или записках.
Пусть только передаст из уст в уста
моё слово однажды
Одно сердце другому, как руку протянет.
К. Хеллен
Слова, слова, слова…
Совершенно несерьёзно, но правда!
Все более или менее… живые… люди – писали, пытаясь выразить свои идеи, взгляды, убеждения. А если ещё и не писали – так будут писать, потому что Слово – не форма жизни, а и есть сама жизнь. Реальнее реального. Ну а раз так… Что остаётся мне делать? Молчать? Никогда! Я пишу, следовательно, – я существую!
Логика – страшнейшая вещь на свете. Она убивает Хаос – естественное упорядоченное состояние всего сущего, поэтому позвольте не прибегать к ней.
Написанное сейчас то, что вы решитесь прочитать, – не манифест моей литературы, не жизненное кредо [К. Хеллен], не эссе, не философия и ничего из того, чем бы это можно было назвать. Это – просто слова. Это – просто я. Это значит, что я живу. Здесь и сейчас. И буду жить бесконечно, пока человечество научится сохранять слова. И вместе со мной будет жить тот мир, каким я его вижу, и будет жить то, что я захочу оставить слову – акту своего существования.
Не претендуя на истинность (о ней чуть позже), я хочу сказать о том, что мне Мне кажется, что . Мир – совокупность мнений о нём, и истина – понятие, выдуманное людьми, чтобы упорядочить Хаос. Раз так, можно подумать, что Бога нет… Но, увы… Бог – есть Любовь. А тот, кто возьмётся отрицать её, вычеркнет сам факт своего существования из истории, потому что (И беда, и жизнь многих – в том, что они не думают так, и в них – разлад, и они живут, отрицая своё существование). кажется. мир – это то, что мы думаем о нём любовь – единственная из возможных форм существования.
Есть множество теорий и философских систем, множество литературных направлений, религий и учений, так или иначе пытающихся объяснить мир, человека, его предназначение и место. К сожалению, я тоже теоретик. С припадками практики. И теория – это то, что остаётся после нас, то, что может или не может нас объяснить. Это то, что придумывают люди, чтобы объяснить то, чего не существует. Человек – это парадокс. И каждый из людей уникален. Уникален в форме проявления своего существования. То есть Любви. Знаете, мне всегда казалось, что Любовь – самое многогранное чувство. Вы только посмотрите, как оно непохоже… Посмотрите вокруг. Мы все – Любовь… И все хотим понять, что это такое…
Желание человека разобраться в чём-то – естественно. Потому что познание – это разновидность бунта, а борьба – это форма проявления жизни. Отними её у нас – и не будет человека, потому что, как ни крути, а всё ему надо за что-то бороться, и даже если не за что-то и не с кем – то он всё равно найдёт что-нибудь, а и не найди он такого – так придумает, потому что без борьбы человека не существует. Априори. Вообще.
То, что человек воплощает Любовь посредством борьбы, – естественно. Любовь – есть гармония. И каждый из нас, понимая её на свой лад, пытается её восстановить. Правда, парадокс в том, что мир – это сугубо личное понятие каждого человека, а представления о нём (не считая некоторых общепринятых) индивидуальны. Каждому в отдельности, народу, человечеству – всем свойственно Если допустить, что слово и есть сама жизнь, а использование слова и есть акт нашего существования, всё становится совершенно ясно. Человек, оказавшись в мире – абстрактном времени и пространстве вне всякого контекста и смысла (человек и есть смысл), – тут же начинает его познавать. Называя. Как продавец, перед которым высыпали кучу заморского товара, глядя на него, пытается придумать названия каждой вещи. Какую-то он может назвать уже имеющимся словом, ввиду схожести образов или свойств, а какую-то ему придётся называть самостоятельно. Творя реальность. Творя этот мир. называние.
Называние=определение=упорядочивание= укрощение=подчинение=присвоение.
Мир существует и без нас, но что он вне нашего сознания?!
Интуиция и Знание – вот те два орудия, с помощью которых мы можем познать мир. Они не противоречат друг другу, более того, они как два глаза на одном лице, смотрящие на один предмет, видят одно и то же с разных сторон. И каждый живой человек – обладатель и того, и другого. А как следствие, своего видения мира, которое не может быть ни истинным, ни ложным, потому что критерии истинности, свободы, добра и зла и так далее в подобном духе – также придуманы людьми, для упорядочивания Хаоса. Что касается лично меня, я хочу принимать мир таким, каким его вижу. Я соглашаюсь принимать мир таким, каким его видят другие. Я принимаю те устоявшиеся представления о мире, что общеприняты среди людей и тем самым причисляю себя к этому виду живых созданий. И я такой же Дон Кихот, ищущий себе мельницы и сражающийся с ними, только я знаю, что этих мельниц нет, и мне не хочется их придумывать, потому что это глупо, и я выбираю жизнь…
Рамки, законы, определения, теории – это всё то, что давит на плечи. Мешок с цветными стёклышками! В одно посмотришь – мир таков, в другое – другой. А раз умный, убери стёклышко… И мира – нет. Нет, серьёзно относиться к тому, что нас окружает, нельзя, но приходится. А к себе – так вообще преступление. Серьёзно стоит относиться только к одному – Слову. Это и есть – ВСЁ. Потому что всё, что нас окружает, – названо. Слово произнесённое, слово написанное, слово-название, слово-образ, слово-имя. Ярлычок. Меня всегда возмущает тот подход, что слово, каким бы оно ни было, значит лишь то, что называет. Нет… Слово – это сосуд. Пустой априори. И попади он в руки хотя бы к трём людям – каждый наполнит его по своему усмотрению. И так он выразит свою индивидуальность. Свою непохожесть. Обозначит себя действием. Передаст слову своё видение и понимание мира. Выразит себя через него. Докажет своё существование. Я мирное создание. Потому что ценю человеческую жизнь. Но честно говорю: побить того надо, кто привязывает слово к тому, что оно непосредственно называет, и тем самым лишает других людей возможности самовыражения. Многозначность! И ещё раз многозначность! Пусть каждый наполняет слово тем содержанием, что ему ближе. «Да так мы совсем не поймём друг друга», – скажете вы. Да. А мы и так друг друга не поймём никогда. Потому что мы в силе только принять другого таким, какой он есть, а понять – нет. … Нет… Можно было бы замахнуться на философский трактат о том, что в силах или не в силах постичь человеческий разум, но знаете ли… Слова, слова, слова, слова… Тьфу! Это самое великое из того, что у нас есть.
Набор своих убеждений, принципов, мыслей и идей – вот что при сравнении позволяет утверждать нам: «нравится» – «не нравится», «истинно» или «ложно». Я утверждаю и буду утверждать, пока не умру, а после того это останутся делать мои книги, что человек сам заковывает себя в рамки, что он свободен и его свобода – это не его право, а такая же данность, как возможность дышать, двигаться, ощущать, мыслить, которая почему-то до сих пор так пугает людей, что принять Свободу такой, какая она есть, никто так и не хочет. Ведь свобода – это прежде всего свобода от определений. А не от норм нравственности и морали, жизни и чужого мнения, как это берутся утверждать светлые умы человечества. Я утверждаю, что человек не плох и не хорош. Потому что «плохо» и «хорошо» – выдуманные понятия, которые совпадают в своём понимании не у всех, а в рамках истории – так это и без меня известно, что каждому времени свои «хорошо» и «плохо». Я утверждаю, что каждый человек является носителем то есть своего видения мира, своего понимания слов, своего неповторимого боя, и никто не вправе требовать от него поступиться своей правдой или навязывать ему другую. Я утверждаю, что все религии, какие только есть, – в сути своей имеют одну и ту же мысль и говорят об одном и том же разными словами, подбирая понятные пути к душам человеческим, к «своей правде» каждого индивида. Я утверждаю, что «своя правда» и есть свобода, и каждый вправе поступать так, как он считает нужным, руководствуясь этим понятием и соотнося его с той религией, которая ему ближе. Я утверждаю, что религия – это не свод законов, норм, утверждений и догм, а некое пространство, в котором человеку позволено выражать себя и «свою правду», то есть это то, что человеку отказаться от навязывания самому себе разного рода рамок, канонов, законов и правил. Я утверждаю, что религия как инструмент, способствующий человеку позволить себе снова чувствовать себя свободным, это форма созидания Слова. Я утверждаю… Потому что утверждение – форма выражения «своей правды». своей правды, путь к совершенной свободе, разрешает
Мне близко утверждение: вот поступок. Правилен он или нет, . смотря с какой стороны посмотреть
Всё оправдывает Искренность. Но ничто не оправдает насилия ради утверждения.
«Короли королей» – владыки рамочек. «Слово – определяющее», «слово – определяемое». Все эти рамочки (зовите их, как хотите, – дискурсы, системы, грамматики, etс.) и есть истоки и причины всех наших «измов». Отношение к слову определяет систему, «изм». Но эти короли ошибаются о своём звании. Слово не образ, и слово не символ. И хотя в каком-то роде оно и похоже на сосуд, который мы наполняем смыслами, суть его всё же в другом. Мнящих себя королями много, но король королей всего один, и нет больше его. Слово – король над всеми королями. Оно породило весь мир и вселенные во всём их величии и многообразии, и даже если по свойственной нам гордыни и глупости мы сейчас отрицаем это, то должны помнить: мы тоже в какой-то мере порождены словом. Итак, «». Король над всеми королями. Вот за что не люблю я всех этих «трактовщиков». Гореть им в Аду, схоластику по их души! Мне интересны те, кто свободен от рамочек и болезни «номинации». Империя Номинативусов! Они всюду! И мнят себя королями. Прежде всего было Слово. И Слово было у Бога и было это слово Бог
Увы, что времена Поэтов прошли, и далеко не Бог и не Слово теперь мерило всех вещей. И никто не охраняет так искусно и так ревностно тайну тайн – имя Божие. Сам Господь засвидетельствовал о нём «». Раскрыл его… Мы и попрали… Мы же люди. Короли королей. Любое слово подгоним под рамочку, а то, что не влезет, вычеркнем из словаря. И снова не получится, «». Бог есть Любовь. И неужели она сейчас мерило хоть одной из рамочек? В такие минуты отрекаюсь прилюдно от самих идей гуманизма и в сердцах повторяю: схоластику по ваши души! Крючкотворы заменили Поэтов. Бога заменили чурбаном, образом, символом! Неужели так сложно отличить шифр (от осквернения) и бесправную интерпретацию?! Сложно. Потому что лезут с рамочками. А на кого? … По их души! Именем моим творите чудеса Богу – Богово, а кесарю – кесарево
– державный жезл королей. Любовь – корона. Трактовщики, крючкотворы мои ненаглядные, из какого дерева понаделали вы свои рамочки? Забудьте их – и исчезнут. «». Яблоня… Тема… Женщина… Нет, лучше помнить о схоластике! Тема Ибо искоренится всё, что не Отец мой насадил 2
Слово – больше любой системы, и ни одна система – ничего без Слова. Всё из него вышло. И – уходит! Уходит… Будто ему есть куда идти. не значит
Человек называет, определяет, следовательно, он существует. Я принимаю этот мир, и всех тех, кто называет и определяет, и всё то, что называется и определено. И я существую не до тех пор, пока мыслю или бьётся моё сердце, а пока могу ЧУВСТВОВАТЬ и СОЧУВСТВОВАТЬ. Чувствовать не значит «ощущать», а переживать этот мир, людей, события, слова. Пока слова других и другие слова живут во мне, я чувствую: я живу. И я буду жить, потому что слова других и другие слова останутся во мне, когда моё сердце прекратит биться и я перестану мыслить; и я буду жить, потому что , и в ней я буду переживать этот мир. Сейчас. В эту самую секунду. И навечно. Пока прибудет Слово. книга – не форма жизни, а жизнь
Я говорю о каждом, а не о себе. И хочу извиниться перед тем, кого могли оскорбить мои слова.
13.11.**
Всё это о книгах и их авторах
Всякое искусство должно стать наукой,
всякая наука – искусством.
Ф. Шлегель
Мы разучились читать книги. Мы верим им, но не доверяем. Мы рассуждаем о героях, не видя подлинных героев. Мы критикуем стиль и восхищаемся стилем, мы ищем ответы на вопросы, которым давно место в повозке, катящейся к обрыву. Мы патолого- анатомы от литературы. Мы что угодно найдём в книге, разберём её вплоть до звуков: стиль, форму, предложения, идею, смысл, всё найдём и всё решим за автора. Но мы, как всегда, упустим самое главное – самого автора. Потому что книга – это, в первую очередь, человек. Да, это не образ. Это правда. Книга – это Человек. Автор в первую очередь, и именно как к человеку мы должны относиться к книге. Так разве мы умеем читать, подходя к книге как материалу, как к мёртвому телу на столе в морге, вооружившись интуицией, литературоведческими приёмами или святой уверенностью, что нам достаточно прочесть книгу, чтобы понять её? Мы должны научиться любить книги. Мы не умеем этого делать. Многие из нас и читать-то не любят. Но я говорю не о чтении. Я говорю о книгах. Книга – это человек. «Любите ближних своих». Мы должны относиться к этой душе в переплёте как к живому человеку, потому что в конечном счёте перед нами предстаёт живой человек со своими надеждами, страхами, мыслями и идеями. Какой бы он ни был, но именно его мы держим в руках. Прочтите ещё раз, а затем и столько раз, сколько вам потребуется, чтобы понять эту фразу. Форма жизни. Она требует уважения и внимания. К мелочам. Как же мы читаем, если до сих пор критика и литературный анализ даёт нам любую информацию, кроме ответа «а мог бы этот человек быть мне другом или нет»? Книга – форма жизни.
Я призываю вас не идти на поводу литературоведческих наук, разбирающих книги на «скелет», «мышцы», вплоть до капилляров и клеток крови, и выясняющих системы их взаимодействия. Я призываю вас не впадать в ересь, пытаясь ответить на вопрос «что имел в виду автор?» или «что он хотел этим сказать?». Я призываю вас к уважению. Уважайте книгу как живого человека. И общайтесь с ней так же. Ради всего святого! Будьте человечны по отношению к своей душе так же, как и к душе вашего собеседника (автора).
Наш век истерзан, наш век тикает, как часы. С ускорением. Мы читаем, чтобы забыться. Мы читаем, чтобы отвлечься. Мы читаем, чтобы развлечься. Мы читаем, чтобы научиться. Мы читаем, чтобы ответить на вопросы. Мы читаем, потому что это модно. Мы читаем, потому что учителя заставляют нас. Мы читаем, потому что нам скучно. Мы читаем, потому что боимся не суметь поддержать умирающий разговор. Мы читаем… Читаем… Читаем… Как бросаем монеты в дырявый горшок. Мы так никогда не накопим богатства, пока не решим, зачем же оно нам и в чём оно, собственно, есть. Или я ошибаюсь, или кто-то до меня всё-таки сказал, что мы – это то, что мы читаем. Даже если мы в жизни не держали в руках книгу и наше чтение не шло дальше газет и стихов школьных товарищей, мы – это то, что мы читаем. Мы – это то, что читали до нас. Культура чтения. Она формирует нас. Книги строят нас. Лепят нас, как могучие руки Мастера. (Для критиков и литературоведов: не ищите в этой фразе больше смысла, чем сможете понять сразу). Книги имеют могучую власть над нами. Так было. Есть и будет. Слово – это наша суть. Ужели всё наше естество не отзовётся на силу, что сотворила и нас, и весь мир вокруг? Но, ради Бога, мы становимся всеядны, как свиньи. Мы раздуты гордыней, но напрочь утратили гордость, как самоуважение и чувство собственного достоинства. Мы позволяем себе оскорблять книги и позволяем оскорблять себя книгами. Я скажу, что богат, только когда увижу монету с двух сторон!
Ни для кого не секрет, что есть разные книги – в большей или меньшей степени хорошие, в большей или меньшей степени талантливые, популярные, умные. Но все критерии пусты. Они не несут смысла. То, что нравится мяснику Джону, не всегда найдёт тот же отклик в душе эстета Джорджа, как и не будет столь многозначно истрактовано занятым брокером Джеком. Мы учимся читать на ходу. Мы читаем в транспорте. Мы читаем на работе. Мы читаем на людях! Почему-то в елизаветинское время открытые проявления любви карались достаточно строго, чтобы люди могли и умели держать себя в руках. И если вы думаете, что прочтение книги – это не то же, что ночь вдвоём, то вы ошибаетесь. Только открывая книгу, мы открываем ей навстречу свою душу. Кого мы впускаем в неё? Тело оскверняется связью без любви. И многие стараются уберечь себя. Но все забыли про душу. Кто убережёт её от книги, способной «смутить душу»? (Смущение души – см. Евангелие.) И снова я говорю о вере и доверии. Доверять книге, но верить или нет? Почему мы верим седым учителям, но не верим обещаниям подвыпившего соседа? Потому что перед нами открыты все карты. Это реальный мир. В нём мы всесильны. В нём мы короли. По крайней мере, мы так привыкли думать. Причём весьма ошибочно. Я не стану утверждать, что есть плохие и хорошие книги. Нет, не стану. Потому что я не знаю, что такое «хорошо», и не знаю, что такое «плохо». Я знаю, что убить животное – это зло, но я знаю, что, убив его, можно спасти жизнь умирающему от голода человеку, и знаю, что это добро. Я знаю, что смерть миллионов – это зло для миллиардов. И я знаю, что смерть миллиардов – это благо для Земли, уставшей влачить все наши орды. Нам не давали права судить и разделять чёрное с белым. Нам дали этот мир, чтобы мы сохранили его и сделали лучше, если это можно. Можно. По крайней мере, этого никто не запрещал. Пока. (Уточните по последним постановлениям английского парламента.) Книги – энергообменники мира. Эдакие его батарейки. Мало того, что они передают информацию всех уровней, они как подпорки не дают миру рухнуть и рассыпаться. Они клей этого мира. Но главное – они генерируют эмоции и чувства. Мы берём книгу и заряжаемся от неё. Только вот что мы выбрасываем в атмосферу? Любовь или «выхлопные газы»? Я скажу так: есть книги достойные и недостойные. Прочтения. Впрочем, человек тем и разумное существо, что ему дан выбор. Выбор формирует нас. Именно по нашему выбору определяется большинство «хорошо» и «плохо».
Я не пример для подражания. Я читаю, как живу. Я живу книгами. Написанными и прочитанными. Потому что жизни волнует меня меньше всего. Ею и без меня озабочена половина мира (та, что умеет читать и думает, что читает). форма
Есть те, кому достаточно только сюжета. Есть те, кому интересны чувства и эмоции героев. Есть те, кому интересны мысли автора и его мировоззрение. Есть те, кто ищет в книге только эстетическое наслаждение, и те застрелятся, если какое-нибудь «слово» окажется не на месте или (спаси Боже) грамматика пострадает… Автор всегда будет виноват, если кто-то не ответит на вопрос «что он имел в виду». До какой степени невежества нужно было дойти, чтобы искренне верить, что книга – это страницы, скованные переплётом, или «наши учителя»?! Кстати, об учителях. Вспомните своих учителей. Друзья мои, вспомните! Особенно школьных. Латынь, закон Божий, английский язык. Спорим, светлых чувств к ним вы не испытывали… Особенно, если вам довелось учиться в провинции. И вы верили им? Выборочно. Людям или словам. Но к учителям мы ещё вернёмся. Мне близка эта тема. Но в книге главное… Книга – это бóльшая исповедь, чем та, что люди могут сказать перед Богом в храме. Если вы видите, что это не так – закройте книгу. Это – текст. Книга – дышит. Или ты отдаёшь людям душу и сердце в книгах, или не пишешь вообще. Я не из тех, что «каждый день по 20 страниц», – это дар. И пишу только тогда, когда Читатель – Бог. И не дай Бог оскорбить Бога в нём словом своим или лукавым помышлением! Спрячьте улыбку. Спрячьте. есть что сказать.
Я говорю, есть только три критерия для книги: искренность, ответственность и самоотдача. Жанры, школы, стили, направления – формальны. Уберите от глаз линзы, искажающие вид!
Самоотдача. Когда автор живёт тем, что пишет. Не пока он пишет, а тем, что написал. Не в том, что написал. А тем, что написал. Или – без остатка книге, до опустошения, до фальшивой смерти. Или ты лукавишь. Но бумага не терпит лукавства. Если ты врёшь ей – ты врёшь вечности. Врёшь Богу, самому себе. Если ты даже с бумагой не можешь быть честен (от слова «честь») и искренен, разве есть у тебя право брать на себя смелость учить других? Или говорить достаточно громко, чтобы тебя слышали те, кто может пойти за тобой? Самоотдача. Равна самоуважению. Это как с любовью. Или – без остатка, или нет любви. Ремесленники и писатели различаются в этом. Самоотдача. Это когда пульс в каждом слове и между ними. «Автор – умер!» Это тот же Ницше и его «Бог – умер!». Кто поверит в это – тот лишает себя права на оправдание. Зачёркивает своё имя в списке существующих. Если автор невидим, это не значит, что его нет. Он растворён в тексте. Он в каждом слове. В их сплетениях. Он в форме и содержании. Он – в книге. Он – книга. Самоотдача. Это не только умение настолько полно выразить себя в тексте, что, читая её, читатель получит ПОЛНОЕ представление об авторе, как о личности и человеке. Самоотдача. Это когда автор считает унизительным писать «вполсилы». Не просто напряжение мысли. Не просто напряжение чувств. Не просто напряжение души. А напряжение всего твоего живого естества. Только так процесс создания текста назовётся творчеством. Только когда Слово рождено в любви и с любовью, это назовётся искусством. Искусство рождено возвышать души, воспитывать в них голод и тоску по истинной Красоте. По Богу. По Любви. Если что-то смущает вас, заставляя усомниться в Любви, Боге, Красоте, – это не та книга, что стоит читать. Мы должны уметь противостоять многим книгам, где авторы по глупости своей или злому умыслу развращают наши души, оскорблениями Любви, Бога и Красоты, что в общем-то одно и то же… И мы должны быть чутки настолько, чтобы не обмануться. Не всё, что пугает или вызывает в нас отвращение и отторжение, есть то, чего стоит опасаться. Я знаю такие книги, которые настолько вызывающие и резкие, мерзкие и даже неприличные, но только лишь по форме. Ибо настолько яростно отрицают прекрасное, что лишь доказывают его силу и власть. Берегитесь тех, кто заставляет вас сомневаться (NВ: не является синонимом «не доверять»). Те, кто что-то доказывают, или мудрецы, или слепцы, но они честны в бою. Лукавые – заставляют сомневаться. Тут и место вопросу об ответственности. Это самое коварное слово в приведённом мной ряду. Потому что может быть истрактовано очень многозначно. Автор в первую очередь должен быть грамотен в языке. Но не должен сковывать себя узами языка. Автор должен быть свободен от предрассудков и правил, но не от своей совести. В каждом достойном авторе сидит беспощадный цензор. Похожий на английского военного судью, которому попадаются сопротивляющиеся, отданные под трибунал. И снова о вере и доверии и об учителях. Нас учат верить слову. А ему нельзя верить. Ему нужно только доверять. Так вы можете доверять своему другу, но не верить ему, когда он начнёт свой затейливый рассказ о размере доставшихся ему в наследство акрах пахотной земли. То же и с книгами. Нас учат верить книгам. И мы слепо верим им, меж тем как и в учебниках порой бывает столько же фальши, лжи, глупости и чуши, сколько не сыщешь и в ежегодном королевском обращении к парламенту. Ответственность автора – это ответственность за жизнь и душу своего читателя. Если он послушает тебя, поверит тебе и пойдёт за тобой. Считайте меня анахронизмом, но я смею называть писателем и поэтом только человека энциклопедических знаний и геройского чувства ответственности. А если ты пропустишь какую-то мелочь, а читатель поверит ей? А если у тебя малина зацветёт в сентябре или полнолуние будет раза три за неделю, а героя застрелят из той марки оружия, что будет запатентована всего лишь через три месяца после окончания времени действия романа?! А что если на одной странице у героя на пиджаке семь пуговиц, а через три страницы он уже «дрожащей рукой своей расстегнул все двенадцать пуговиц на своём пиджаке»?.. Это не педантичность. Это уважение к себе и к читателю. Даже к своим фантазиям нужно подходить с той же долей трезвости, что и к историческому произведению. Глупы и перегибают палку те, кто делают «поиски и устранение» подобных «ляпов» сутью всей работы. Творчество не подразумевает «механики». Творчество немыслимо без работы. Жестокой, кровавой и беспощадной. Когда ты каждое слово выверяешь по тысяче раз. То перед лучами правды, то перед лицом фактов. Но стерильная в вопросах «ляпов» книга столь же бездушна, сколь и новая машина известной марки. Она может быть сколь угодно прекрасна собой и функциональна. Но вы не станете богаче, ни приобретя машину, ни прочитав такую книгу. Ответственность. Равна самоуважению. Грубые слова? Поверьте мне, можно говорить о грехе, не впадая в него. Не воспевая его. И тем писатель выше греха, чем живее и омерзительнее опишет его, устояв перед искушением впасть в него. Ответственность. Это когда автор знает, что будут верить каждому его слову. Когда он понимает, что его запомнят таким, каким он оставит себя в книге. Когда каждое слово в книге после его смерти станет сродни штриху в портрете и превратится в обвинение или оправдание на Страшном Суде. Каждое слово должно пройти через сердце и разум. Сердце отдаст ему все силы свои и любовь, а разум вычистит всю шелуху и введёт слово в двери бессмертия и вечности. Но никакая стерильность не заменит «огня души» в книге. Ибо всё-таки нет ничего важнее любви к Слову, книге и читателю. Да, может быть, я и не назову писателем человека, в чьих книгах насчитаю больше одного «ляпа», но я приму его в своё сердце и полюблю его как друга. Возможно, не во всём я буду согласна с ним, возможно, как с автором, возможно, как с человеком, но я приму его таким. Я продлю его жизнь правильным прочтением. Спасу его душу. Оправдаю её перед Богом правильным прочтением. Нет, мы не читаем, а спасаем души, продлеваем жизни. Ответственность – королевская роскошь. И главное – не оскорбить своим словом кого-то. Эдакая писательская толерантность. Главное не оскорбить истину. Я знаю многих, кто пишет, но мало кого могу назвать писателем или поэтом. Я люблю безумцев, что ломают устои. Я люблю тех, кто пишет не по правилам. Я люблю тексты, где смысл раскрывается не через анализ или рацио. Ответственность. Она ещё и в том, чтобы быть понятым, но остаться неразгаданным. Иногда она и в том, чтобы сказать всё, но не сказать лишнего. Ответственность… Ещё тысячи страниц я могу писать о ней. Но всё-таки это не более чем понимание того, что: «По словам твоим воздастся тебе, и от слов своих ты оправдаешься». То, как писатель пишет, – это показатель того, как он относится к себе и к другим. Писатель и поэт – это не тот, кто всегда говорит правду, а тот, кто никогда не врёт себе самому.