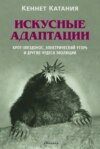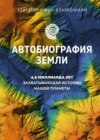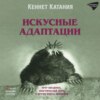Loe raamatut: «Искусные адаптации. Крот-звездонос, электрический угорь и другие чудеса эволюции»
Посвящается Лиз – моей идеальной читательнице, лучшей подруге, сообщнице и матери волков
Kenneth Catania
GREAT ADAPTATIONS
Copyright © 2020 by Princeton University Press
Published by arrangement with Princeton University Press and Synopsis Literary Agency
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2023
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2023
Пролог
Если вы спросите меня, за что я так люблю свою работу, я сразу вспомню первую сцену фильма «Принцесса-невеста». В ней дедушка (Питер Фальк) навещает больного внука (Фред Сэвидж) и хочет почитать ему книгу. Мальчик скептически спрашивает, есть ли там что-нибудь о спорте. «Шутишь? – отвечает герой Питера Фалька. – Битвы, пытки, месть, погони, великаны, монстры, исчезновения, настоящая любовь, чудеса!» О биологии, которой посвящена эта книга, я могу сказать то же самое. Однако здесь есть и кое-что еще: удары током, зомбирование, хитроумные уловки и древние легенды! С настоящей любовью, правда, трудновато; но я бы сказал, что это упущение сполна компенсируется красотой животных, которых я старательно фотографировал (снимки представляю на ваш суд). Возможно, мне не стоило бы обещать вам и чудеса – в конце концов, я все-таки ученый. И все же, если и существует одно слово, подходящее для описания моих эмоций от процесса открытия и от тех историй, которые я собираюсь рассказать, – это слово «непостижимо».
Я вовсе не преувеличиваю. Я тысячи часов провел за изучением мозга и поведения самых необычных животных и считаюсь специалистом в этой области. И всякий раз, исследуя новый вид и выдвигая предположения, что и как это животное умеет, я ошибаюсь. Ошибаюсь в лучшем смысле слова: животные всегда оказываются способны на нечто гораздо более неожиданное и интересное, чем я думал.
Эта книга – мой личный список неожиданных и интересных открытий, которые мне удалось совершить за свою карьеру. Эти открытия представлены в хронологическом порядке, начиная с моих первых шагов в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне. Я работал там еще в студенчестве: ловил и изучал загадочных кротов-звездоносов – маленьких млекопитающих с мясистыми розовыми отростками вокруг носа. Как и в любой таинственной истории, на пути к отгадке было множество ложных шагов и тупиковых направлений, но все это лишь подогревало мое любопытство. Что представляет собой звезда и для чего она нужна? Как и почему такая экстравагантная структура развилась в процессе эволюции? После множества неудачных попыток ответить на эти вопросы я сдался. Но как детектив, которого не отпускает нераскрытое дело, я вернулся к звездоносу в магистратуре, где мы с моим научным руководителем и другими учеными в итоге разгадали эту тайну. Мы сделали множество потрясающих открытий, связанных с мозгом и поведением звездоноса, не говоря уже о том, что описали вероятные пути и причины эволюции звезды. А попутно я обнаружил, что у нас, людей, есть пара удивительных общих черт со звездоносами.
Благодаря звездоносам я полюбил разгадывать загадки биологии и изучать самые неожиданные адаптации. Эти животные вдохновили меня на исследование других необычных созданий: щупальценосных змей, болотных бурозубок, электрических угрей, а также зомбирующих паразитоидов – и даже людей с их магическими, на первый взгляд, ритуалами. И представьте себе – электрические угри, например, оказались одними из самых недооцененных существ на планете! С учетом того, какими мифами окружены эти рыбы, способные вырабатывать электричество напряжением в сотни вольт для защиты или нападения, казалось бы, что тут можно было недооценить? Веками считалось, что животному с таким смертоносным арсеналом не требуются изощренные уловки, но оказалось, что ток – это только половина уравнения. Вторая его половина – это, скажем так, «способ доставки». Хитроумные действия угря позволяют ему использовать электричество так, что по эффективности оно может сравниться с оружием из научной фантастики. (Поверьте, я испытал это на себе.) Этот пример показывает, что даже животные, которых мы изучаем столетиями, полны сюрпризов. А еще он преподает научный урок: причудливые анатомические структуры дают основания ожидать и причудливого поведения.
Разумеется, в этой книге есть много чего еще. Если вам интересно узнать о хищнике, устраивающем засаду так, будто он способен предсказывать будущее, или о самых эффективных способах спастись от превращения в зомби – читайте дальше. Каждый из описанных здесь видов – удивительное творение эволюции. Но изучение этих животных позволяет не только детально описать их адаптации, хоть они и прекрасны сами по себе. Как одна картина в музее может многое рассказать нам о художнике, так отдельные системы адаптаций позволяют понять общие принципы поведения животных, организации их мозга, а также развития и эволюции. Это важная и зачастую недооцениваемая научная идея.
Объясню эту мысль на примерах. Базовое представление о том, как нервные клетки мозга проводят сигналы, было получено при изучении кальмаров, у которых в процессе эволюции развились гигантские нервные волокна, позволяющие спасаться от хищников бегством с необычайно высокой скоростью. Результатом исследования стал серьезный прорыв в понимании принципов работы мозга всех животных (и Нобелевская премия его авторам1). Механизм передачи сигналов между нервными клетками посредством электрических синапсов был выявлен при изучении обычных речных раков. Нейроны этих животных проводят сигналы очень быстро, но из пятой главы этой книги вы узнаете, что такой скорости не всегда хватает для спасения от хищника. В свою очередь, яды хищников, например змей и улиток, стали потенциальными источниками лечебных средств. Лекарства на основе некоторых ядов уже используются для купирования хронической боли, а составы многих других ядов сегодня исследуют для возможного применения при инсульте и онкологических заболеваниях. Даже упомянутый выше электрический угорь уже не раз двигал науку. На рубеже XVIII и XIX веков он вдохновил итальянского ученого Алессандро Вольту на изобретение батарейки, а спустя много лет именно электрический угорь помог выделить ключевую молекулу для практически всей мышечной активности в организме – ацетилхолиновый рецептор. Продолжать можно до бесконечности. Короче говоря, куда ни ткни, всюду найдется важное научное достижение, ставшее результатом изучения самых разных животных, которые приспособились к тем или иным условиям. Дело в том, что все животные играют по одним и тем же правилам эволюции. И в результате нас окружает то, что Ричард Докинз назвал «самым грандиозным шоу на Земле». Одна из моих целей – показать вам несколько потрясающих номеров из этого шоу.
Но у меня есть и другая цель. Я надеюсь, что из этой книги читатель узнает что-то новое не только о ее прекрасных героях, но и о процессе научного открытия. Мой интерес к тайнам не уникален, он – часть человеческой натуры. Не столь важно, где появилась необычная звезда – на небе или на морде крота, – важно то, что все необычное и нестандартное всегда служит своего рода приманкой, заставляющей присмотреться. Со временем я понял, что важна не таинственность или уникальность сама по себе, а именно пристальный взгляд. Я говорю об этом потому, что чаще всего самое интересное в животном как раз не бросается в глаза в начале исследования. Более того, по моему опыту, даже самые простые на первый взгляд виды способны совершать нечто удивительное (помните об этом, когда будете читать о «примитивной» землеройке, «обыкновенном» кроте или рядовом таракане). Каждый эксперимент напоминает мне разглядывание чего-то в бинокль. Вы видите что-то вдалеке и берете бинокль, чтобы рассмотреть получше. Но вы никогда не знаете, что именно окажется в фокусе и что еще попадет в ваше поле зрения.
Сегодня студент-биолог может отнестись к этим рассуждениям скептически: как-никак, ученые уже веками «всматриваются» в биологические системы. Откуда в наши дни взяться новым открытиям? Отчасти ответ заключается в том, что я называю чудесами современных технологий. Иными словами, бинокли стали гораздо совершеннее. Точно так же, как космический телескоп «Хаббл» в прямом и переносном смысле изменил наш взгляд на Вселенную, аналогичные технологии проложили путь к новым открытиям в области нейробиологии, эволюции и поведения животных. Отличное сейчас время, чтобы быть ученым.
И тут мы подходим к еще одной причине появления этой книги. За время исследований у меня было столько приключений! Но вы никогда не узнаете о них из научных статей с описанием результатов. Ученые пишут в стиле Спока из «Звездного пути», излагая факты от третьего лица, используя пассивный залог и не допуская эмоций. Для этого есть веские основания: в научной литературе описание должно быть емким, а стиль – единообразным. Но такой текст создает неверное представление о работе ученых. Он не отражает ни предысторию исследования, ни ощущение чуда, которое испытывает ученый, когда тьма неведения рассеивается и природа раскрывает свои тайны. Поэтому еще одна моя цель – поделиться этими переживаниями. Надеюсь, мне удастся изменить ваше представление о том, как совершаются открытия и каково это – проводить исследование. А еще я очень надеюсь, что, познакомившись с несколькими замечательными животными, вы убедитесь, что природа гораздо интереснее, чем мы можем себе представить, и ею нужно дорожить.
P. S. Я пишу о том, что кажется самым необычным лично мне. Но вы вправе вынести самостоятельное суждение: возле некоторых иллюстраций в книге есть QR-коды, и если вы наведете на них камеру смартфона, то сможете посмотреть снятые мною видео и понаблюдать за поведением животных.
1
Тайна звезды

«Загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки», – так в 1939 году Уинстон Черчилль описал непостижимые закулисные действия советского правительства. Но этими же словами вполне можно описать и крота-звездоноса, одно из самых необычных животных, которое когда-либо ступало по Земле, а точнее – рыло в ней тоннели. В звездоносе странно буквально все: это крот, но он любит плавать; несмотря на высокую скорость обмена веществ, он обитает в самых холодных областях Северной Америки и не впадает в спячку; всю свою жизнь он роется в грязи, которая совершенно не липнет к его блестящей шерстке; среди его врагов – совы, ласки и другие хищники, но для поддержания популяции ему достаточно производить потомство всего один раз в год. У него необычные для крота зубы, а передние лапы напоминают лопаты с когтями. Но самое удивительное – то, что не дает отвести от него взгляд, – это нос. Если когда-нибудь вам повезет встретиться со звездоносом, не стесняйтесь и разглядывайте в свое удовольствие: все равно он вас не увидит.
Я просто обожаю этих животных, и они сыграли огромную роль в моей научной жизни. Оглядываясь назад, я поражаюсь тому, как часто я преодолевал трудности только благодаря случайным встречам и удаче. Некоторые из таких случаев я опишу в этой книге, поскольку они имеют прямое отношение к моим открытиям в области поведения животных, эволюции и нейробиологии. Ученый должен уметь выводить закономерности из самых необыкновенных частностей, и исследование анатомии звездоноса – яркое воплощение этого тезиса. Крот почти слеп, но его изучение привело к более глубокому пониманию устройства зрительной системы и мозга млекопитающих. И хотя его звездообразный нос кажется совершенно уникальным, он помогает выявить взаимосвязи между развитием и эволюцией и напоминает, что иногда недостающие эволюционные звенья можно обнаружить… прямо под носом. Изучая это удивительное создание, я научился многим вещам. Я научился быть ученым. И нет никаких сомнений, что именно звездонос привил мне любовь к разгадыванию биологических загадок.
Для начала надо бы объяснить, что вообще побудило меня заняться маленьким кротом со странной мордой. Проведу аналогию с математикой. В математике есть легендарные нерешенные задачи. Самые известные из них – так называемые задачи тысячелетия. Если вы первым решите любую из этих семи задач2, то получите миллион долларов, не говоря уже о славе и признании. В биологии все не так, потому что не всегда понятно, в чем именно состоит задача, и редко бывает только один правильный ответ. И все же звездонос остается нерешенным биологическим «уравнением» с момента его первого описания в начале XIX века. Это живое, дышащее воплощение вопроса – точнее, множества вопросов. Что такое звезда? Дополнительная лапа, рецептор – или и то и другое? Она нужна, чтобы копать, чтобы нюхать – или для каких-то экстравагантных брачных игр? Почему такой звезды нет ни у одного другого млекопитающего? Как она сформировалась в процессе эволюции? Как она формируется в процессе внутриутробного развития? Какие способности она дает кроту, если вообще дает? Биологи задавали эти вопросы на протяжении многих десятилетий. Чтобы найти ответ, не нужны глубокие познания в области математического анализа или дифференциальных уравнений. Но нужен звездонос, а вот его найти не так-то просто.
Магия числа три
Итак, с чего же начались мои отношения со звездоносом? Как это часто бывает, тут нити тянутся из детства. Сколько себя помню, родители поощряли мою одержимость животными всех видов и размеров. Приведу всего два примера из тысячи. Как-то раз пропал мой домашний американский уж, и я не мог его найти, как ни старался. А через несколько дней мы обнаружили его в папином аквариуме поедающим гуппи. Вскоре после этого сбежала и моя крысиная змея длиной больше метра – прямиком под бок отдыхающей маме. Конечно, змея просто искала тепла. Родители оставались совершенно невозмутимы. Вернуть обеих змей в клетки меня попросили тем же тоном, каким напомнили бы поставить молоко в холодильник. Да, мне очень повезло.
Первое знакомство со звездоносом произошло, когда родители купили нам с братом книгу «Странные животные» (Animal Oddities). Мы со смехом рассматривали удивительные морды зверей, особенно носача и молотоголового крылана. Но над звездоносом мы не смеялись – настолько странно он выглядел. Я до сих пор помню иллюстрацию со всеми этими жуткими отростками вокруг носа.
Это раннее воспоминание пригодилось мне, когда я столкнулся со звездоносом во второй раз. Я тогда проходил интенсивное обучение, определившее всю мою карьеру: мне было десять лет, а учебной аудиторией служили леса, ручьи и озера Колумбии, штат Мэриленд. Я постоянно искал живых существ, уже окончил курс по насекомым и переключился на змей с черепахами, а дополнительно специализировался на кристаллах кварца. В тот день я шел в поисках кристаллов по берегу ручья, перепрыгивая на каждый обнаженный участок песка или камней в надежде увидеть сверкающие грани. И вдруг прямо в центре россыпи битого кварца я увидел трупик маленького животного, практически выставочный экспонат. Это был он – самый странный из странных, крот-звездонос со всеми его мясистыми наростами на морде. Я был потрясен. Не мертвым животным – нет, это в лесу обычное дело. Меня поразил тот факт, что существо, занимавшее почетное место среди экзотических обезьян, удивительных летучих мышей и гигантских муравьедов, обитало практически у нас на заднем дворе.
Я рассказал о своем чудесном открытии маме, и мы взяли ее справочник по млекопитающим. Первым делом я проверил ареал обитания звездоноса. Не то чтобы я мог его с кем-то перепутать, но в глубине души я надеялся оказаться первооткрывателем. Только представьте себе новостные заголовки, если бы до этого звездоноса видели лишь в дождевых лесах Амазонии! Оказалось, что этот крот обитает на востоке Северной Америки, от Дымчатых гор в штате Теннесси на юге до восточных районов Канады на севере (это, похоже, было их любимое место). Штат Мэриленд целиком входил в ареал, так что сенсации не вышло. Я очень удивился тому, что это похожее на мышь животное вовсе не грызун: кроты и землеройки относятся к другому отряду – так называемым насекомоядным3: они питаются насекомыми и другими беспозвоночными. Я также узнал, что звездоносы предпочитают болотистые места и ведут полуводный образ жизни, то есть плавают и ныряют в водоемах, охотясь за добычей. Вот почему я нашел звездоноса посреди ручья: крот не упал в воду и не утонул, как я сначала подумал. Он жил (и, по-видимому, погиб) в воде. В общем, я добавил это новое существо в свой список наблюдений и с тех пор всегда был начеку, особенно когда осматривал заболоченные участки выше по течению. Но тот звездонос так и остался единственным найденным мною в Колумбии.
Третья встреча произошла, когда я был студентом и изучал зоологию в Мэрилендском университете. При всей очевидности выбора специализации я столкнулся с проблемой: не так много курсов посвящалось разнообразию животных или их поведению – и уж совсем мало было возможностей работать с животными напрямую. Я откровенно скучал. Пытаться сосредоточиться на чем-то скучном – это как сидеть на диете: надолго вас не хватит.
Кроме того, меня отвлекала уж слишком захватывающая подработка. Я скакал на лошадях (и падал с них) на фестивалях Ренессанса, получал 150 долларов за выходные, и это было очень неплохо для 1980-х. Поначалу было забавно, но в этом деле часто случаются травмы, и в какой-то момент я понял, что это не мое. Чем мне действительно хотелось заниматься, так это какими-нибудь настоящими, захватывающими исследованиями в биологии.
Примерно в это время мой отец познакомился с доктором Эдвином Гульдом, главным куратором отдела млекопитающих Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне. Их встреча была не случайной: мой отец – профессор психологии, специализирующийся на обучении (докторскую степень он получил под руководством известного психолога Берреса Скиннера), и его пригласили на неформальную встречу исследователей поведения животных, где был и доктор Гульд. Тогда он как раз искал волонтера для ухода за животными, а при наилучшем раскладе – и для помощи в проведении исследований в зоопарке. Работать предстояло только с одним млекопитающим – звездоносом.
Львы, тигры и кроты
Представляю, как впечатлился бы студент юридического факультета, будучи приглашенным на собеседование перед стажировкой в величественную штаб-квартиру фирмы с именами партнеров, высеченными над входом. Антураж моего собеседования был совершенно иным, но для начинающего биолога спуск в тайные комнаты зоопарка под вольером с тиграми и львами стал моментом исключительной важности. Меня встретили у входа и по круговому коридору провели в кабинет, расположенный практически под землей, с выходящими в вольер окнами под потолком. Доктор Гульд представился и предложил мне присесть на диван напротив его стола. Я не мог не обратить внимания на то, что окна, за которыми должны были виднеться дикие кошки, были закрыты кусками черного картона. Доктор Гульд верно истолковал мой взгляд и пояснил: «Трудно сосредоточиться на работе, когда вместо этого можно смотреть на зверей».
Возможно, дело и правда было в этом. Но вскоре после собеседования я узнал, что не так давно в Хьюстонском зоопарке амурский тигр пробил окно, вытащил через него смотрителя и убил его1. Смотритель рано пришел на работу, поэтому нападения никто не видел. Предполагают, что тигр среагировал на движение в окне и атаковал.
Доктор Гульд никогда не упоминал об этом инциденте. Мы сосредоточились на мелких млекопитающих, которые не пытались нас съесть. Они жили в отдельном павильоне. Доктор Гульд гордился тем, что Смитсоновский зоопарк – единственный в мире, где есть звездоносы. Сложность заключалась в том, что звездоносы живут всего несколько лет и не размножаются в неволе, то есть популяцию нужно было постоянно пополнять извне (не только ради коллекции, но и для исследований).
«Я умею их ловить, но у меня нет времени, – объяснил доктор Гульд. – Есть один парень, Билл Макшей, он ловил их в Пенсильвании и привозил сюда, но сейчас он тоже слишком занят. Проблема в том, что найти звездоносов очень сложно. Нужно уметь распознавать места их обитания и находить их тоннели».
Когда я рассказал ему, как нашел мертвого крота, у него тут же загорелись глаза. Он тоже жил в Колумбии и хорошо знал эти места. Мы сравнили наши «полевые заметки», и, хотя мои были всего лишь воспоминаниями десятилетнего ребенка, я точно помнил, где обнаружил звездоноса и как выглядела среда его обитания. А еще я прочесал болота выше по течению и нашел там пятнистых черепах. (Тогда я еще не знал, что в Мэриленде звездоносы и пятнистые черепахи часто живут бок о бок.)
Вероятно, я получил работу именно из-за той истории. Пусть я и не нашел тогда еще одного крота, но точно приложил больше усилий и подобрался ближе к цели, чем любой другой мальчишка десяти лет. Так что при должной тренировке я вполне мог бы его поймать – правда, уже не в Колумбии, потому что так хорошо изученные мною болота попали под застройку. Ближайшим многообещающим местом выглядел север Пенсильвании. Если бы мне удалось наловить там кротов, чтобы потом наблюдать за ними в зоопарке, да еще и проводить исследования, я, так сказать, убил бы одним выстрелом трех зайцев.
Я был взбудоражен не только перспективой работы в поле: намечался еще и исследовательский проект, тема которого звучала как что-то из области научной фантастики. Как специалист по млекопитающим, доктор Гульд всегда интересовался загадочной кротовьей звездой, и у него родилась одна гипотеза. Что, если звезда – нечто вроде радара, распознающего электрические поля? Поначалу мне это казалось невероятным. Но потом он рассказал мне об электрорецепции, и я понял, что у животных существуют особые чувства для восприятия окружающего мира, о которых я не знаю ровным счетом ничего.
Электрорецепция лучше всего изучена у акул2. Они способны распознавать электрическое поле напряженностью 0,00000001 вольта на сантиметр – это в шесть миллионов раз меньше напряженности поля, которое создает пальчиковая батарейка, если погрузить ее в стакан воды. А человек не ощущает этого поля, даже когда держит батарейку в руках! Зачем же это чувство акуле? Скорее всего, вы уже догадались: чтобы найти вас и съесть. Вспомните обычную сцену из какого-нибудь фильма: пациент лежит в больничной палате (скажем, после нападения акулы), а рядом с койкой пищит кардиомонитор. Издаваемые им звуки – не что иное, как электрокардиосигналы, которые считываются с сердца электродами, прикрепленными к грудной клетке, а затем поступают в усилитель и динамик. И это только один из множества электрических шумов, которые издают животные.
Электрорецепция развита у многих рыб, но сенсацией в свое время стало открытие этого типа восприятия у утконоса3. Первыми способность утконоса подобно акулам обнаруживать объекты по генерируемым ими электрическим полям описали Хеннинг Шайх и его коллеги. Чтобы выяснить, где именно обрабатывается информация об электрических полях, они записали сигналы мозговых клеток утконоса. Результаты поражали: по сути, исследователи открыли у млекопитающих «шестое чувство». Благодаря этой работе ученые оказались на обложке Nature, самого престижного научного журнала – того самого, в котором Уотсон и Крик описали структуру молекулы ДНК. Новость об этом открытии доктор Гульд услышал по радио, когда ехал в машине и размышлял о звездоносах. Что, если это и есть ответ на давнюю загадку звезды? Гипотеза была смелая, но не лишенная смысла.
В общем, от предложения было невозможно отказаться. Оплаты не предполагалось, но меня это устраивало. Я стал новым «кротосмотрителем» в Смитсоновском зоопарке. Была только одна загвоздка: все зависело от того, удастся ли мне наловить звездоносов. Что могло пойти не так?