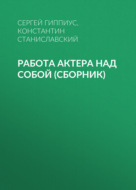Loe raamatut: «Беседы с К. Станиславским, записанные Корой Антаровой. «Театр есть искусство отражать жизнь…»»
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Памяти учителя
Легко артисту выписать из своих записей подлинные слова учителя и отдать их всем, кто горит любовью к искусству и ценит каждый опыт великого человека, прошедшего путь искусства сцены. Но очень трудно дерзнуть вызвать в каждом читающем живой образ гения, с которым ты общался как с учителем, которого ты видел в течение многих дней работающим с тобой и с целой группой артистов, как равный с равными, никогда не давая чувствовать расстояния между собой и учеником, но создавая атмосферу легкости общения, обаяния и простоты.
Но все же я решаюсь хотя бы несколькими чертами наметить здесь образ Константина Сергеевича Станиславского, каким он явился в занятиях с нами, артистами московского Большего театра, в 1918–1922 годах.
Он начал заниматься с нами в своей квартире в Каретном ряду, и первое время его занятия были неофициальны, безвозмездны, не имели никаких точных часов. Но Константин Сергеевич отдавал нам все свое свободное время, часто отрывая для этого часы от собственного отдыха. Нередко наши занятия, начинаясь в 12 часов дня, кончались в 2 часа ночи. Надо вспомнить, какое тяжелое было тогда время, как всем было холодно и голодно, какая царила разруха, жестокое наследие первой мировой войны, чтобы оценить самоотвержение обеих сторон – и учителя, и учеников. Многие из артистов, несмотря на то, что они были артистами Большого театра, были совершенно разуты и бегали в студию к Константину Сергеевичу в случайно полученных ими валенках.
Константин Сергеевич обычно забывал, что ему надо есть и пить, как забывали об этом во время его занятий и мы, его ученики, увлекаемые пламенем его красноречия и любви к искусству.
Если приходило на занятия много людей и не хватало места на стульях и диванах его огромной комнаты, то приносили ковер, и все усаживались на нем на полу.
Каждая минута, пролетавшая в общении с Константином Сергеевичем, была праздником, и весь день казался радостнее и светлее, потому что вечером предстояли занятия с ним. Верными помощниками его, которые также в первое время работали в студии безвозмездно и не изменили его делу до конца, были сестра его Зинаида Сергеевна Соколова и брат Владимир Сергеевич Алексеев, полные внимания и ласки к нам не менее самого Константина Сергеевича.
Константин Сергеевич никогда не готовился к тем беседам, которые записаны мною. Он не придерживался лекционного метода; все, что он говорил, претворялось тут же в практические примеры, и слова его лились, как простая, живая беседа с равными ему товарищами, почему я и назвала их беседами. У него не было точно выработанного плана, что вот именно сегодня он во что бы то ни стало проведет с нами такую-то беседу. Он всегда шел от самой живой жизни, он учил ценить данное, летящее сейчас мгновение и чуткостью гения понимал, в каком настроении его аудитория, что волнует артистов сейчас, что их больше всего увлечет. Это не значит, что у Константина Сергеевича вообще не было плана, это лишь было доказательством того, как тонко он умел ориентироваться сам и как он ориентировал, по обстоятельствам момента, органические качества того неизменного плана, в который он уложил свои знания для передачи нам. Его беседы всегда были необычайно тонко связаны с живыми упражнениями. Как сейчас помню, мы стояли у рояля и пробовали, прилагая свои усилия к полной сосредоточенности, к созданию в себе творческого круга публичного одиночества, петь дуэт Татьяны и Ольги из «Евгения Онегина».
Константин Сергеевич всячески наводил нас на поиски новых, живых интонаций и красок в наших голосах, всячески старался нас ободрить в наших исканиях, но мы все съезжали на привычные нам оперные штампы. Наконец, он подошел к нам и, став рядом с нами, начал ту беседу, которая у меня отмечена под № 16. Увидев, что мы никак не можем отойти от оперных штампов, он дал нам на время забыть о нашем неудачном дуэте. Он начал говорить о сосредоточенности, провел с нами несколько упражнений на действия, соединенные с ритмом дыхания, на выделение в задачах тех или иных свойств каждого предмета в своем внимании. Путем сравнения разных предметов, указывая на рассеянность, на выпавшие из внимания того или иного артиста качества наблюдаемого им предмета, он подвел нас к бдительности внимания. Рассказал нам все то, что мною записано в 16-й беседе, и вернулся вновь к дуэту.
После его беседы мы сразу поняли все, что ему хотелось слышать в интонациях наших голосов, и на всю жизнь с представлением об Ольге у меня связана ассоциация луны – громадного краевого шара, и всегда встает могучая фигура учителя, вдохновенная, ласковая, полная бодрости и энергии.
Константин Сергеевич никогда не отступал перед препятствиями, возникавшими перед его учениками, перед их непониманием, он всегда ободрял и умел добиться результатов, хотя ему приходилось повторять нам много раз одно и то же. Вот почему в беседах встречаются частые повторения, но я сознательно не вычеркиваю их, так как по ним каждый может судить о том, как труден путь, «ревела, как много надо работать». Ведь мы почти все были уже артистами Большого театра, но как упорно надо было Константину Сергеевичу воспитывать наше внимание и все творческие элементы, вводящие в истинное искусство! Как неутомимо было его внимание к тому, что он считал необходимым духовно-творческим багажом для каждого артиста, желающего развить свои творческие силы, а не подражать кому-то!
Во многих беседах, не имевших прямого отношения к этике, он постоянно старался заронить в нас зерно какой-либо мысли о рядом идущем товарище и пробудить к нему любовь. Константин Сергеевич обладал огромным юмором, но вместе с тем был так благороден и прост в своих мыслях и в обращении с нами, что никому и в голову не могло прийти сообщить ему какой-нибудь анекдот, сплетню и т. п.
Глубоко серьезная и захватывающая атмосфера, жажда учиться и знать что-то в своем искусстве царила среди нас и шла вся от нашего полного любви и внимания к нам учителя. Нет возможности передать все, что так щедро давал нам Константин Сергеевич на своих занятиях. Он не довольствовался тем, что знал нас как студийцев, он находил еще время приходить в Большой театр смотреть нас в спектаклях. Надо было бы написать отдельную книгу о «Вертере» – первой постановке нашей студии, которую мы показали в Художественном театре. Нет слов, чтобы обрисовать ту энергию, которая была влита Константином Сергеевичем, его сестрой Зинаидой Сергеевной, его братом Владимиром Сергеевичем и всеми студийцами в эту работу. Голодные, холодные, часто по два дня не обедавшие, мы не знали устали. Мы были тогда так нищи в студии, что не могли даже пригласить фотографа заснять всю нашу постановку «Вертера». И она ушла, как первый дар Константина Сергеевича опере, даже нигде не зафиксированная. Декорации Константин Сергеевич собрал в Художественном театре «с бору по сосенке», костюмы я выпросила в Большом театре из старого, уже не употреблявшегося гардероба, выбрала их вместе с Зинаидой Сергеевной, а Константин Сергеевич их одобрил.
Как образец «горения» я могу привести Владимира Сергеевича, который жил тогда за городом, таскал на спине мешок со всякими необходимыми ему вещами для студии и питался почти одним пшеном. Иногда он говорил: «Я думаю, если мне кто-нибудь скажет сейчас слово “пшено”, – стрелять буду». Смех, веселые песенки, когда мы уже перебрались в Леонтьевский переулок и помещение было хотя и тесное, но больше, чем в Каретном ряду, звучали постоянно во всех углах. Никогда не было среди нас уныния, и выхода Константина Сергеевича к нам на занятия мы всегда ждали с нетерпением.
Tasuta katkend on lõppenud.