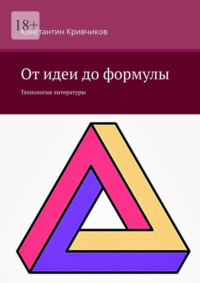Loe raamatut: «От идеи до формулы. Технология литературы»
© Константин Кривчиков, 2024
ISBN 978-5-0064-1307-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдёт,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою её произнесёт.
О. Мандельштам
ОТ ИДЕИ ДО ФОРМУЛЫ
Посвящается памяти моего отца Юрия Кривчикова,
приучившего меня к чтению
Информация к размышлению для начинающих авторов, мечтающих о покорении вершин писательского мастерства, а также для вдумчивых читателей, всегда стремящихся найти ответы на все вопросы, чтобы дойти до сути.
Есть первичная творческая интуиция, творческий замысел художника… Потом наступает вторичный творческий акт… И тут является то, что в творчестве называется мастерством, искусством. Первичный творческий акт совсем не является искусством. Искусство вторично…
Н. Бердяев, «О назначении человека»
Драматическое начало, проявляющееся в разных видах искусств, позволяет вести речь о драматизме в искусстве как общем наджанровом признаке, не тождественном драме как роду литературы.
О. Кривцун, «Эстетика»
Необходимая преамбула
Автор этой книги – профессиональный журналист, редактор и литератор – начал работать над ней почти двадцать лет назад, когда убедился в том, что Бердяев прав, и творчество, это, в первую очередь, мастерство и уже потом всё остальное, включая озарение, вдохновение, интуицию и прочие увлекательные, но малопродуктивные процессы и явления. Следовательно, решил я, необходимо понять, в чем заключается это самое мастерство применительно к созданию литературных произведений и как его добиться. Ну а если я чего решил то, выражаясь словами персонажа из песни В. Высоцкого, – я выпью-то обязательно. В том позитивном смысле, что дотошности и упрямства мне не занимать, во всем хочется дойти до самой сути. И я пошел.
Вначале возникли конспекты, куда я заносил важные для себя суждения из различных пособий, статей и лекций. Позже заметки дополнились многочисленными примерами и аналитическими разборами художественных произведений, ибо теория без практики не просто мертва, а еще и неубедительна. Затем настала пора обобщений и систематизации, чтобы, отбросив частное и малозначимое, выделить принципиальное. В результате возник текст – что-то вроде большой статьи, – который я выложил на сайте Самиздата.
Статья находилась там долго, около полутора десятка лет, и все это время ее читали, попутно обмениваясь мнениями, все желающие. Некоторые из этих читателей периодически списывались со мной, обсуждая проблемы литературного творчества. Затем некоторые из этих некоторых сами сочиняли литературные произведения, издавали их и даже (!) – из числа самых воспитанных и совестливых – благодарили меня за пользу, которую они извлекли из моей статьи. Мол, прочитали, усвоили и применили при создании собственных шедевров. Благодарствуем.
«И вам спасибо большое, – отвечал я. – Доброе слово и коту приятно, особенно на сытый желудок».
Однажды, после получения очередного благодарственного письма, я решил, что, наверное, мой старый, неоднократно правленый, текст созрел до издания в формате отдельной книги (благо объем позволяет) – после соответствующей доработки, естественно. Ну а если я чего решил, то… В итоге и появилась настоящая книга, которую я, на всякий случай, отнес к жанру монографии. А монография, если кто не в курсе, штука серьезная.
В то же время, несмотря на то что материал книги изложен в определенной последовательности и структурирован, это не методическое пособие по сочинению литературных историй, как кто-то, возможно, успел подумать. Это, скорее, набор практических рекомендаций, которые можно воспринимать и использовать как в целом (если вы ухватываете систему и согласны с ней), так и по отдельности, в зависимости от индивидуальных предпочтений. Читая книгу, помните, что рекомендации в свое время автор составлял, в первую очередь, для себя и уже потом решил выложить текст в открытый доступ – авось кому-нибудь и пригодится. Как оказалось – пригодилось и даже разрослось до почетного в некоторых узких кругах импозантного статуса монографии.
Однако не пугайтесь раньше времени – от академизма мой труд все же далек. Хотя я и старался быть конкретным и точным, опираясь на давно сформулированные и проверенные временем и опытом понятия, ибо, на мой взгляд, нет ничего хуже, чем отсебятина и дилетантство. Но старался без фанатизма – чай, не Торквемада, а лишь простой сибирский парень, склонный к рефлексии и, не всегда тонкой, иронии. Небольшой налет субъективизма, присутствующий в книге, надеюсь, мне простится – уж такое наше творческое дело, без субъективных ощущений ну никак не обойтись. Если я и даю некоторые советы, то лишь потому, что уверен в их эффективности. Однако правил в творчестве нет – всё индивидуально, словно отпечатки пальцев.
Предназначена книга, в первую очередь, для начинающих авторов со слабой или разрозненной теоретической подготовкой. Она может также пригодиться авторам, испытывающим проблемы при разработке сюжета и анализе собственных произведений. Авторам опытным и теоретически подкованным советую читать до того момента, пока не надоест – открытий не обещаю, но, кто знает, может и возникнут у кого-то нетривиальные идеи и творческие замыслы..
Выскажу надежду, что книга будет полезной и для вдумчивых читателей – из числа тех, кто любит разбираться в смыслах прочитанных историй. И это не пустое обещание из категории «красного словца». Работая над темой, я проанализировал около двух десятков уже знакомых мне художественных произведений (литературных и кинематографических) и с удивлением обнаружил, как много смыслов я в них раньше упускал или трактовал неверно. А ситуация с всемирно известным рассказом И. Бунина «Лёгкое дыхание» меня и вовсе ввергла в ступор.
Дело в том, что этот рассказ я прочитал еще в юности, и он мне сразу очень понравился. Можно даже сказать, что потряс. Впоследствии я перечитывал новеллу много раз, всегда получая огромное удовольствие. В том числе, что естественно по мере накопления жизненного опыта, я обнаруживал в истории, созданной гением Бунина, дополнительные смыслы и нюансы.
И все же я был буквально ошарашен, когда вдруг с прискорбием осознал, что изначально и на протяжении многих лет замечательный авторский замысел трактовался мной неточно и даже с искажениями. А почему?
Да потому что, не уделяя должного внимания структуре истории, я неправильно определил главного героя. Как следствие, не понял основной идеи рассказа. А такое упущение со стороны квалифицированного читателя (коим я себя долгое время самонадеянно считал) сопоставимо с конфузом, когда матерый кулинар путает эчпочмак с шаурмой. Да-а, и на старика бывает проруха…
Теперь-то я подобной ошибки уже не совершу. А всё благодаря собственной статье, со временем превратившейся в монографию и книгу. Так что, глядишь, и ещё кому-то пригодится в странствиях по загадочному миру литературы.
А теперь переходим к сути.
Основные понятия, раскрываемые в этой книге: ГЕРОЙ и СТРУКТУРА литературной (художественной) истории.
Приведенные ниже суждения (понятия, формулировки и пр.) относятся, прежде всего, к ДРАМАТИЧЕСКИМ литературным произведениям. Под драматическим произведением в литературоведении принято понимать произведение драматургического жанра – пьесу. Но в настоящей монографии под драматическим произведением подразумевается литературное произведение (как драматического, так и эпического рода и жанра, но, в первую очередь, роман или новелла) с классической структурой сюжета (истории), обладающее определенными свойствами и качествами, основанными на драматизме и драматической коллизии. Прошу моих читателей, во избежание путаницы, обратить на данное обстоятельство особое внимание.
Драматическое произведение (в обсуждаемом контексте) имеет следующие черты: внимание сконцентрировано на главном герое, оказавшемся перед дилеммой, дилемма превращается в кризис, который, усугубляясь, достигает кульминации.
Дилемма в драматическом произведении – это затруднительный выбор между двумя, равно неприятными, существующими возможностями или предложениями, который должен сделать человек-персонаж для решения вставшей перед ним проблемы или для выхода из неблагоприятной ситуации, в которую он попал.
Сюжет драматического произведения – это изложение последовательных событий, вовлекающих людей-персонажей, которые, разрешая конфликты, меняются в результате произошедших событий.
Можно ли нижеизложенное применять к ДРУГИМ (не драматическим) произведениям – решайте сами. Под другими в настоящей работе подразумеваются литературные истории, написанные в методах, которые принято обобщено называть «модернизм». К ним относят «поток сознания», «психологизм», «антироман», минимализм, символизм, сюрреализм, абсурд и тому подобные методы и способы изображения действительности, исключающие возможность создания драматического произведения.
Представления об идее
Начну наш разговор цитатой из автобиографической книги писателя С. Кинга «Как писать книги»:
«Курсы писателей и литераторов до утомления возятся с идеей, считая ее самой священной из всех священных коров, но на самом деле она (не ужасайтесь!) – дело не слишком важное… Но мне кажется, что каждая книга – по крайней мере, та, которая стоит чтения – должна быть о чем-то».
Вот и я, вслед за Кингом, воскликну – не ужасайтесь! Ибо он, как я подозреваю, имел в виду совсем не ту идею, о которой пойдет речь в этой статье. К представлениям маститого автора хорроров об идее мы еще вернемся. Ну а сейчас – по порядку, дамы и господа.
Прежде чем перейти к основной части разговора, мы должны разобраться с понятием «идея». Если этого не сделать немедленно – путаницы не избежать. Уж слишком много различных трактовок термина накопилось в литературоведческой традиции.
Начать, наверное, стоит со стандартной формулировки художественной идеи, приводимой в российских учебниках по литературоведению:
«Идея художественная есть главная мысль, лежащая в основе произведения, реализуемая через систему образов и раскрываемая во всей структуре произведения».
Под художественной идеей, как правило, подразумевают творческую (авторскую) концепцию произведения. Концепция – вещь серьезная, быстро и коротко не формулируется. И, на мой скромный взгляд, нужна подобная концепция не столько писателям, сколько литературоведам. Мне кажется, что автору проще изложить (придумать) художественную идею своего произведения, уже имея готовое произведение. Действовать в обратном порядке – тихий ужас.
Впрочем, все авторы – разные, и не исключено, что кто-то начинает работу над романом, создавая художественную концепцию. Я лично – никогда не пробовал. И вряд ли буду.
Приведу цитату из учебника «Введение в литературоведение»: «…идея книги неотделима от образной системы произведения во всей совокупности ее речевых и композиционных элементов. Именно благодаря своему образному выражению художественная идея становится глубже даже авторских отвлеченных объяснений своего замысла».
Именно так: «художественная идея становится глубже… авторских… объяснений». Недаром Лев Толстой, отказываясь рассуждать об идее «Анны Карениной», пояснял, что для этого надо или пересказать весь роман, или написать его заново. И я его понимаю: писатель, он же не Шахерезада, написано – и с плеч долой. Не царское это дело, содержание своих шедевров разъяснять, пусть критики мучаются.
Предположу, что именно художественную идею имел в виду С. Кинг, иронично замечая, что она «дело не слишком важное». Но даже если он подразумевал нечто иное (читайте дальше, и поймете мою мысль), то нам сейчас без разницы, уточним при случае. Ведь в статье речь пойдет совсем о ДРУГОЙ идее. Что касается художественной идеи, то мы ее в нашем перечне обозначим под номером один (№1). И надолго забудем – чтобы не путаться.
Под номером два (№2) внесем в список общую идею (она же сверх-идея, идея-императив, философская и т.п.). Общую идею, в отличие от идеи-концепции, можно выразить в одном предложении. Например: в своем романе я хочу доказать, что пагубная страсть, отвергающая нормы морали, разрушает человеческую личность и приводит к трагедии. В краткой форме: греховная страсть пагубна.
Продолжим перечень.
3. Идея, как тема (основной предмет исследования). Например: расскажу-ка я о том, как зарождается великая, сумасшедшая и греховная любовь-страсть, как она развивается, и чем заканчивается. В краткой форме: великая и греховная любовь-страсть.
4. Идея, как замысел, содержащая основную интригу. Иногда такую идею называют «сюжетной идеей». Например, напишу-ка я роман о том, как мужчина средних лет влюбляется в юную девушку-подростка и что из этого получается. В краткой форме: мужчина влюбляется в девочку-подростка и гибнет.
5. Идея, как формулировка, кратко констатирующая то, что произойдет с главным героем произведения в результате ключевого конфликта. Такая идея служит опорой сюжетной конструкции произведения. Например: в моем романе герой до безумия влюбится, под влиянием своей страсти совершит кучу разных поступков и в итоге погибнет. В краткой форме: великая любовь (страсть) приводит героя к смерти.
Именно о такой идее (под №5) идет речь в настоящей публикации, учтите и запомните.
Надеюсь, что пока – разобрались.
А вообще – многовато толкований «идеи», не правда ли? Ничего не поделаешь, такая вещь – литература. Тысячелетние традиции, аршином общим не измеришь, на каждый творческий роток не накинешь платок. Да и зачем накидывать, чай не в гареме шахиншаха живем. Дело ведь не в количестве понятий, а в их определениях.
Для себя я называю эту идею (под №5) «констатирующая идея» или просто – константа.
Под константой в данной работе (уточняю во избежание путаницы) я понимаю некоторую постоянную величину, не изменяющую своего значение в рамках рассматриваемого процесса. Именно этот термин (внимание!) я буду часто употреблять в оставшейся части монографии, чтобы избежать путаницы с другими понятиями «идеи». В то же время, при цитировании источников – в первую очередь, книг писателя и литературоведа Д. Н. Фрея – я сохранил термин «идея».
Как пишет сам Фрей в пособии для начинающих авторов «Как написать гениальный роман» (в оригинале – «Как написать чертовски хороший роман»):
«Изрядную неразбериху в определение темы и идеи внесли авторы учебников писательского мастерства. В итоге эти понятия стали размытыми и нечеткими… На самом деле совершенно не важно, назовете вы идею идеей, а тему темой или будете называть идею брюквой, а тему морковкой. Для нас важны лишь сами понятия».
А теперь перейдем к понятиям, запомнив, что дальше (ниже) речь будет вестись только о констатирующей идее или идее под №5.
Но прежде еще раз оговорюсь: настоящая статья посвящена драматическим произведениям. Не философским, не символическим и не психологическим, и уж тем более не каким-то там экспериментальным – таким, что автор и сам не понимает, куда его занесли путанные и темные тропинки творческого вдохновения. Подобные истории – отдельная епархия и отдельный разговор. Перед вами – руководство по созданию драматического произведения.
Прочитав эту книгу, вы четко и ясно поймете, как надо ПРАВИЛЬНО сочинять, а также толковать, истории, основанные на драматической коллизии.
Коллизия (в переводе с латыни – столкновение) – это, согласно словарю литературных терминов, отображенная в художественном произведении борьба противоположных взглядов, интересов, стремлений, жизненных принципов, выражающаяся в конкретных событиях.
Драматизм – это состояние, связанное с напряженным переживанием каких-то противоречий, с взволнованностью и тревогой; острая борьба противоположных сил, напряженная интрига. В качестве идейно-эмоциональной настроенности может присутствовать в произведениях любого рода литературы.
Таким образом, если сформулировать предельно просто, драматическое произведение – это история, основанная на конфликте персонажа-героя с силами антагонизма (внешними и/или внутренними), возникшем вследствие стремления героя достичь какой-то цели.
Какой конкретно цели – не важно. Это может быть стремление найти золото, жениться на принцессе, купить вишневый сад, спасти планету от ядерного взрыва, построить коммунизм в отдельно взятом улусе, избавиться от мук совести, постичь смысл жизни и т. д. и т. п. Важно наличие стремления (целеполагания), ради реализации которого персонаж-герой готов вступить в конфликт с внешними противоборствующими силами или с самим собой.
Так просто? Да, так просто. Это действительно очень простые принципы – как и все гениальное. На них основано подавляющее большинство литературных историй, созданных до настоящего времени человечеством – от времен первобытных пещерных сказителей, легендарного Гомера и до наших дней.
Скоро мы в этом убедимся.
Констатирующая идея
Чем литературное произведение – история, созданная воображением писателя, отличается от жизни? В основе, принципиально – ничем. Любой рассказ, роман, пьеса есть авторское повествование о нашей жизни, вне зависимости от того, кто выступает в роли персонажей – люди или бактерии. А любая жизнь есть одна большая история, состоящая из маленьких, менее значимых, отрезков. Но литературная история не пересказывает события жизни дословно – это было бы чрезвычайно скучно и, по большому счету, лишено смысла. У нее иные задачи – она является метафорой жизни.
История – это концентрированные, наиболее важные и значимые, события из жизни конкретных персонажей, отобранные писателем и рассмотренные им под определенным углом зрения.
Писатель изучает не жизнь – это слишком общо и даже абстрактно. Писатель (всегда!) описывает конкретную историю, исследуя обстоятельства, в которых она происходит. История может быть очень длительной по времени (развиваясь, к примеру, на протяжении жизни нескольких поколений) и включать в себя некоторое количество более коротких историй, но это всегда конкретная история. Длительность – вопрос не сути, а формы (жанра). Форма может быть разной, но суть от этого не меняется.
В основе любого литературного произведения лежит история героя (персонажа), который, оказавшись в определенной ситуации, начинает действовать, стараясь добиться какого-то значимого для себя результата.
Следовательно, если мы хотим сочинить увлекательную историю, способную захватить воображение читателя, мы должны, в первую очередь, задуматься над следующими вопросами: кто герой нашей истории, чего он хочет, к какому результату приходит по завершению своего квеста (движения по миру истории)? Понимание этого простого базисного принципа (герой – стремление – результат) дает ключ к пониманию того, чем является констатирующая идея и зачем она нужна автору.
Д. Фрей, ссылаясь на разработки литературоведа и лингвиста Л. Эгри, дает следующее определение идеи – это краткая формулировка (констатация) того, что произойдет с героями в результате ключевого конфликта. Данная формулировка (силлогизм), уточняет Фрей, доказывается на протяжении всего действия драматического произведения.
Перечитайте, пожалуйста, предыдущий абзац еще раз. Его содержание важно запомнить и усвоить для понимания всей книги. В монографии будет идти речь именно о констатирующей идее, как краткой формулировке того, что произойдет с героями в результате ключевого конфликта. Формулировке, которую надо доказывать на протяжении всего действия драматического произведения. Доказывать так же, как в логике доказывают тезис, но с учетом специфики художественного произведения. То есть доказывать, разрабатывая сюжет и композицию, создавая образы персонажей и т. д.
Поясню на примере. Представьте, что писатель сочинил следующую историю. Герой совершил предательство и начал страдать от мук совести. Рассказ закачивается тем, что персонаж мылит веревку и вешается. В тот момент, когда его тело начинает болтаться в петле, читатель понимает основной смысл истории (замечу, что момент истории, когда читатель постигает её основной смысл, называется кульминация). Он понимает, что это рассказ о человеке, который совершил предательство и в результате покончил с собой.
Константа подобной истории: предательство приводит к самоубийству. Писатель подвел читателя именно к такому выводу (краткой формулировке), создав соответствующего персонажа и поместив его в определенную среду. Если бы автор хотел доказать другую констатирующую идею, например – предательство приводит к богатству, он бы закончил свою историю описанием того, как герой шикует в дорогих ресторанах, «снимает» на неделю бригаду элитных проституток и справляет нужду на золотом унитазе.
Иначе говоря, результат, которого достигает герой произведения в развязке, это всегда самый весомый аргумент в системе доказательств константы произведения. Констатирующая идея, базирующаяся на системе доказательств, есть в любой драматической истории – даже если сам автор истории этого обстоятельства не понимает.
Например, если персонаж на протяжении сюжета страстно мечтает найти сокровища, чтобы разбогатеть, уехать на Карибы и там жениться на прекрасной креолке, и в финале реализует свое желание, константа подобной истории формулируется следующим образом: жажда обогащения приводит к успеху и счастью. Но если герой в развязке вместо сокровищ схлопочет бритвой по горлу, константа (вывод из системы доказательств) получится иная, например: жажда халявного обогащения приводит к неудаче (гибели). И читатель хорошо поймет идею истории, как в первом, так и во втором случае, вне зависимости от конкретной развязки, но при одном условии. Это условие – правильно выстроенный, логически обоснованный, сюжет.
Любая констатирующая идея предполагает, что в цепочке взаимосвязанных событий одна ситуация закономерно вытекает из другой, и это, в конечном счете, ведет к развязке. Как утверждает Фрей, если начало и конец произведения не имеют между собой причинно-следственной связи, значит, произведение не является драматическим. Если подобной связи нет, то последовательность событий в произведении никогда не приведет к кульминации, то есть такой сцене (эпизоду), когда разрешается ключевой конфликт произведения. А разрешение ключевого конфликта сюжета и есть окончательное доказательство идеи произведения.
Ключевой конфликт – это еще одно название основной сюжетной линии произведения. Таким образом, идея – это краткая констатация того, что произойдет с героями в результате развития сюжета. Вот и все. Что может быть проще? – спрашивает Фрей. Как только вы сформулируете идею произведения, вы сможете чудесным образом придать форму своему материалу, так же как каменщик придает форму камню, обтесывая его зубилом.
Допустим, вы пишете о большой безответной любви (о маленькой можно, но не стоит). В этом случае предмет вашего повествования (большая любовь) будет первой половиной идеи. Второй половиной станет то, что произойдет с персонажем по ходу сюжета. Например, возлюбленная отвергнет героя, и он покончит с собой. Идея такой истории: безответная любовь приводит к самоубийству.
Специальной формулы, позволяющей создать констатирующую идею произведения, как предупреждает Фрей, не существует. Однако, по Эгри, каждая идея должна включать в себя персонаж, который через конфликт приходит к результату. Например:
Трус отправляется на войну и становится героем.
Герой вступает в бой и оказывается трусом.
У Самсона отрезают волосы, и он утрачивает силу, но потом вновь ее обретает.
Формулируя идею, пишет Фрей, помните о трех ее столпах: персонаже, конфликте и результате.
Драматическое произведение рассказывает о том, как меняется герой, переживая кризис.
В констатирующей идее сжато изложена суть подобной трансформации.
Вот несколько примеров, приведенных Фреем:
– В «Крестном отце» главный герой любит и уважает семью и поневоле становится мафиозным доном. «Верность семье приводит к преступлениям» – идея романа, блестяще доказанная Пьюзо.
– В повести «Старик и море» Хемингуэй доказывает идею: «мужество приносит спасение». В случае со старым рыбаком это справедливо.
– Идея Кизи в романе «Пролетая над гнездом кукушки» заключается в том, что «даже самая мощная и безжалостная машина психиатрической лечебницы не в силах сломить человеческий дух».
– «Лолита» Набокова доказывает, что «великая любовь-страсть приводит к смерти». Справедливо в случае с главным гером Гумбертом.
Примечание. Вышеприведенные примеры ни в коем случае не претендуют на глубокий литературный и пр. анализ упомянутых произведений. Фрей (в соответствии со своими представлениями об основном содержании тех или иных произведений) вычленяет констатирующую идею, как несущую конструкцию, на которой затем можно построить сюжет и разместить все остальное, создающее ткань произведения. Какие на самом деле идеи (художественные и прочие) закладывали в свои романы и повести вышеупомянутые авторы – одному Богу известно. Главное, что констатирующие идеи в этих произведениях содержатся, и любой желающий автор, взяв подобную константу за основу, может сочинить что-то свое.
Как считает писатель и литературовед, автор популярного и, на мой взгляд, очень толкового пособия «Как написать повесть (роман)» Найджел Воттс, идея «зависит не только от способа повествования, но так же и от интерпретации читателя. Поэтому смысл истории всегда будет предметом открытой дискуссии – за что особенно благодарны должны быть критики, потому что в противном случае большинство из них потеряло бы работу… Если читатель поймет повествование иначе, чем автор, это не так важно; важно, чтобы сам автор понимал смысл своих поступков. Благодаря этому его работа даже если не добьется огромного успеха, то будет убедительной». Логично.
Повторим и подчеркнем, константа – это просто кратчайший способ описать развитие сюжета, который ведет персонажей через конфликт к развязке. А это значит, что константа одного и того же (уже написанного!) произведения может быть сформулирована по-разному (в зависимости от понимания сути произведения). Главное – правильно (на основании анализа) определить несущие элементы идеи-конструкции: тему, героя, ключевой конфликт и итог (что произошло с героем). Но вот когда вы приступаете к созданию собственного произведения, константа должна быть одна. Иначе вместо драматического произведения получится невнятная история без кульминации и развязки, с персонажами, гуляющими сами по себе. Это не я сказал. Так утверждает Фрей. Лично я ему верю.
И еще один момент (уточняю на всякий случай, поскольку мысль кажется мне очевидной). Константа, конечно же, не является универсальным правилом на все случаи жизни. Это формулировка, справедливая лишь в рамках конкретного сюжета. Например, в «Лолите» любовная страсть доводит Гумберта (а при его содействии и Лолиту) до гибели, а в повести Пушкина «Барышня-крестьянка» страстная любовь, наоборот, приводит героев (Алексея и Лизу) к счастью.
В книге «Как написать гениальный роман – 2» Фрей перечисляет три вида идей: цепная реакция; противоборствующие силы; ситуативная.
Самый простой вид идеи – это цепная реакция. С персонажем происходит какое-то событие, дающее толчок развитию сюжета, что ведет к кульминации, а затем и к развязке.
Если в истории друг другу противостоят две силы, одна из которых побеждает, мы имеем дело с идеей типа противоборствующие силы.
Ситуативная идея используется там, где на персонажах отражается какая-либо ситуация. Например, война.
Для чего нужна констатирующая идея?
В первую очередь, константа нужна автору для того, чтобы он сам понимал – о чем его история? Так или иначе, константа присутствует в любом литературном драматическом произведении. Если вы не в силах ее вычленить в собственном «шедевре», то следует задуматься над вопросом: чего же это такое я сочинил? Может быть, тонкий психологический роман? Хм…
Если вы изначально собирались плыть по бурному потоку сознания, то такой результат можно признать допустимым (для тех, кто способен плыть вместе с вами). А вот если планировали создать крепкую драматическую вещь с увлекательным сюжетом, то ваша затея, скорее всего, провалилась.
Чем крупнее произведение по объему, тем важнее для него наличие констатирующей идеи. Я, разумеется, не настаиваю, особенно, если вы – Габриэль Маркес или Герман Мелвилл, но всему своё время.
Можно сочинять и не имея константы (не формулируя ее). Но с нею – легче и проще, а значит и удобнее. Как утверждает Фрей, «…если персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации, значит, в романе есть идея. Ее наличие неизбежно, даже если автор не отдает себе отчета в ее существовании… Все драматические произведения были написаны по схеме: персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации. Исключений нет».
И далее Фрей добавляет: «Правила создания драматического произведения уместнее назвать принципами. Принципы можно нарушить, если это под силу автору… Хотите нарушить правила – попробуйте, но помните, что вы действуете на свой страх и риск. На каждую удачу в этом деле приходится тысяча провалов».
По мнению Фрея, идея задает и определяет главный вектор произведения, по которому и развиваются события (всегда по одной схеме): персонажи вступают в конфликт, ведущий к кульминации. Например, если идея произведения «великая любовь приводит к смерти», это значит, что в произведении действуют герои, которые влюбляются, а затем погибают («Ромео и Джульетта»).
Но стоит изменить константу произведения, как сразу меняется его содержание. Например, доказывая константу «великая любовь приводит к счастью», мы, вместо «Ромео и Джульетты» получим в итоге любовную версию «Капитанской дочки». А какая константа была у Пушкина? Подумайте.
Я предложу такой вариант: «Честность, верность, благородство приносят вознаграждение». Формулируя подобную константу через призму главных героев (Гринева и Маши), можно изложить ее несколько иначе (в развернутом виде): «Следуя законам чести, храня верность идеалам, проявляя благородство, главные герои получают достойное вознаграждение в виде царской милости и супружеского счастья».
Вот написал и задумался о том, что константа «великая любовь приводит к счастью», почему-то не пользуется особой популярностью у серьезных писателей. Всяких мелодрамок с такой константой – пруд пруди. А вот настоящих ДРАМ, навскидку, даже и не припомню. Разве что во времена соцреализма эту константу частенько использовали, правда, в несколько иной формулировке – «великая любовь к коммунизму приводит к счастью». (Шутка.)