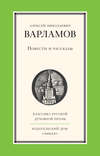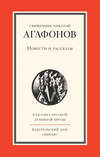Loe raamatut: «Дитя души. Мемуары»
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИСР 14-407-0752
Предисловие
I
Уникальность Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) в истории русской культуры в том, что он был одновременно, пожалуй, самый самобытный и оригинальный и в то же время очень процерковный (sit venia verbo) – или один из самых близких к Русской Церкви мыслителей. Не просто относившийся к ней с симпатией, но, например, часто по поводу своих сочинений советовавшийся с оптинскими старцами и проверявший свои мысли их советами.
Налицо очевидный парадокс! Действительно, казалось бы, как можно совмещать любовь к Церкви и евангельскому учению, которые, как Столп Истины, неизменны на все времена (Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут (Мф. 24:35)), стремление руководствоваться ими и безусловно подчиняться церковному авторитету – с творческой оригинальностью в мыслительной сфере? Однако Константину Леонтьеву это как-то удавалось.
С одной стороны, его несомненную оригинальность, талант и масштаб признавали Василий Розанов и Владимир Соловьев, Николай Бердяев и Лев Тихомиров. Например, Лев Толстой говорил, что «Леонтьев стоял головою выше всех русских философов». С другой стороны, став после своего обращения в июле 1871 года глубоко, последовательно и искренне верующим человеком и уволившись с дипломатической службы, Леонтьев стал все ближе и ближе подходить к монастырю. Стоит почитать опубликованные в этой книге «Четыре письма с Афона», чтобы увидеть, насколько глубоко Леонтьев понял и прочувствовал смысл и вкус монашеской жизни. Например, в третьем письме он объясняет, что, несмотря на то, что брак и монашество кажутся антитезами, для истинного брака монашество необходимо как его некий образец. Ведь брак, в котором супруги верны друг другу, говорит Леонтьев, – это тоже своего рода аскетизм, иночество вдвоем с детьми-учениками. В 1887 году Леонтьев поселился рядом с Оптиной пустынью, где в августе 1891 года (за три месяца до своей смерти) принял тайный постриг с именем Климент.
В то же время именно его оригинальность и самобытность с одной стороны и процерковность с другой послужили причиной того, что он не снискал широкой популярности у читающей публики, все больше тогда заражавшейся идеями либерализма и политического радикализма. Леонтьев «шел естественно наперекор историческому процессу», против течения, – и расплатой за это стала малоизвестность при жизни. И это очередной леонтьевский парадокс. Он был выдающийся писатель и прозаик, писавший замечательные романы. Знатоки ставили его вровень с Толстым по художественному мастерству. Тем не менее его литературные произведения не вызвали заметного и значимого отклика у читателей и критики. Свой литературный неуспех он позже осмыслял как Божий знак и действие Провидения: оно не дало ему «уйти в сторону», заняться чем-то, что могло бы его удовлетворить и «насытить» – и закрыть тем самым путь к Богу. И еще шире: «Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя расстраивали ход истории посредством преждевременного действия на умы».
Зато сегодня мы можем оценить, как неожиданно много сбылось из предсказанного Леонтьевым. Вообще говорить о пророчествах К. Н. Леонтьева даже модно, и это неслучайно. Ведь для этого есть основания. Например, он был уверен в том, что панславянское братство и единство – это миф, мираж, иллюзия. Он ясно видел, что народы Восточной Европы (Болгария, Чехия, Балканы и др.) уже тогда необратимо поддались обуржуазиванию, духовно встроились в хвост «передовой» Западной Европе с ее всеуравнивающим прогрессом, либерализмом и демократией. В досаде он меланхолично отмечал: «На кой нам прах эти чехи». Прозорливость Леонтьева в этом вопросе получила свое окончательное доказательство сегодня, когда вся Восточная Европа (а с ней и Болгария, которая, кстати, дважды в мировых войнах XX века умудрилась выступить на стороне врагов России) безоглядно вступила в НАТО.
Леонтьев угадал и то, что XX век станет веком социалистического рабства и что русский народ очень скоро может обратиться из народа-богоносца в народа-богоборца: «Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, – вероятно, в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм – феодализм общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой и ко власти общегосударственной поставленных. Я говорю из вежливости, что подозреваю это; в самом же деле я в этом уверен, я готов пророчествовать это».
Удивительно, но Леонтьев угадал и то, какую негативную роль в России в связи с этим сыграет философия в лице гегельянизированного марксизма. В одном из писем Розанову он пишет: «Я опасаюсь для будущего России чистой оригинальной и гениальной философии. Она может быть полезна только как пособница богословия. Лучше десять новых мистических сект вроде скопцов и т. д., чем пять новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т. п.). Хорошие философские системы, именно хорошие, – это начало конца».
II
Жизнь Леонтьева была очень насыщенной. Разносторонность его занятий поражает. Он был медиком, писателем, дипломатом, мыслителем и публицистом, под самый конец жизни – монахом. Родился Константин Николаевич в селе Кудинове Калужской губернии в семье местного помещика. После учебы на медицинском факультете Московского университета он в качестве батальонного лекаря принимает участие в Крымской войне (1853–1856), командует госпиталем. В 1863 году, после неудачных попыток на литературном поприще, поступает на дипломатическую службу и проводит десять лет в болгарских и греческих провинциях тогдашней Турецкой империи.
Ему покровительствует знаменитый русский государственный деятель и дипломат граф Н. П. Игнатьев, тот самый, благодаря дипломатическому искусству которого Россия присоединила себе земли по правому берегу реки Амур (сегодня это территории Приморского края и юга Хабаровского края).
Известен патриотический, хотя и не очень дипломатичный поступок Леонтьева, когда он на Крите ударил наотмашь хлыстом французского консула Дерше за неуважительный отзыв о России. Формально Леонтьеву сделали выговор по службе и отозвали в Константинополь, но на деле поступок Леонтьева вызвал сочувствие, а он стал популярной личностью в русском консульстве.
Затем, уйдя с дипломатической службы, Леонтьев активно выступает в публицистике, работает шесть лет цензором в Московском цензурном комитете. Известен еще и такой его неординарный поступок. В цензурный комитет поступили стихи одного либерального автора, где была такая строка: «Воруют даже генералы». Леонтьев, недолго думая, зачеркнул слово «генералы» и написал вместо него «либералы». В таком виде стихи и пошли в печать: «Воруют даже либералы». Можно представить себе изумление автора, когда он увидел свои строки опубликованными…
III
Леонтьев в своем творчестве отстаивал принцип византизма. То есть он считал, что главной культурно-исторической особенностью России является органичное сочетание Православия и самодержавия, унаследованное страной от Византии.
Идеи Леонтьева, конечно, противостоят идеологическому и культурному мейнстриму Нового времени с его культом индивидуальности и человеческой самостоятельности, опоры лишь на свои силы. Леонтьев предлагает иную перспективу. В сознательном индивидуалисте, настаивающем на правах собственной личности, подчиняясь леонтьевской оптике, вдруг видишь «существо, исковерканное чувством собственного достоинства». Возможен и нужен иной выбор, в котором высшими ценностями являются смирение, жертвенность, смиренномудрый отказ от индивидуального активизма.
Вот как Леонтьев в целом характеризует византизм и какие главные черты он в нем выделяет:
«Византизм в государстве значит самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многом крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом; знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства».
Одна из постоянных тем Леонтьева, вытекающих из его понимания византизма, – борьба с так называемым розовым христианством. Так он называл широко распространившееся в XIX веке представление о том, что главное в христианстве – это его нравственная сторона, взятая в отрыве от догматики и учения о Страшном суде, одна лишь любовь и милосердие. За подобные идеи он критикует, в частности, великих русских писателей Ф. Достоевского и Л. Толстого. В религии мало одной нравственности, говорит Леонтьев. Она сама, в свою очередь, должна основываться на мистике и догматике, на том, что «начало премудрости – страх Божий». Тенденция сводить христианство лишь к морали напрямую грозит его обмирщением, способствует иллюзиям насчет того, что возможно земное счастье, здесь и сейчас, в этой жизни. Но ведь, как говорит Леонтьев, Христос в Евангелии никакого счастья в этой земной жизни не обещал. Напротив, Он сулил живущим грядущие бедствия и потрясения. Царство Мое не от мира сего (Ин. 18, 36).
«Розовые», сентиментальные тенденции в христианстве логично приводят к представлениям об общечеловеческой нравственности, присущей всем людям и одинаковой в любых религиях. Но зачем тогда вообще и сама религия – с ее определенными строгими догматами и глубокой мистикой? Невозможно усреднить в единую мораль, например, буддизм, христианство, ислам и европейский секулярный гуманизм. В том числе и христианская этика невозможна вне своей догматической основы.
IV
Леонтьев учит неприятию идеологии как таковой. Ведь идеология как феномен связана с эмансипацией новоевропейского человечества от религии в Новое и Новейшее время. Она претендует на понимание логики и законов истории, на обладание знанием, как должно быть устроено общество. Таким образом, любая идеология (коммунистическая, либеральная) предлагает тотальные распорядительские общественные проекты, которые человечество должно воплотить в реальной жизни. В этом смысле идеология основана на стремлении человека устроиться на земле лишь с опорой на собственные силы и разум. И поэтому понятие «христианская идеология» – не меньший оксюморон, чем, например, деревянное железо. Идеология – это принципиально не христианский, даже антихристианский феномен. Ведь христианство не идеологично и не политично.
Леонтьев не принимал в современной ему Европе как раз этот тотальный распорядительский дух, который основан на человеческой надежде прочно устроиться на земле лишь своими силами. Традиционная сословная монархия для Леонтьева – гораздо более естественное и органичное общество, чем либеральная демократия, за которой стоит новоевропейская мобилизация, отправляющая человека на безоглядное и тотальное распоряжение миром и самим собой: «В прогресс верить надо, но не как в улучшение непременное, а только как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодушная, все ожидающая какой-то весны».
В том числе знаменитый и много порицавшийся леонтьевский эстетизм объясняется этим окрашенным в пессимистические тона всеприятием жизни.
Пусть все будет так и все остается так, как оно есть, словно говорит Леонтьев. Он не отворачивается ни от цветущей сложности мира, ни от того, что рано или поздно она «соскользнет в небытие».
В целом к Леонтьеву приложимо очень много «анти-»: он антилиберал, антигуманист, антидемократ. Но его неприятие новоевропейского гуманизма состоит в том, что любовь к человеку, взятая вне религиозного измерения, – это антрополатрия, человекобожие, которое растет из того же представления о самодостаточности и автономности человеческой личности, что и идея прямолинейного и необратимого прогресса. Пусть гуманизм – самое симпатичное проявление этой антрополатрии, но, доведенный до своего предела, он оборачивается своей противоположностью – что, собственно, и случилось в XX веке. Поэтому во главе всей человеческой жизни как начальная точка отсчета должен быть «страх Божий» – хотя бы потому, что силы Бога и человека несоизмеримы, говорил Леонтьев.
Новое общество, возникающее в Европе, Леонтьев называет «граммато-плутократической республикой», где господствуют образованные и очень богатые люди. Между тем разве можно с нынешними образованными людьми говорить действительно «всесторонне и глубоко», ведь они никак не могут выйти из круга общепринятых понятий, не раз иронично сокрушается он. У всех готовый набор схем и принципов, чтобы их освоить и принять, много думать не надо. Леонтьев отмечает, что нынешнему образованному человеку тяжело быть христианином не только потому, что надо бороться со своими страстями – стяжательством, гневом, злобой, пьянством и т. д. Надо ведь еще и гордость ума своего сломить и даже безусловно предполагать, что какой-нибудь деревенский грубый поп более прав (о ужас!), чем утонченный художник или великий мыслитель, скажем, Гегель или Прудон.
И действительно, как говорит Леонтьев в «Моем обращении…», «что за ничтожная была бы вещь эта “религия”, если бы она решительно не могла устоять против образованности и развитости ума!» Этим леонтьевским восклицанием мы и хотим закончить наше небольшое предисловие и почтительно дать слово уже самому автору.
Юрий Пущаев
Дитя души1
Старинная восточная повесть
I
Жил муж с женой.
Был у них домик, был один осел, одна корова, куры были, собака, кошка и больше ничего. Не было у них и детей.
Муж по чужим домам в работу нанимался; рыбу ловил, людям помогал; уголь в город привозил продавать на осле. Жена рубашки ему ткала, дом прибирала, пищу варила, коровой занималась, цыплят выводила.
Пока была у них сила, они терпели и не плакали, и даже песни пели веселые – и одни, и при людях. Муж никогда не пьянствовал, но, когда были лишние деньги, он заходил в кофейню и выпивал одну маленькую чашечку кофею и стакан холодной воды, с людьми беседовал благочестиво, и весело, и тихо, и в ссоры никогда не вступал, а напротив того, других примирять старался. Звали его Христо. Жену его звали Христина, и она тоже была женщина хорошая, как муж. С соседками хоть и ссорилась, потому что была женщина, но все-таки ссорилась редко, и соседки ее любили…
Все звали ее кира2-Христина, хоть и знали, что она была бедна.
– Кира-Христина! Как здоровье твое? Что поделываешь? Бедная ты моя!
И Христо люди звали и на базаре, и везде:
– Добрый ты человече!.. Как время свое проводишь? Как живешь? Здоров ли ты? Жена твоя здорова ли?..
Однажды порубил Христо топором ногу и долго лежал; а Христина простудилась и в лихорадке лежала. Жаркое было время; мухи их в бедной хате тревожили. Муж лежит и жену жалеет, а жена мужа. Муж не может за лекарем сходить, чтобы жену полечил; жена раз в день едва до угла дойдет воды принести. Хлеба им соседи давали.
Долго болели они. Слышит Христо однажды ночью, что жена не спит, а молится. Стал он слушать, о чем она молится. И слышит, что она говорит Богу: «Господи Боже мой! Не послал Ты нам богатства, мы работали и песни пели, не плакали; послал Ты нам болезни, мы на Тебя не роптали; пошли Ты нам дитя, чтоб оно кормило и поило нас, когда мы постареем и изувечимся».
Тогда Христо стал смеяться над ней и сказал:
– Мне сорок лет, жена, а тебе тридцать пять; двадцать лет у нас детей не было, а теперь будут?
Христина рассердилась и сказала:
– Для Бога все возможно!
Пришел к ним старый поп – посетить и утешить их, и спросил у него бедный Христо: кто правее, он или жена? А поп ему:
– Жена правее. Для Бога все возможно; только не всякий чудес достоин! Вот наша беда!
Поп ушел. А Христо стал после этого скоро поправляться и начал ходить на работу. Нога его зажила. Лихорадка тоже у Христины прошла, и она стала в доме работать по-прежнему. Только прежде она и за пряжей сидя, и пред печкой одна стоя все пела что-нибудь веселое; а теперь, как одна останется, так молиться начнет: «Недостойна я, Боже мой, чтоб утроба моя разверзлась и чтобы бесплодие мое прекратилось; ибо я исполнена всякия скверны и греха; но как Ты знаешь, так и устрой мое дело!»
Так ее священник научил.
Вот однажды слышит она вечером, что стучится муж, и она пошла отворить ему.
– Божий дар! – сказал он, улыбаясь, и раскрыл одежду; а там дитя уснувшее – мальчик.
– Не тебе, а мне Бог послал его, – сказал ей Христо шутя; вошел в дом и положил дитя у очага на коврике, а сам достал из-за пазухи четыре прекрасных цветка: один красный, один белый и два желтых – и положил их на стол. Жена на них и не поглядела.
Дитя спит, а Христина плачет.
– О чем же ты плачешь, глупая, когда Бог нам послал то, о чем ты молилась?
Но она, хотя и занялась тотчас же младенцем, долго еще слезы утирала украдкой. Муж ей говорил:
– Милая ты моя, ты, верно, от радости плачешь?
А она ему:
– Да, кир-Христо ты мой, я от радости плачу.
Понимала она, что это-то и было исполнение ее молитв и что роптать ей не следует теперь; но все-таки ей было немного обидно, что это дитя не ее дитя родное, не ею рожденное, не в ее утробе выношенное с тяжкою болью. Женщина!
Ей бы нужно тотчас пред иконой стать и благодарить Бога; а она и не молится, и на ребенка не смотрит. Пошла за дверь и села на камне у порога; не хочет ничего видеть. И мужу стало обидно, что он напрасно радовался и бежал почти к ней с младенцем; и он забыл помолиться; надел башмаки опять и ушел из дома на весь вечер и дверью хлопнул.
Так Христина, по глупости своей, Божий дар нехорошо приняла и мужа смутила и расстроила.
Сидела она на камне у ворот, однако, недолго. Ночь была хотя и лунная, но осенняя, скучная… и очень холодная; ветер сильный был, и листья шумели, и деревья качались пред ней, и начала думать она, и сказала себе наконец: «Эти деревья качают главами своими мне в укор и насмешку: вот, говорят они, эта дура Христина, которой Бог послал сына, и она оскорбляется и на дитя невинное и безродное смотреть, как псица злая, не хочет. Это так шепчут деревья эти страшные и так они укоряют меня!..»
Возвратилась она в комнату, зажгла огонь, и младенец проснулся на коврике у горящего очага.
Присела Христина на землю и стала на него смотреть пристально.
Мальчик не плачет и ничего не говорит. На вид ему года два.
Глаза веселые, большие-большие, синие, такие синие, как небо в самый зной бывает, или как бирюзовый камень дорогой у богатых людей на запястьях и перстнях, или еще как цветок редкий. Посмотрела Христина после глаз на волосики мальчика; они как шелк темные или как соболиный мех на шубе царской, и курчавые, как у агнца молоденького. И лицо у мальчика здоровое и румяное, брови у него как снурки3 темные, ресницы как черные острые стрелочки. Стала она уже любоваться на красоту младенца и развеселилась, и засмеялась, и стала сама себе шутя говорить:
«Вот Господь Бог-то знает, что посылает… Я ведь так и молилась: как Ты знаешь, так и устрой мое дело… а не так, как я хочу. Нам с бедным Христо моим не родить бы такого красавца! И мы некрасивы, и дитя, от нас рожденное, в кого ж бы вышло такое? Муж мой и смолоду, как сушеная рыбка, худой был и глазами косит немного; а я хоть получше его всегда была, а все не из первых. Может, выйдет такой красоты молодец у нас, такая картина и сокровище, что царские дочери об нем убиваться станут…
И женится он на богатой, если не на царевне самой… И будет наша старость с бедным Христо богатая, богатая, веселая и спокойная!..»
И задумалась она теперь уже совсем иначе. Стали ее мысли все веселые. Стала она ребенка молоком и хлебом кормить; воды нагрела, мыть его стала и радуется, что и дитя тихое и покорное, все глазками на нее глядит и не плачет; в чистое белье его одела и на ковре опять спать положила.
Муж утром вернулся и увидал, что жена уснула у очага и младенец около нее тихо спит.
Он обрадовался и сам лег. И все-таки Бога не подумал поблагодарить; вечером так же, как и жена, с досады забыл, а теперь от радости.
На другой день Христина вспомнила, когда муж ушел на работу, что она и не спросила у него, откуда он взял ребенка. Стала она об этом тревожиться и сокрушаться и насилу-насилу мужа дождалась. Как только он пришел, она приступила к нему:
– А я и не спросила тебя, где ты этого младенца нашел.
Христо говорит ей:
– Не спрашивай у меня об этом никогда. Я должен открыть тебе это тогда, когда от вчерашнего дня пройдет восемнадцать лет и один день. А до тех пор на мне лежит великая клятва. И я умру, если скажу об этом кому-нибудь…
Христина оскорбилась, и любопытство, как червь, начало точить ее сердце.
– Чем же я хуже тебя пред Богом и пред людьми, что мне нельзя того знать, что ты знаешь? Не хуже я. Жена без мужа не бывает, да и муж без жены что такое… Ты муж, а я жена.
– Не хуже ты меня, моя дорогая, пред людьми. А пред Господом Богом, может быть, и несравненно меня ты честнее. Но верь ты мне, моя жемчужина драгоценная, что если я тебе скажу это прежде восемнадцати лет и одного дня, то я сейчас же умру лютою смертью грешника, который клятву великую нарушил.
Так отвечал ей Христо, как муж разумный и добрый. А она все свое:
– Не знаю, отчего ты мне этого открыть не хочешь! И почему ты не веришь мне? Не знаю!
– Хочу, но смерти боюсь, – отвечал ей, вздыхая, муж.
И правда, зарок на нем был великий и страшный. Но не верила ему жена и знать не хотела о страхе его. Допустила она в сердце свое злого духа, и начал он, вселившись в нее, искушать ее всячески. То думала она, что ребенок этот от какой-нибудь блудной и дурной женщины мужем прижит от нее тайно, и начинала она его вдруг ненавидеть; то думала, что хоть и не от мужа он в грехе прижит, то по крайней мере от худой какой-нибудь ветви происходит, и вот потому-то в дом их раздор с ним вместе пришел. А иногда мерещилось ей, что дитя совсем даже не простое дитя, а страшное, не человеческое.
Плачет дитя, есть и пить просит; она пожалеет, даст ему есть и пить, а сама качает головой и думает: «Сердитое дитя будет, беспокойное… Не от злой ли матери оно рождено на мое несчастье!..»
Тихо дитя, долго не плачет, и все смеется, и на нее все глядит; станет ей страшно вдруг, и она подумает, «что дитя это не по-детски смотрит. Не человеческое дитя. И плачет редко. Нет ли тут чего-нибудь дурного?» И раскрывала волоски ему надо лбом, смотрела, не растут ли у него рожки. А когда ей опять этот вздор приходит на ум, что это мужа ее незаконный ребенок, то входила она в такую ярость, что невинную душу иногда погубить хотела. Либо задушить, либо утопить ребенка желала, либо думала: «Погоди ты, дитя анафемское, я тебя не буду кормить, и умрешь ты с голоду, и муж не догадается; подумает, что ты от болезни умер».
Так допустила в душу свою злого духа добрая Христина. И мужу ее все это время было дома очень тяжело жить.
С горя он в первый раз в жизни пить вина много стал, и хотя слишком пьян не напивался, а все-таки денег трудовых своих тяжких стал больше на пустое тратить. Так и он подчинился греху больше против прежнего.
А с женой все кроток был. И когда она его укоряла этим ребенком и распутным человеком его звала, и побродягой, и дураком, Христо молчал и уходил из дома в кофейню или кабак.
Испортилась вовсе их благочестивая жизнь, и соседи корить их начали и смеялись над ними.
Придумала наконец Христина новую хитрость, чтобы мужа заставить себе тайну открыть и успокоиться.
Легла в постель, не прядет и пищи не готовит, и за водой не ходит на фонтан, и при муже и ребенка не кормит, а потихоньку встанет без мужа и кормит дитя, все-таки жалеет его.
Муж лекарей приводил, и с соседками советовался, и ходжу4 в чалме белой приглашал, и ходжу в чалме зеленой, и оба они над Христиной читали из Корана, и еще хуже ей стало. Не пьет, не ест и ни слова не говорит, и все стонет и стонет так жалобно, что Христо и слышать не мог без слез.
Наконец промолвила она слово:
– Скажи мне свою тайну; а если не скажешь, я завтра умру.
Пришли опять ходжи: и тот, который в белой чалме был, и тот, который был в зеленой, и оба сказали: «Умрет, потому что без веры наши молитвы слушала».
Священник сказал:
– Умрет, пожалуй, потому что от ходжей приняла заклинания. За мной не послала во время подобное!
Убивается Христо.
Последние медные деньги, какие были, понес в церковь, подошел к образам, по три раза поклонился и по малой свечке поставил, сколько было сил. И опять, по три раза поклонившись, из церкви домой вернулся. И открылись у него глаза и уши, и ум просветлел.
«Глупый я: из хитрости она притворилась, а я убиваюсь, плачу, а ее не побью. Палка, которая неразумных наказывает и усмиряет, из райского сада, сказано, вышла. Только надо бить не в сердцах, а в спокойствии и с рассудком…»
Обрадовался Христо; взял палку и со скорбью, без гнева, но крепко прибил ею Христину, чтобы встала и не притворялась.
Начала плакать Христина как малое дитя пред ним и просить его:
– Христо, мой золотой, душенька моя, никогда ты руки на меня не накладывал, прости ты меня и не бей больше.
И приказал он ей в церковь пойти помолиться. Христина взяла мальчика и пошла с ним в церковь, и поставила его пред образом чудотворным, и сказала:
– Вот я умею пестрые прекрасные чулочки вязать зимние из разноцветной и нелинючей шерсти пестрыми звездочками и цветочками. Буду я вязать теперь такие чулочки и продавать их буду, и каждый год три раза ставить свечи в рост этого младенца, которого мне Бог послал. Теперь младенец еще мал, и свеча в его рост небольшая; а я потом каждый год прибавлять буду по росту его до тех пор, пока он перестанет расти. Пусть только Бог пошлет глазам моим силу и рукам проворство, чтоб я могла вязать всегда эти прекрасные чулочки из нелинючих шерстей разноцветными звездочками и цветками пестрыми.
Так молилась Христина и целый золотой к образу положила. Золотой этот ею давно спрятан был, и много нужды терпела она за все это время, а золотого не тратила, на случай своих желаемых родов берегла. Теперь же отдала его, и о своем собственном ребенке перестала думать, и успокоилась.
С этого дня отошел от нее злой дух и опять возвратились к ним в дом и молитва усердная, и здоровье, и смех безгрешный, и радость, и согласие, и любовь… А бедны они были по-прежнему и трудились. Мальчик же стал расти благополучно и с каждым годом все становился умнее и красивее.
II
Выросло наконец дитя души у Христо и Христины. Было ему уже около 20 лет, и перестала Христина вязать пестрые чулочки, и перестала ставить свечи во весь рост его.
Вырос Петро большой и сильный; вырос он белый и румяный, синеокий и чернобровый, вырос добрый и умный.
Скажет ему Христо:
– Петро! сын мой! поди сюда!
Петро отвечает:
– Прикажи, батюшка.
И когда Христо прикажет ему вместо себя поработать пойти или зимой за угольями сходить с ослом, навьючить его и отвести в город, Петро поклонится, и руку к сердцу приложили скажет:
– Сейчас, батюшка мой!
И головой так приятно кивнет: «понимаю», значит, «и все с радостью сделаю!» Скажет ему Христина: – Петро! сын мой, поди сюда!
Петро отвечает:
– Прикажи, матушка!
И когда Христина прикажет ему вместо себя очаг растопить, или за водой сходить, или корову загнать домой, Петро поклонится ей, и руку к сердцу приложит, и скажет:
– Сейчас, матушка! – и головой так же, как и отцу, и ей в ответ так мило и внимательно склонится, чтобы показать ей радость свою и готовность, что Христина уж ему и слов ласковых не находит, а только вздохнет, и перекрестится, и подумает:
«Прости Ты меня, Господи, грешную, что я так худо думала прежде о младенце этом, который есть Твой дар и Твоя милость к нам, несчастным и бедным!»
И всякое благословенье было на делах рук прекрасного Петро. Очаг ли он топил, приклонившись к земле, у материнских ног, пылал огонь быстро и треск стоял по всей хатке, и дымом не дымило в глаза, и пламень к небу рвался… Рыбу ли он вместо отца с рыбаками ловил, рыбаки боялись, чтобы сеть не порвалась от множества рыбы, и шептали друг другу: – Недаром этого мальчика назвали Петро; он, как Петр апостол, рыбу ловить счастлив!
За угольями ли поедет, уголь все крупный и чистый у него в мешках; за водой ли поедет, вода у него в руках и холоднее, и чище, и слаще станет.
Другие молодцы любили его за то, что силен был и ласков, и песни пел хорошо, и плясал красиво по праздникам, и смел был, и борец он был страшный; никто с ним бороться не мог.
Как увидят его товарищи, все смеются от радости и говорят:
– Вот и Петро идет к нам!
Любили его старцы и старицы за уважение и смирение пред ними. Увидит старца – поклонится и к руке подойдет. Заговорит с ним пожилой человек, он покраснеет, и глаза опустит, и руки спереди сложит; а сам ничуть не боится и не теряется, и все слышит, и все понимает, и все исполняет, что ему старшие говорят. И когда отойдет Петро от них, все старики и старухи про него так отзываются: