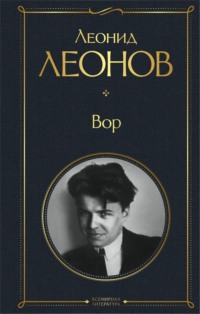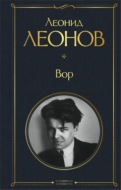Tsitaadid raamatust «Вор»

Добрым всегда плохо.

Наступала переломная пора в русском государстве, безумие пополам с изменой опустошало страну. Тыл и фронт разделились пустыней… и вот по ней при всеобщем безмолвии побежали домой не убитые на войне: облако возмущения неотступно следовало за ними…

Странно, всегда люди друг в друге каких-то необыкновенностей ищут, не находят и оскорбляются. А людей не за то, что они сделали, надо любить, не чудо, не за силу их...

А уж молодая поросль с пахучей и девственной листвой подымалась вокруг, и не было им никакого дела ни до старухиной биографии, ни до полузаплывших на трухлявой колоде письмен, ни до тайной муки ее обнаженных вывороченных корней. Так и мы, люди…

— Ведь оно как… воздухи железо едят, а времена — человеков!

— За спиной у вас окажется, весь в чаду и руинах, поверженный и вполне обезвреженный, старый мир. Уж такую распустейшую пустыню увидите вы позади, словно никогда в ней и не случалось ничего… не пожито, не люблено, не плакано! Привалясь к обезглавленному дереву, на фоне прощальной виноватой зорьки будет глядеть вам в очи вчерашняя душа мира, бывшая! Самое хозяйственное комендантское око не обнаружит на ней сколько-нибудь стоящего, подлежащего национализации имущества… кроме, пожалуй, раздражающе умной, колдовской блестинки в ее померкающем зрачке. Никто и вниманья не обратит вроде на такой пустяк, а вы непременно его заметите, Дмитрий Егорыч!.. И тут опалит вас жаркая догадка, не эта ли ничтожная штучка, искорка, почти как точка, так что и ярлычка инвентарного присургучить некуда, и есть наиважнейшая ценность бытия, потому что выплавлена из всего, сколько у нас его было позади, опыта человеческой истории. С одной стороны, так вас потянет к тому таинственному мерцанию, молодой человек, будто в нем-то и заключается главная адская сласть, а с другой — и жутковато станет, потому что весь кураж младости и заключен бывает как раз в его великолепном отсутствии… Есть старинное русское поверье про колдунов: не дается им умереть, пока не передадут юнцу свое проклятое могущество. И пока вы станете гадать, как вам половчей добыть ее, вчерашняя душа сама и протянет вам свою блестинку. «Не томись, скажет, не зарься, Митя, бери мое сокровище, тем уже одним великое, что ни отнять его, ни погасить нельзя, ни из комендантского нагана прострелить. Возьми поиграй, прикинь на пробу, полюбуйся сквозь это волшебное стеклышко, столь малое и прозрачное, — словно и нету его вовсе, на сокрытые вокруг тебя житейские тусклости, такие серые в свете обычного дня!..» Оной не надо бы для здоровья-то а тем и полюбились вы мне, вор Дмитрий Векшин, что ничуть здоровьишком не дорожитесь. Любой благоразумный остерегся бы, а вы хвать пятерней да как пьяница чарку свою — взахлебку! А то не сласть, не спирт, не избавительная смерть, а вся память рода человеческого о былом. В ней растворены без осадка такие, на нонеший взгляд, пустяковины, как пыль от развалин знаменитейших храмов или зов путника, заблудившегося на пике высочайшей мыслительной горы, а — для приправы — гнилая горечь повисшей в водной бездне грабительской бригантины, и христианского мученика кровинка, и пепла малая щепотка из еретицкого костра… Туда входят также несущественные, казалось бы, горести и скорби дедов наших, бесполезные мечтания, несвоевременные сомнения или разочарованья героев и другие вещества, из коих иные священней многих великих откровений… ну и прочая духовная фармакопея, которую некоторые современные аптекари содержат под замком, в банках с притертыми пробками и с костяшками на ярлыке. О всемирной душе речь идет, понятно?.. Как, есть в тебе душа?— Да вроде не прощупывается… — усмехнулся Митька. — И ты полагаешь, стану я пить чертову твою настойку?— Хлебнешь, родной: не писал бы про тебя, каб не так… сперва на пробу, а там и губ не оторвать. Хмельней опия штука!.. с пары глотков каким-то иррациональным косвенным зреньем начинаешь нримечать странное, во всю даль прогресса, смещенье главных планов, и вдруг поверх сущего, на плоской холстине действительности проступают плывучие, в самых угрожающих сочетаниях и на грани обобщительного безумия, знаки и числа, мерцающие пейзажи и события, по счастью, не доступные большинству и справедливо отвергаемые иными философами, потому что это всегда мешало… как бы выразиться поточней?— Кто, кому помешал? — угрюмо воспользовался его заминкой Векшин.— Ну… мешало им посредством благоразумного упрощенья, так сказать через нивелировку структурных различий между пяткой и капризной тканью мозговой, добиться высшего блага для человечества — избавления от наиболее опасного из всех разделительных зол, от интеллектуального неравенства.

Люди не дрные и не хорошие, они прежде всего живые...и все наши разочарования происходят от ошибок наших...в ту или другую сторону.

В жизни-то не один изюм, есть в ней и кисленькое, и горчинка местами попадается...а иначе-то и жрать ее не станешь, сопьешься от сладости!

…в те годы дрались за великие блага людей, в суматохе мало думая о самих людях. Большая любовь, разделенная поровну на всех, согревала порою не жарче стеариновой свечи. Любя весь мир любовью плуга, режущего покорную мякоть земли, Векшин только Сулима дарил любовью нежной, почти женственной. Когда в одной рукопашной схватке пуля между глаз сразила коня, Векшин так вел себя в тот вечер, словно убили половину его самого.

Не зря он сам про себя говорит, что железный, а железо людей не любит, оно презирает их именно за то, что они теплые, непрочные, согнуться под болью могут. Потому и не осталось у него кругом никого: железо ржавеет в одиночку!