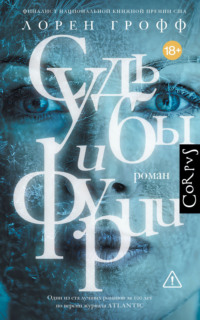Loe raamatut: «Судьбы и фурии»
Fates and Furies
© 2015 by Lauren Groff
First published by Riverhead Books
Translation rights arranged by AJA Anna Jarota Agency and The Clegg Agency, Inc., USA.
All rights reserved
© Э. Меленевская, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО «Издательство Аст», 2025
Издательство CORPUS ®
Посвящается, разумеется, Клэю
Судьбы
1
С неба разом пала густая морось, словно занавес опустился. Смолкли морские птицы, свернув свой гвалт, океан стих. Огоньки в домах по-над водой пригасли и потускнели.
По пляжу шли двое. Она – беленькая, броская в зеленом бикини, хотя это был май в Мэне, холодновато. Он – высокий и очень живой; в нем что-то искрилось, притягивало взгляд и не отпускало. Звали их Матильда и Лотто.
С минуту они смотрели, как накатывает прилив, кишащий шипастыми существами, – исчезая, те оставляли за собой завитки песка. Потом он взял в ладони ее лицо и поцеловал в бледные губы. Он был так счастлив сейчас, хоть умри. Внутренним взором он видел, как море вздымается, чтобы их поглотить, слизывает их плоть и в глубине перекатывает их кости по своим коралловым коренным. Но если она рядом, подумал он, я выплыву, да, и с песней.
Что ж, он был молод, всего двадцать два, и в то утро они тайком от всех поженились. При таком-то раскладе перехлесты можно простить.
Ее пальцы, скользнув по спине под плавки, обожгли. Другой рукой она толкнула его в грудь, заставив пятиться вверх по дюне, поросшей пляжным горохом, а потом вниз, туда, где песок стеной защищал от ветра. Кожа под лифчиком в мурашках и лунно-голубоватая, и соски от холода втянуты внутрь. Вот они на коленях, хотя песок больно кололся. Пускай, неважно. Все чувства свелись в ладони и губы. Подтянув к себе, он обнял свои бедра ее ногами, навалился, укладывая, укутал своим теплом, пока она не перестала дрожать, устроил из своей спины дюну. Исцарапанные коленки вскинулись к небу.
Он жаждал чего-то мощного и словами не выразимого: чего? Носить ее, как покров. Пребывать в ее тепле вечно. В жизни люди отпадали, отваливались от него, один за другим, костяшками домино; сейчас каждый его толчок пришпиливал ее крепче, чтобы не смогла оторваться.
Он представил, как всю жизнь они будут любиться на пляже, пока не станут парочкой стариканов из тех, что утром бодренько выходят на променад, прокаленные солнцем, лакированные, как ядрышки грецкого ореха. И даже стариканом он будет увлекать ее в дюны и там брать свое, хрупкие птичьи косточки не утратят соблазна, пластиковый сустав в бедре, бионический протез в колене. В небе будут маячить спасатели-беспилотники, мигать огоньками, сигналить: «Развратники! Блудники!» – сгоняя их, грешных, с песчаного ложа. И так – вечно.
Он закрыл глаза, загадал желание. Щекот ее ресниц на щеке, объятие ее бедер, первое закрепление пугающе прочной сделки. Брачные узы связали их навсегда.
[Он-то планировал сделать все, как обычно, в постели, с соблюдением церемоний. Вторгся без спросу в пляжный домик своего однокурсника Сэмюэла: он с пятнадцати лет проводил там почти каждое лето и знал, что ключ прячут в саду под панцирем морской черепахи. Домик был – шотландка и обои в мелкий цветочек в стиле «либерти»; яркая керамическая посуда фирмы «Фиеста», покрытая слоем пыли; в гостевой комнате ночью троекратно мигает маяк; скалистый пляж под окном. Именно там Лотто воображал себе первый раз с этой потрясающей девушкой, которую чудом заманил в жены. Но Матильда была права, агитируя за консумацию на пленэре. Она всегда оказывалась права. Он довольно скоро это усвоит.]
Все закончилось слишком быстро. Когда она вскрикнула, чайки, укрывшиеся в дюнах, тяжким залпом стрельнули в низкие облака. Позже она покажет ему ссадину от ракушки, которая вонзалась в восьмой позвонок, когда он врубался в нее глубже и глубже. Так тесно они были сомкнуты, что, когда смеялись, его смех исходил из ее живота, а ее – из его горла. Он расцеловывал ее скулы, ключицы, бледные запястья с жилками, похожими на синие корешки.
Страшный голод, который он надеялся утолить, утолен не был. В конце было очевидно начало.
– Моя жена, – сказал он. – Моя.
Не станет он, пожалуй, носить ее, как покров, а всю целиком проглотит.
– Что? – переспросила она. – А, да, верно. Ведь я – движимое имущество. Ведь моя королевственная родня обменяла меня на трех мулов и ведро масла.
– Мне нравится твое ведро масла, – сказал он. – Теперь это мое ведро масла. Такое соленое. Такое сладкое.
– Нет-нет, и не думай, – сказала она, утратив свою улыбку, застенчивую и до того неизменную, что он поразился, увидев ее вблизи без улыбки. – Никто никому не принадлежит. Мы создали нечто большее. Нечто совсем новое.
Посмотрел на нее задумчиво и легонько куснул за нос. Он любил ее изо всех сил эти две недели и, любя так отчаянно, считал, что она прозрачней стекла. Он видел ее всю насквозь, благородство души и сердца. Но стекло – хрупкая вещь, так что надо поосторожней.
– Ты права, – сказал он, думая «нет», думая, как глубинно они переплетены. Как несомненно.
Меж телами, меж ним и ею, едва хватало пространства для воздуха, для струйки пота, которая теперь остывала. И все же третье действующее лицо, их супружество, протиснулось посередь.
2
Они карабкались по камням к дому, который в сумерках сверкал огнями; уходя, она оставили свет включенным.
Единство, супружество, состоит из частей. Лотто был шумным, полным огня; Матильда – тихой и настороженной. Легко поверить, что он представлял собой лучшую половину, ту, которая задавала тон. Меж тем все, чем он жил до сих пор, подводило его к Матильде. Не подготовь его жизнь к тому моменту, когда она появилась, союз бы не состоялся.
Морось сгустилась и стала дробью. Они торопились преодолеть последний участок пляжа.
[Оставим их там мысленно, тощих, юных, поспешающих сквозь тьму к теплу, летящих над холодным песком и камнем. Мы вернемся к ним позже. Пока что мы не можем отвести взгляд от него. Из них двоих он сияет.]
Лотто очень нравилась эта история. Он родился, как любил говорить, посреди «глаза бури», в тихой сердцевине урагана.
[Сразу спросим, не странный ли способ выбирать время.]
Мать была красива тогда, и отец жив. Лето, конец шестидесятых. Городок Хэмлин во Флориде. Усадебный дом так нов, что на мебели еще бирки. Незакрепленные жалюзи при первом порыве ветра страшно задребезжали.
Но тут на короткий срок вышло солнце. Апельсиновые деревья роняли капли дождя. В наступившей передышке было слышно, как грохочет установка по бутилированию воды, отделенная от дома пятью акрами наследной земли, поросшей кустарником. В коридоре две горничные, повар, садовник и управляющий приникли ушами к двери. А в комнате плыла в белых простынях Антуанетта, и огромный Гавейн поддерживал пылающую голову жены. Салли, тетка Лотто, нагнулась подхватить новорожденного.
Лотто вышел на сцену: дитя-гоблин с длинными ручками-ножками, огромными кистями-ступнями, необыкновенно горластый. Гавейн поднес его к окну, где было светлей. Ветер разошелся опять; дубы, как живые, размахивали мшистыми ветками, дирижируя непогодой. Гавейн уронил слезу. Жизнь достигла предельной точки.
– Гавейн-младший, – произнес он.
Но в конце-то концов это Антуанетта проделала всю работу, и пылкая любовь, которую она питала к мужу, вполовину уже переместилась на сына.
– Нет, – сказала она. Ей вспомнилось первое свидание с Гавейном, бордовый бархат кинотеатра, замок Камелот на экране. – Нет, – сказала она, – Ланселот.
Ее мужчины будут именоваться в рыцарском духе. В чувстве стиля ей не откажешь.
До того как буря успела разойтись вновь, прибыл врач и заштопал Антуанетту. Салли смазала младенчика оливковым маслом. Ей казалось, она держит в руках собственное стучащее сердце.
– Ланселот, – прошептала она. – Вот же имечко! Достанется тебе за него, это наверняка. Ну ничего, не тревожься. Будешь ты у нас Лотто, уж я постараюсь.
И поскольку Салли умела проскальзывать за обоями, как мышка, на которую была очень похожа, все и впрямь стали звать его Лотто.
Антуанетте дитя далось дорого. Поплыло тело, обвисла грудь. Вскармливание не делает краше. Но как только Лотто заулыбался, мать увидела, что он – ее крошечная копия, хорошенький, с ямочками на щеках, и простила его. Какая отрада – обнаружить, что ребенок красив в тебя!
Семейство мужа привлекательностью похвастаться не могло, потомки всех флоридских обитателей, начиная с коренных тимукуа до испанцев, шотландцев, беглых рабов, индейцев-семинолов и пришлых северян-саквояжников; на вид сущие пережженные сухари. Салли угловата лицом и костлява. Гавейн – волосат, огромен и молчалив; по Хэмлину ходила шутка про то, что человек он только наполовину, отпрыск медведя, который подстерег его мать, когда та шла по двору к флигелю. Антуанетта, вообще-то прежде отдававшая предпочтение обходительным ходокам, гладким, напомаженным и откровенно богатым, прожив год в браке, обнаружила, что так увлечена мужем, что, когда он приходит домой ввечеру, она, как есть в одежде, вместе с ним встает под душ, словно в трансе.
Выросла Антуанетта на побережье Нью-Гэмпшира в кособоком доме-солонке, названном так по сходству с деревянной коробкой, в которой хранили соль. Пять младших сестер; зимой до того страшные сквозняки, что по утрам ей казалось, околеешь прежде, чем успеешь одеться. В ящиках комода срезанные пуговицы про запас и севшие батарейки. Печеная картошка шесть раз в неделю подряд. Как-то ехала в Смит, и проезд был оплачен до Смита, но там не смогла заставить себя сойти с поезда. Журнал, который кто-то забыл на соседнем сиденье, открылся на статейке про Флориду. Где деревья никнут от золотистых плодов, где солнце и изобилие. Где тепло. Где женщины с рыбьими хвостами, зелеными, волнистыми, в крапинку.
В общем, так оно было предопределено. Антуанетта доехала до конечной, до заповедника Уики-Вачи денег ей не хватило, добралась автостопом. Вошла в кабинет продюсера, тот окинул взглядом ее золотисто-рыжую до пояса гриву, ее округлые формы, на которые трудно было не обернуться, и бросил: «Годится».
Парадокс русалки: чтобы выглядеть ленивой и безмятежной, нужно много и усердно работать. Антуанетта улыбалась томно и ослепительно. Ламантины, проплывая, задевали ее, как свою, окуни-синежаберники покусывали за рыжие прядки. Но вода была ледяная, 74 градуса1, течение сильное, а подача воздуха в легкие точно отрегулирована, чтобы обеспечивать то плавучесть, то погружение. Туннель, по которому русалкам требовалось проплыть, чтобы добраться до сцены, был черный и длинный, и порой они цеплялись за что-то там волосами, рискуя лишиться скальпа. Зрителей видеть она не могла, но сквозь стекло чувствовала тяжесть их взглядов. Включала внутренний жар, зажигала, заставляла поверить, что она русалка и есть. Но бывало, что улыбалась в зал, а сама думала о морских девах, какими их изнутри знала: не о наивной русалочке, которой сейчас притворялась, а о той, что отреклась от своего языка и от родимого дома – ради бессмертия. Той, что песней могла завлечь корабль на скалы и с лютой яростью наблюдать, как люди плюхаются в пучину и гибнут.
Разумеется, ходила и в номера, когда ее приглашали. Встречалась с актерами из телесериалов, комиками, бейсболистами и даже с тем вертлявым певцом, когда он успел уже выбиться в кинозвезды. Они обнадеживали, но обещаний не выполняли. Самолетов за ней не присылали. Тет-а-тетов с режиссерами не устраивали. Особняка на Беверли-Хиллз не предоставляли. Ей исполнилось тридцать. Тридцать два. Тридцать пять. Что ж, значит, славы ей не видать, поняла она, задувая свечи. Оставался только медлительный балет в холодной воде.
И тут в подводный театр заявилась Салли. Семнадцатилетняя, обожженная солнцем. Она сбежала из дому: хотелось жить! Хотелось чего-то поинтересней, чем молчаливый брат, который по восемнадцать часов в день торчал на своем заводике и являлся домой только поспать. Однако распорядитель русалочьего шоу лишь посмеялся над ней. Худющая, она тянула больше на угря, чем на наяду. Скрестив на груди руки, Салли уселась у него в кабинете на пол. Тогда, чтобы прекратить сидячую забастовку, он подрядил ее продавать хот-доги. И вот посреди представления она вошла с лотком в затемненный амфитеатр и остолбенела перед сверкающей витриной, в которой выступала Антуанетта в красном лифчике и с хвостом. В точке света. В сердцевине луча.
Пылкое внимание Салли устремилось к женщине за стеклом и осталось прикованным к ней – навеки.
Она сделалась на все руки, незаменима. Расшивала блестками парадные хвосты, в которых русалки позировали, научилась дышать через респиратор, чтобы соскребать водорослевый налет с внутренней стороны стекла. И год спустя, когда Антуанетта сидела в подводной гримерке и, согнувшись, скатывала с ног мокрый хвост, Салли подошла к ней и протянула рекламный листок Диснейленда, только что открывшегося в Орландо.
– Ты – Золушка, – прошептала она.
С Антуанеттой во всю жизнь еще не случалось, чтоб ее до такой степени понимали.
– Да! – сказала она.
Так и вышло. Ее упаковали в атласное платье с юбкой на обручах и в циркониевую тиару. На пару с новой подружкой, Салли, она сняла квартирку в апельсиновой роще. В черном бикини, в кроваво-красной помаде на губах Антуанетта загорала себе на балконе, когда Гавейн поднялся по лестнице с наследным креслом-качалкой в руках.
Он заполнил собой дверной проем: шесть футов восемь дюймов ростом, до того заросший, что борода слилась с шевелюрой, и до того одинокий, что женщины чуяли его неприкаянность, когда он проходил мимо. Его считали недалеким, тугодумом, но, когда ему было двадцать, родители погибли в автокатастрофе, оставив его с семилетней сестрой на руках, и он оказался единственным, кто в полной мере осознавал ценность семейного надела. Родительские сбережения он употребил на первоначальный взнос в постройку завода по розливу чистой холодной воды из источника, бьющего на участке. Продавать жителям Флориды то, что принадлежит им по праву рождения, возможно, граничило с аморальностью, но ведь это вполне законный американский способ зарабатывать деньги. Денег он накопил, а тратить не тратил. Но когда желание обзавестись женой совсем допекло, выстроил усадебный дом, обнесенный со всех сторон высокими коринфскими колоннами. Он слышал, что женам нравится, когда много белых колонн. Он ждал. Жены не объявились.
Потом позвонила сестра попросить, чтобы он привез в ее новое обиталище кое-что из родительского дома, и вот он здесь и забыл, как дышать, когда увидел Антуанетту, белолицую и фигуристую. То, что она-то не поняла, кто стоит перед ней, вполне извинительно. Бедный Гавейн с колтуном на голове и в замаранной рабочей одежде. Она коротко улыбнулась ему и улеглась снова под ласковые лучики солнца.
Салли зорко глянула на подругу, на брата – и услышала тот щелчок, с которым все сложилось паз в паз.
– Гавейн, – сказала она, – это Антуанетта. Антуанетта, это мой брат. У него несколько миллионов в банке.
Антуанетта поднялась на ноги, проплыла по комнате, сдвинула на лоб солнечные очки. Гавейн оказался так близко, что смог разглядеть, как ее зрачок поглощает ее радужку, и собственное свое отражение в получившейся черноте.
Спешно устроили свадьбу. Русалки Антуанетты, поблескивая хвостами, со ступеней церкви осыпали новобрачных горстями рыбьего корма. Суровые янки, родня невесты, стойко переносили жару. Для свадебного торта Салли вылепила марципановые фигурки: Гавейн одной рукой держал у себя над головой лежащую на спине Антуанетту – адажио, грандиозный финал шоу русалок.
В течение недели была спешно заказана мебель для дома, наняты слуги, бульдозеры расчистили площадку под бассейн. Благополучное существование обеспечено, денег столько, что непонятно, куда их девать; а все остальное, качеством соответствуя каталогу, Антуанетту устраивало.
Но если комфорт она приняла как должное, то вот любовь явилась сюрпризом. Гавейн покорил ее чистотой сердца и мягкостью обращения. Она принялась за него и, сбрив все лишнее, обнаружила отзывчивое лицо и ласковые губы. В очках в роговой оправе, которые она ему купила, в сшитых на заказ костюмах, он выглядел значительным, если уж не сказать красивым. Преобразившись, он улыбнулся ей через всю комнату. В этот момент искра в ее глазах вспыхнула пламенем.
Десять месяцев спустя случился ураган – сын.
Само собой разумеется, трое взрослых исполнились убеждения, что Лотто – особенный. Золотой.
Гавейн выплеснул на него всю любовь, которую копил столько лет. Дитя как комочек плоти, вылепленный из упований. Гавейн, которого всю жизнь называли тупицей, держа на руках своего сына, ощущал вес гения.
Салли, со своей стороны, занялась домашним хозяйством. Нанимала нянек и увольняла их за то, что они не она. Когда малыш перешел на прикорм, разжевывала банан или авокадо и совала тюрю ему в рот, будто бы он цыпленок.
И Антуанетта, едва получив от него ответную улыбку, все силы обратила на Лотто. На всю громкость включала ему Бетховена, выкрикивая заученные музыкальные термины. Записалась на заочные курсы по ранней американской мебели, греческим мифам, лингвистике – и рефераты свои зачитывала ему целиком. Пусть это измазанное кашкой дитя, на высоком стульчике сидя, воспримет хотя бы малую долю того, чем она его кормит, кто ж знает, что застрянет в детском мозгу?
Если ему суждено стать великим, а она уверена была, что так и есть, основу величия нужно закладывать прямо сейчас.
Поразительная память Лотто проявила себя, когда ему стукнуло два года. Антуанетта была довольна.
[Темный дар; все будет даваться ему легко, а это чревато леностью.]
Как-то раз Салли вечером перед сном прочла ему детское стихотворение, а утром он спустился в столовую, взобрался на стул и громко его прокричал. Гавейн изумленно ему похлопал, Салли вытерла глаза занавеской. «Браво», – холодно произнесла Антуанетта и, стараясь унять дрожь в руке, протянула чашку, чтобы ей налили еще кофе.
Салли стала читать на ночь стихи попространнее, утром мальчик их предъявлял. С каждым успехом в нем крепла уверенность, ощущение, что он идет вверх по невидимой лестнице. Когда служащие завода по разливу воды приехали с женами погостить на длинные выходные, Лотто тишком спустился с верхнего этажа и в темноте заполз под стол, за которым все ужинали. Сидя там, как в пещере, он рассматривал ноги, торчащие из мужских мокасин, и влажные, пастельных цветов ракушки женских трусиков, а потом выскочил, декламируя «Если» Киплинга, чем заслужил бурную овацию. Радость от аплодисментов посторонних людей была омрачена натянутой улыбкой Антуанетты и ее тихим «Отправляйся в постель, Ланселот» вместо похвалы. Она заметила, что он меньше старается, когда она его хвалит. Пуритане хорошо понимают, в чем ценность отсроченного вознаграждения.
Лотто рос в душных испарениях Центральной Флориды, рядом с дикими длинноногими птицами, в изобилии фруктов, которые можно срывать с дерева. С тех пор как выучился ходить, утро он проводил с Антуанеттой, а днем исследовал заросли кустарника, бьющие из песка холодные родники и болота, где аллигаторы, прячась в тростнике, зорко за ним следили. Лотто был маленький взрослый, говорливый и жизнерадостный. Мать еще на год оставила его дома, не пустив в школу, и до первого класса он не знался с другими детьми, поскольку Антуанетта считала себя выше обитателей городка, а дочери управляющего были костлявы и необузданны, и она знала, к чему такое приводит, – нет уж, спасибо.
В доме ему, не ропща, прислуживали: если он бросал полотенце на пол, кто-нибудь да поднимет, если проснулся аппетит в два часа ночи, еда появлялась как по волшебству. Все старались угодить, и Лотто, у которого иных образцов для подражания не было, тоже был рад угождать. Расчесывал волосы Антуанетте, позволял Салли брать себя на руки, даже когда стал почти с нее ростом, и подолгу молча сидел в кабинете с Гавейном, умиротворяясь спокойным добродушием отца и тем, что время от времени тот отпускал шутку, и веселость вспыхивала подобно солнечному лучу, так что все жмурились ослепленно. А Гавейн наполнялся счастьем, просто вспомнив, что на свете есть Лотто.
Однажды ночью, когда Лотто было четыре, Антуанетта вынула его из кроватки. Принесла на кухню, там насыпала в чашку какао-порошок, но воды добавить забыла. Он ел порошок вилкой, выгребал, что прилипнет, и слизывал. Они сидели в темноте. Антуанетта уже год как забросила все заочные курсы в пользу проповедника, вещавшего в телевизоре. На вид тот был как пенопластовый бюст, вырезанный ребенком и раскрашенный акварелью, а жена его сильно подводила глаза и укладывала волосы в вавилоны, которые Антуанетта копировала. Она еще и кассеты с проповедями заказывала, слушала их у бассейна в огромных наушниках через восьмидорожечный магнитофон. Наслушавшись, выписывала чеки на гигантские суммы, которые Салли сжигала в кухонной раковине.
– Дорогой, – прошептала ему той ночью Антуанетта, – мы здесь для того, чтобы спасти твою душу. Знаешь ли ты, что станется с неверующими, такими, как твой отец и твоя тетя, когда придет Судный день?
Дожидаться ответа она не стала. О, она пыталась пролить свет истины на Гавейна и Салли. Страстно хотела оказаться с ними в раю, но они лишь пятились, застенчиво улыбаясь. Что ж, придется им с сыном горестно наблюдать с облаков, как те двое вечно горят внизу. Но Лотто она спасет. Чиркнув спичкой, Антуанетта тихим, дрожащим голосом принялась читать «Откровение». Когда спичка погасла, она, продолжая читать, зажгла другую. Лотто смотрел, как огонь поедает тонкие деревянные палочки. Когда пламя подбиралось к пальцам матери, он чувствовал жар в своих собственных, будто это его обжигает. [Тьма, трубы, морские твари, драконы, ангелы, всадники и многоглазые чудища! на десятки лет они поселятся в его снах.] Он смотрел, как шевелятся красивые губы матери, как закатываются ее глаза.
С тех пор просыпаться он стал с ощущением, что за ним присматривают, наблюдают и непрестанно его судят. Сплошная церковь день напролет. Когда в голову являлись дурные мысли, он делал невинное лицо. Даже наедине с собой притворялся, играл роль, выступал, как на сцене.
Если б жизнь текла так и дальше, Лотто вырос бы обыкновенным умненьким баловнем. Еще один благополучный ребенок с обычными детскими печалями.
Но настал день, когда Гавейн, как по будням бывало, в половине четвертого пришел с работы на перерыв и длинной зеленой лужайкой направился к дому. Жена спала у глубокого края бассейна, раскрыв рот и подставив ладони солнцу. Он осторожно накрыл ее простыней, чтобы не обгорела, и поцеловал в пульс на запястье. На кухне Салли доставала печенье из духовки. Гавейн обошел дом, сорвал мушмулу, покатал кислый плод во рту и уселся на крышку колодца с насосом между кустами гибискуса, откуда видна была грунтовая дорога, и сидел, пока – комарик, букашка, богомол – не показался на велосипеде его сынок.
Это был последний день седьмого класса. Перед Лотто широкой, неспешной рекой растеклось лето. По телику повторят фильмы, которые он пропустил из-за школы, покажут «Придурков из Хаззарда» и «Счастливые дни». По ночам они будут ходить на озера, охотиться на лягушек с острогой. Предвкушение счастья заливало дорогу ликующим светом. Факт того, что у него сын, ошеломлял и сам по себе, но личность сына, какой она вышла на деле, представлялась Гавейну чудом. Сын был благороден, умен и красив, лучше людей, которые его сотворили.
Но внезапно мир сжался, свернулся вокруг его мальчика. Надо же. Невероятно. Все вокруг, почудилось Гавейну, исполнилось той пронзительной ясности, когда виден каждый атом.
Лотто слез с велосипеда, когда увидел отца на старом колодце. Тот похоже что задремал. Странно. Обычно Гавейн не спал днем. Мальчик замер. По стволу магнолии застучал дятел. По ступне отца проскочила ящерка. Лотто уронил велосипед, подбежал, обхватил руками лицо Гавейна и так громко, так истошно позвал его по имени, что, вскинув глаза, увидел, как бежит его мать, эта женщина, которая не бегала никогда, – бежит со всех ног с простыней и вопит на высокой ноте, стремительная, как пикирующая белая птица.
Мир проявился таким, каким был на деле.
Под ногами грозно чернела тьма.
Лотто однажды своими глазами видел, как разверзлась внезапно воронка и земля поглотила старый семейный флигель. Воронки, они повсюду.
Поторапливаясь песчаными тропками меж стволов пекана, он стыл от ужаса сразу и от того, что земля вот-вот уйдет из-под ног и он кувыркнется в черноту, и от того, что этого не случится. Прежние радости утратили свои краски. Аллигатор на болоте, в шестнадцать футов длиной, скормить которому он утаскивал из морозильника замороженных целиком цыплят, сделался просто ящерицей. Разливочный завод – просто еще одной здоровенной машиной.
Весь город видел, как вдову стошнило в азалии и как ее красивый сынок поглаживал мать по спине. Те же высокие скулы, золотисто-рыжие волосы. Красота акцентирует скорбь, бьет прямо в сердце. Хэмлин оплакивал вдову и ее сына, а не грузного Гавейна, своего собрата и соотечественника.
Но рвало ее не только от горя. Антуанетта снова была беременна, ей прописали постельный режим. Месяцами город следил за тем, как подъезжали на шикарных машинах женихи в черных костюмах, с портфелями, следил и гадал, кого же она предпочтет. Кто не захочет себе в жены вдову столь богатую и привлекательную?
Лотто тонул, шел ко дну. Он пытался забросить учебу, но учителя привыкли считать его отличником и в поддавки не играли. Пытался слушать с матерью, держа ее за отекшую руку, религиозные передачи, но Бог его раздражал. Укоренились в памяти только зачатки: притчи, моральная стойкость, стремление к чистоте.
Антуанетта целовала его в ладонь и отпускала, лежа в своей постели, вялая, как морская корова. Ее чувства покоились под землей. На все вокруг она смотрела словно из далекого далека. Толстела себе да толстела. И наконец раскололась, словно огромный плод. Из нее выпало зернышко, крошка Рэйчел.
Когда Рэйчел кричала ночью, Лотто первым вставал к ней, садился в кресло и кормил смесью, покачивая. Она помогла ему пережить первый год, сестричка, которая была голодна, а он обладал возможностью насытить ее.
Физиономия у него покрылась угревой сыпью, прыщами, горячими и пульсирующими под кожей; он перестал быть красавчиком. Наплевать. Девчонки и так из кожи вон лезли, чтобы поцеловаться с ним, то ли из жалости, то ли потому, что богат. Он сосредотачивался на мягких, илистых девичьих ртах (виноградная жвачка и горячий язык) и так избавлялся от ужаса, который в нем обитал. Вечеринки с поцелуями по углам, в парках ночью. Он возвращался домой по темной Флориде, крутя педали быстро, как только мог, стремясь обогнать, опередить печаль, но печаль всегда была прытче и легко овладевала им снова.
Через год и день после смерти Гавейна четырнадцатилетний Лотто спустился на рассвете в столовую. Думал взять с собой пяток сваренных вкрутую яиц, чтобы подзаправиться по пути в город, где его ждала Трикси Дин, родители которой уехали на выходные. В кармане у него лежал баллончик аэрозоля от коррозии, на основе уайт-спирита. Парни в школе сказали, смазка – это важно.
– Милый, у меня новости, – донесся из темноты голос матери.
Он вздрогнул и, включив свет, увидел ее в черном костюме на дальнем конце стола, с зачесанными вверх волосами, коронующими ее, как пламя.
«Бедная Мувва, – подумал он. – Неухоженная какая. Растолстела. Думает, мы не знаем, что она так и сидит на болеутоляющих, которые стала принимать после Рэйчел. Думает, для нас это тайна. Нет».
Несколько часов спустя Лотто стоял на пляже, пытаясь сморгнуть слезы. Мужчины с портфелями были адвокаты, никакие не женихи. Все пошло прахом. Слуг больше нет. Кто будет все делать за них? Усадьба, детство, разливочный завод, бассейн, Хэмлин, где его предки жили века, – все, все пропало.
Призрак отца исчез. Продан за несусветную сумму.
Район, куда они съехали, был, вообще говоря, неплохой, Кресчент-Бич, но домик крошечный, розовый, стоял на сваях над дюнами, как бетонный кубик «лего» на ножках. Внизу все заросло пальмами, и пеликаны плаксиво переговаривались на горячем соленом ветру. Пляж такой, что можно гонять на машине. Пикапы, из которых ревел трэш-метал, прятались в дюнах, но в доме их было слышно.
– Вот это вот? – переспросил он. – Да ты могла бы купить сто миль пляжа, Мувва. Почему мы должны жить в этой коробке? Почему здесь?
– Дешево. Плюс потеря права выкупа, – с улыбкой мученицы произнесла мать. – Деньги ведь не мои, милый. Они твои и твоей сестры. Все в доверительном управлении на ваши имена.
Но что за дело ему до денег? Деньги он ненавидел. [Всю жизнь старался не думать о них, предоставляя другим беспокоиться, а сам считал, что у него и так всего вдоволь.] Деньги не были ни отцом, ни отцовской землей.
– Это кощунство, – сказал Лотто, рыдая от ярости.
Мать взяла в руки его лицо, стараясь не коснуться прыщей.
– Нет, милый, – лучезарно улыбнулась она. – Это свобода.
Лотто злился. Одиноко сидел на песке. Тыкал палками в дохлых медуз. Пил коктейли с замороженным соком у круглосуточного магазинчика при автозаправке на прибрежном шоссе А1А.
А потом подошел за горячей лепешкой тако к киоску, где обедали крутые ребята, он, этот мини-яппи в футболке поло, шортах «мадрас» и туфлях «доксайдерс», хотя нравы тут были такие, что девушки ходили по магазинам в бикини, а парни оставляли рубашки дома, пусть мускулы бронзовеют. В нем уже было шесть футов росту, а в конце июля четырнадцать превратится в пятнадцать. [Он был Лев, что полностью его объясняет.] Локти и коленки в ссадинах, волосы на затылке в вихрах. Несчастная, вся в угрях кожа. Растерянный, сбитый с толку, наполовину осиротевший, он вызывал желание обнять, утешить и приласкать. Девчонки обратили внимание, подкатили, стали спрашивать, как зовут, но он был слишком подавлен, чтобы интересничать, и они отстали.
Он ел сам по себе за столом для пикника. К губе прилипла соринка кинзы, что рассмешило прилизанного мальчика-азиата. Рядом с азиатом девчонка: грива с начесом, глаза подведены стрелками, губы в красной помаде, в бровь вколота английская булавка, а в носу блестит якобы изумруд. Она так в упор пялилась, что у Лотто зазудело в ногах. Стало ясно, хоть он не понял, с чего, что она очень даже по сексу. Рядом с ней сидел толстый мальчик, очкастый, с хитроватым лицом, ее близнец. Азиата звали Майкл, а рьяную девочку – Гвенни. Толстый был у них главным. Его звали Чолли.