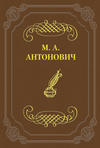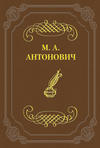Loe raamatut: «Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове»
Добролюбов
В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать.
Для пробной статьи я избрал вот какой сюжет. В то время свирепствовала мания, какое-то поветрие на издание сатирических листков, которые натуживались забавлять и смешить читателей. Во главе их и как образец для подражания стоял «Весельчак», в котором подвизались пресловутый барон Брамбеус (Сенковский) и Львов, автор нашумевшей тогда драмы «Предубеждение». Этот журнал приобрел себе известность только следующим четверостишием-эпиграммой на Панаева, писавшего в «Современнике» фельетоны под рубрикой «Заметки Нового поэта»:
Близ селенья речка,
А на речке мост.
На мосту овечка,
У овечки хвост.
Автором четверостишия подписался «Новый поэт», который просил не смешивать его с Новым поэтом в «Современнике». На это Панаев отвечал таким тоже четверостишием:
Близ селения кабак,
В кабаке же «Весельчак»
Бранит всех без исключенья,
Не пришедших в умиленье
От его «Предубежденья».
Вслед за «Весельчаком» появилось множество подобных увеселительных листков, и периодических и разовых: «Смех», «Смех под хреном», «Смех и горе» и т. п. Некоторые из этих листков даже не назначали себе цены, а печатали: «Что пожалуете бедному издателю», – что хотите, то и опустите в кружку продавца листка. Довольно полный список этих листков приведен в статье Добролюбова «Уличные листки»2. Как будто нарочно и для контраста, в прессе той сферы, в которой я учился и вращался, господствовало противоположное, плаксивое настроение: здесь и в устных проповедях и в писаниях были постоянные разглагольствования об оскудении в последнее время веры и упадке нравственности и о том, что нужно непрестанно каяться во грехах, сокрушаться и плакать.
Вот я и вздумал изобразить эти два противоположные течения, эти два типа смеющихся и плачущих: сделал множество пикантных сопоставлений в виде борьбы между ними, привел множество выдержек об одинаковых сюжетах, но с противоположным содержанием. Одни говорили: постоянно нужно смеяться, а другие проповедовали: нужно непрестанно плакать. Вышла большущая статья, листа на три печатных. Со страхом и трепетом я понес ее в контору «Современника» для передачи в редакцию. В лихорадке и с замиранием сердца, которое, вероятно, испытывал всякий пробовавший выступать в печать, я ждал рокового для меня ответа, от которого зависела моя судьба. И вот ответ пришел. Не читая его, я прежде всего бросился на подпись; оказалось, ответ подписан Добролюбовым, и я так и замер от опасений и страха; такой неумолимо строгий судья, такой беспощадный критик, – наверное, погибло мое первое писательское создание! Мои опасения оправдались: Добролюбов писал, что статья никоим образом не может быть напечатана, хотя в ней есть места недурные, которыми можно было бы воспользоваться в статье совсем другого типа и характера, чем моя, и в заключение приглашал меня явиться к нему и назначал место и время свидания3. Все пропало, думал я в отчаянии: моя проба оказалась неудачной, и меня приглашают только затем, чтобы возвратить статью. Но, с другой стороны, мелькал и некоторый луч надежды, так как все-таки хоть некоторые места в статье признаны были достойными печати, хотя, может быть, и это написано только для моего утешения.
В лихорадочном волнении и колебании между страхом и надеждою я отправился к Добролюбову. Он принял меня без всяких церемоний и чрезвычайно запросто, как будто давнишнего короткого знакомого или товарища. Самым добродушным, даже приятельским тоном он сказал мне, что моя статья есть махинище более трех печатных листов, что ее могут осилить и вполне понять и оценить только читатели моего круга, академисты и семинаристы, а обыкновенным, заурядным читателям она не под силу и не будет для них интересна, но некоторыми местами статьи можно было бы воспользоваться4, и если я дам согласие, то он и воспользуется ими, но даст им совершенно другую обстановку. Затем он участливо стал расспрашивать меня о моем внешнем положении, о моих планах и намерениях, о том, к чему я чувствую особенное влечение, и какая отрасль знания мне нравится и более известна. Он убеждал меня не смущаться не совсем удачной первой пробой и продолжать писать для печати. «Только бросьте, – говорил он, – ваших плачущих и смеющихся, а берите какие-нибудь более серьезные и более общие темы и пишите о них, и я уверен, что следующие ваши пробы будут более удачны. Во всяком случае, – сказал он в заключение нашего свидания, – непременно приходите ко мне вечером в такие-то дни». Темы для статьи я никак не мог найти, но к Добролюбову ходил неупустительно в назначенные дни. Он вел со мною длинные разговоры о всевозможных предметах и теоретических и практических и на темы из самых разнообразных областей знания и жизни. Очевидно, что эти разговоры были для меня чем-то вроде экзамена.