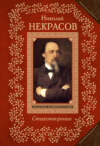Loe raamatut: «Стихотворения»
Цвет ледяной Цветаевской розы
Эренбург рассказывал, что, когда он с ней познакомился, Марине Цветаевой было двадцать пять лет. Его в ней поразило странное сочетание надменности и горделивости: «осанка была горделивой – голова, откинутая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие – Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским пареньком. Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи; некоторые мне нравились, особенно одно, написанное за год до революции, где Марина говорила о своих будущих похоронах».
Я люблю это стихотворение. Оно о Пасхе.
Настанет день – печальный, говорят!
Отцарствуют, отплачут, отгорят,
– Остужены чужими пятаками —
Мои глаза, подвижные как пламя.
И – двойника нащупавший двойник —
Сквозь легкое лицо проступит лик.
Так написала Цветаева. 11 апреля 1916. Я с юности помню это стихотворение наизусть. В нем есть первая апрельская подсохшая пыль, сухие еще ветки деревьев (или тут со мной играет шутки еще непеременённый календарь? и никаких там апрельских веток еще не было?), весенняя быстротекущая вечность, ощущение на монетном ребре остановившегося времени. Куда упадет монетка?
Но монетка всегда падает орлом.
О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!
А издали – завижу ли и Вас? —
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.
На ваши поцелуи, о, живые,
Я ничего не возражу – впервые.
Меня окутал с головы до пят
Благообразия прекрасный плат.
Ничто меня уже не вгонит в краску,
Святая у меня сегодня Пасха.
Я люблю Пасху. Не ту официальную, нынешнюю, а ту, детскую, не запрещенную, но и не особенно разрешенную. Скажем так, незамеченную. Я атеист, но Пасха мне кажется самым сильным, нежным и нужным праздником. Который всегда про то, чего и не свете этом нет. Про то, что все мы вернёмся, всё всем простим, покатимся, как цветное яичко, и не разобьёмся. Который про то, что смерти нет. Как и той мышки, которая пробежит мимо нас и заденет хвостиком, а мы – раз, и разбились.
Нет ни смерти, ни мышки, ни хвостика. А мы есть. И как будто бы навсегда. Об этом как будто многие стихи Цветаевой… Но вернемся к Эренбургу:
«Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись, доверчиво, зашептала:
Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лилий полны объятья,
И ты без мысли глядишь…
Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой – Але – было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины – она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов».
Так Эренбург написал 22 августа 1917 года. А я сейчас в 2019 захожу в угловой магазин и принимаю участие в совершенно цветаевском разговоре.
Еще при входе заметил, что продавщица восточной внешности, она же кассирша, заплаканная, говорит по телефону. Когда взял продукты, подошел к кассе.
– Вы расстроены чем-то? – спросил.
– Кем-то. Мужем, – неожиданно откровенно отвечает она. – Он не работает, а деньги тянет. Но я больше не дам.
Я выкладываю на прилавок пакет кефира и хлеб:
– Может, вам развестись?
– Да мы уже в разводе.
Я не знаю, что сказать. Мне было ее жалко, но чужую беду руками разведу, а тут еще этот неуместный кефир.
– Ну вы не плачьте так. Пройдет всё. Время лечит. (Да, так и сказал эту пошлость: время лечит.)
– Да, время всё лечит, – вдруг согласилась она.
И тогда я вспоминаю цветаевское стихотворение о том, что ничего на самом деле время не лечит. Мое самое любимое у нее. «Тебе – через сто лет».
К тебе, имеющему быть рожденным
Столетие спустя, как отдышу, —
Из самых недр – как на смерть осужденный,
Своей рукой пишу…
Там, в этом стихотворении, есть строчки про розовое. Розовое платье:
Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятье
Моим друзьям во мглу могил:
– Все восхваляли! Розового платья
Никто не подарил!
…райский розовый цвет, цвет бледного кизила, цвет ситцевой розы, цвет попурри, цвет взбитого персика (так и написано в таблице оттенков), цвет вечернего песка, лососевый цвет, сладкий лиловый оттенок, цвет ледяной розы, цвет омарового супа, шокирующий розовый цвет. Их много.
Какой из этих цветов хотела Цветаева, написавшая: «Все восхваляли? Розового платья никто не подарил»? Не знаю.
Потому что на самом деле Цветаева нежно-розового почти не носила: она запомнилась кому-то из ее видевших «бежевой».
Со мной в руке – почти что горстка пыли —
Мои стихи! – я вижу: на ветру
Ты ищешь дом, где родилась я – или
В котором я умру.
На встречных женщин – тех, живых, счастливых, —
Горжусь, как смотришь, и ловлю слова:
– Сборище самозванок! Всё мертвы вы!
Она одна жива!
А вот из совсем другого стихотворения:
Если б только не холод крайний,
Замыкающий мне уста,
Я бы людям сказала тайну:
Середина любви – пуста.
Строчка про розовое платье написана в 1919-м, а вышеприведенные в 1924-м. Правда, в 1939-м Цветаева эти строчки из «Посвящения» убрала. «Поэма Горы» (как, впрочем, и «Поэма Конца»), рассказывающая про разрыв с тогдашним ее возлюбленным и любовником Константином Родзевичем, была переписана Цветаевой для литературоведа Евгения Тагера, к которому она тоже была неравнодушна. Почему вылетела строфа, мне неизвестно.
Платье, впрочем, мелькнет еще один раз. «Цветом омарового супа». Цветаева будет в одном письме к приятелю утверждать, что подарила невесте Родзевича свадебное платье. Вряд ли розовее. Но подарила. «Кстати знаете ли Вы, что мой герой «Поэмы Конца» женится, наверное, уже женился. Подарила невесте свадебное платье (сама передала его ей тогда с рук на руки, – не платье! – героя)».
Впрочем, бедная невеста (из смертных, из нас, женщина простая, без божеств) этот факт опровергает. Зато свидетельствует, что ей было очень неприятно найти, уже после их свадьбы, в кармане мужа пламенную призывную записку от Цветаевой. «Она всегда так поступала. Противно даже!»
А Родзевичу, наверно, нет: было даже смешно. Он был человеком красивым, изящным, чем-то напоминал Андрея Болконского: «ироничный, мужественный, даже жестокий. К Марине он большого чувства не питал, он её стихов не ценил и даже, вероятно, не читал».
…цвет лилово-древесный, вересковый цвет, цвет пепел розы.
А она, Марина Иванна, как сгоревшая роза, всё твердит и твердит о своем, ссорится, доказывает, упрекает.
Как живётся вам с другою, —
Проще ведь? – Удар весла! —
Линией береговою
Скоро ль память отошла
Обо мне, плавучем острове
(По́ небу – не по водам!)
Души, души! – быть вам сестрами,
Не любовницами – вам!
Память отошла скоро. Жизнь Родзевича после разрыва с Цветаевой сложилась более чем ярко. Ариадна Эфрон про Родзевича сказала более чем ярко: он имел «мотыльковую сущность и железобетонную судьбу». Судьба его была действительно сперва железобетонной, потом странно мягкой, как вязаные носки.
Родзевич воевал в составе интербригад в Гражданской войне в Испании, был участником французского Сопротивления во время Второй мировой, попал в нацистский концлагерь, после войны жил в Париже, занимался резьбой по дереву (последнее удивительно звучит в общем ряду), кто-то даже утверждал, что он был и агентом советской разведки. Умер же Родзевич на 93-м году жизни в доме престарелых под Парижем.
…цвет розового облака, цвет ледяной клубники, легкий лунно-лиловый оттенок, цвет восхитительной розы, цвет розового фламбе. Я перечитываю эти оттенки розового в таблице, и мне почему-то Цветаеву очень жаль. Всё не о ней, всё не про нее. Если, может быть, только в самом конце строки – но уже в ином смысле, в «инаком»:
…цвет малинового шербета, цвет цветка кактуса, шокирующий розовый цвет.
Монетка падает орлом, и жизнь легкой не получается. Никакого благообразного плата. Никакого розового цвета вереска, одна тоска и метания.
Когда, уже вернувшись в СССР, Цветаева встречается в одном из коридоров с молодым Арсением Тарковским, она в него влюбляется и это история ее любви такая же болезненная, как и все ее последние любовные истории. Однажды она уверяет Тарковского, что видела лицо его жены, прильнувшее к ее окну на седьмом этаже. (Какая-то Гела из еще даже не изданного романа Булгакова.) Тарковский пытается ее образумить: «Марина Ивановна, подумайте, что вы говорите!»
Но Цветаева уверена в ночном видении.
В другой раз Цветаева звонит Тарковскому в два часа ночи и сообщает, что у нее оказался его платок. Какой платок? Зачем по этому поводу звонить в два часа ночи? Нет, она должна его вернуть. Немедленно. Говорит очень настоятельно. Тарковский, конечно, в ужасе.
Именно после этого у двух поэтов возникнет в стихах перекличка, точнее: Цветаева их такими стихами-перекличкой своей волей сделала.
Есть знаменитое теперь стихотворение Тарковского «Стол накрыт на шестерых», к которому Цветаева написала свой теперь не менее знаменитый ответ:
Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:
– «Я стол накрыл на шестерых»…
Ты одного забыл – седьмого.
Невесело вам вшестером.
На лицах – дождевые струи…
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть – седьмую…
Меня всегда поражал этот ее парафраз. Человек показывает свой домашний альбом, где есть фотография его самых родных людей, некоторые из них мертвы, а в комнату входит гостья, утверждающая, что всем невесело, упрекает хозяина, что на фотографии нет ее, и вдруг быстрым движением вклеивает свою фотографию (лицо или силуэт) в эту полупоминальную фотографию. И еще раз упрекает.
Но от этого ни изначальное стихотворение, ни стихотворение-ответка не становятся менее гениальными. Гениальность вообще не очень добра. И тут никто никого не собирается утешать. «Бог не сентиментален», – написала одна питерская поэтесса. Настоящие стихи – тоже.
Перед вами сборник стихов Марины Цветаевой, в котором не будет сентиментальности, а только один Бог. Бог яростной попытки быть понятой и услышанной (может быть, именно в такой обратной последовательности), бог запрещенного приема, бог ледяной розы и монетки, навсегда вставшей на ребро.
Дмитрий Воденников
Стихотворения
«Моим стихам, написанным так рано…»
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
– Нечитанным стихам!
Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
Коктебель,13 мая 1913
«Вы, идущие мимо меня…»
Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром,
И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох…
– И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!
О летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале…
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы – если б знали —
Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.
17 мая 1913
«Уж сколько их упало в эту бездну…»
Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все – как будто бы под небом
И не было меня!
Изменчивой, как дети, в каждой мине
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой,
Виолончель и кавалькады в чаще,
И колокол в селе…
– Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!
– К вам всем, – что мне, ни в чем
Не знавшей меры,
Чужие и свои?!
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне так часто – слишком грустно
И только двадцать лет,
За то, что мне – прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,
За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру…
– Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру.
8 декабря 1913
Генералам двенадцатого года
Сергею
Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след —
Очаровательные франты
Минувших лет.
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера.
Вам все вершины были малы
И мягок – самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!
* * *
Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,
И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена…
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна.
О, как – мне кажется – могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать – и гривы
Своих коней.
В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век…
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.
Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы все могли.
Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие.
Феодосия, 26 декабря 1913
П. Э
1
День августовский тихо таял
В вечерней золотой пыли.
Неслись звенящие трамваи,
И люди шли.
Рассеянно, как бы без цели,
Я тихим переулком шла.
И – помнится – тихонько пели
Колокола.
Воображая Вашу позу,
Я все решала по пути;
Не надо – или надо – розу
Вам принести.
И все приготовляла фразу,
Увы, забытую потом. —
И вдруг – совсем нежданно! – сразу! —
Тот самый дом.
Многоэтажный, с видом скуки…
Считаю окна, вот подъезд.
Невольным жестом ищут руки
На шее – крест.
Считаю серые ступени,
Меня ведущие к огню.
Нет времени для размышлений.
Уже звоню.
Я помню точно рокот грома
И две руки свои, как лед.
Я называю Вас. – Он дома,
Сейчас придет.
* * *
Пусть с юностью уносят годы
Все незабвенное с собой. —
Я буду помнить все разводы
Цветных обой.
И бисеринки абажура,
И шум каких-то голосов,
И эти виды Порт-Артура,
И стук часов.
Миг, длительный по крайней мере —
Как час. Но вот шаги вдали.
Скрип раскрывающейся двери —
И Вы вошли.
* * *
И было сразу обаянье.
Склонился, королевски-прост. —
И было страшное сиянье
Двух темных звезд.
И их, огромные, прищуря,
Вы не узнали, нежный лик,
Какая здесь играла буря —
Еще за миг.
Я героически боролась.
– Мы с Вами даже ели суп! —
Я помню заглушенный голос
И очерк губ.
И волосы, пушистей меха,
И – самое родное в Вас! —
Прелестные морщинки смеха
У длинных глаз.
Я помню – Вы уже забыли —
Вы – там сидели, я – вот тут.
Каких мне стоило усилий,
Каких минут —
Сидеть, пуская кольца дыма,
И полный соблюдать покой…
Мне было прямо нестерпимо
Сидеть такой.
Вы эту помните беседу
Про климат и про букву ять.
Такому странному обеду
Уж не бывать.
Вполоборота, в полумраке
Смеюсь, сама не ожидав:
«Глаза породистой собаки,
– Прощайте, граф».
* * *
Потерянно, совсем без цели,
Я темным переулком шла.
И, кажется, уже не пели —
Колокола.
17 июня 1914
6
Осыпались листья над Вашей могилой,
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы всё-таки мой.
Смеетесь! – В блаженной крылатке
дорожной!
Луна высока.
Мой – так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.
Опять с узелком подойду утром рано
К больничным дверям.
Вы просто уехали в жаркие страны,
К великим морям.
Я Вас целовала! Я Вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала —
Домой.
Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И, если для целого мира Вы мертвый,
Я тоже мертва.
Я вижу, я чувствую, – чую Вас всюду!
– Что ленты от Ваших венков! —
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!
Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
– Письмо в бесконечность. – Письмо в
беспредельность —
Письмо в пустоту.
4 октября 1914
7
Милый друг, ушедший дальше, чем за море!
Вот Вам розы – протянитесь на них.
Милый друг, унесший самое, самое
Дорогое из сокровищ земных.
Я обманута, и я обокрадена, —
Нет на память ни письма, ни кольца!
Как мне памятна малейшая впадина
Удивленного – навеки – лица.
Как мне памятен просящий и пристальный
Взгляд – поближе приглашающий сесть,
И улыбка из великого Издали, —
Умирающего светская лесть…
Милый друг, ушедший в вечное плаванье,
– Свежий холмик меж других бугорков! —
Помолитесь обо мне в райской гавани,
Чтобы не было других моряков.
5 июня 1915
Анне Ахматовой
Узкий, нерусский стан —
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.
Вас передашь одной
Ломаной черной линией.
Холод – в весельи, зной —
В Вашем унынии.
Вся Ваша жизнь – озноб,
И завершится – чем она?
Облачный – темен – лоб
Юного демона.
Каждого из земных
Вам заиграть – безделица!
И безоружный стих
В сердце нам целится.
В утренний сонный час,
– Кажется, четверть пятого, —
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.
11 февраля 1915
«Мне нравится, что вы больны не мной…»
Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!
Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня – не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, —
За то, что вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не вами!
3 мая 1915
«Заповедей не блюла, не ходила к причастью…»
Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
– Видно, пока надо мной не пропоют
литию, —
Буду грешить – как грешу: со страстью!
Господом данными мне чувствами —
всеми пятью!
Други! – Сообщники! – Вы, чьи наущенья —
жгучи!
– Вы, сопреступники! – Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, —
Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!
26 сентября 1915
«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!..»
Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем – поэты, любовники, полководцы?
Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.
3 октября 1915
«Два солнца стынут – о Господи, пощади!..»
Два солнца стынут – о Господи, пощади! —
Одно – на небе, другое – в моей груди.
Как эти солнца – прощу ли себе сама? —
Как эти солнца сводили меня с ума!
И оба стынут – не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.
6 октября 1915
«Цветок к груди приколот…»
Цветок к груди приколот,
Кто приколол – не помню.
Ненасытим мой голод
На грусть, на страсть, на смерть.
Виолончелью, скрипом
Дверей и звоном рюмок,
И лязгом шпор, и криком
Вечерних поездов,
Выстрелом на охоте
И бубенцами троек —
Зовете вы, зовете
Нелюбленные мной!
Но есть еще услада:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо —
И выстрелит в упор.
22 октября 1915
«Цыганская страсть разлуки!..»
Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь – уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки
И думаю, глядя в ночь:
Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.
Октябрь 1915
«Полнолунье, и мех медвежий…»
Полнолунье, и мех медвежий,
И бубенчиков легкий пляс…
Легкомысленнейший час! – Мне же
Глубочайший час.
Умудрил меня встречный ветер,
Снег умилостивил мне взгляд,
На пригорке монастырь светел
И от снега – свят.
Вы снежинки с груди собольей
Мне сцеловываете, друг,
Я на дерево гляжу, – в поле
И на лунный круг.
За широкой спиной ямщицкой
Две не встретятся головы.
Начинает мне Господь – сниться,
Отоснились – Вы.
27 ноября 1915
Из цикла «ПОДРУГА»
2
Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? —
Кто побежден?
Все передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь.
В том, для чего не знаю слова,
Была ль любовь?
Кто был охотник? – Кто – добыча?
Все дьявольски – наоборот!
Что понял, длительно мурлыча,
Сибирский кот?
В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чье сердце – Ваше ли, мое ли
Летело вскачь?
И все-таки – что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?
23 октября 1914
3
Сегодня таяло, сегодня
Я простояла у окна.
Взгляд отрезвленней, грудь свободней,
Опять умиротворена.
Не знаю, почему. Должно быть,
Устала попросту душа,
И как-то не хотелось трогать
Мятежного карандаша.
Так простояла я – в тумане —
Далекая добру и злу,
Тихонько пальцем барабаня
По чуть звенящему стеклу.
Душой не лучше и не хуже,
Чем первый встречный – этот вот, —
Чем перламутровые лужи,
Где расплескался небосвод,
Чем пролетающая птица
И попросту бегущий пес,
И даже нищая певица
Меня не довела до слез.
Забвенья милое искусство
Душой усвоено уже.
Какое-то большое чувство
Сегодня таяло в душе.
24 октября 1914
4
Вам одеваться было лень,
И было лень вставать из кресел.
– А каждый Ваш грядущий день
Моим весельем был бы весел.
Особенно смущало Вас
Идти так поздно в ночь и холод.
– А каждый Ваш грядущий час
Моим весельем был бы молод.
Вы это сделали без зла,
Невинно и непоправимо.
– Я Вашей юностью была,
Которая проходит мимо.
25 октября 1914
5
Сегодня, часу в восьмом,
Стремглав по Большой Лубянке,
Как пуля, как снежный ком,
Куда-то промчались санки.
Уже прозвеневший смех…
Я так и застыла взглядом:
Волос рыжеватый мех,
И кто-то высокий – рядом!
Вы были уже с другой,
С ней путь открывали санный,
С желанной и дорогой, —
Сильнее, чем я – желанной.
– Oh, je n’en puis plus, j’etouffe!1 —
Вы крикнули во весь голос,
Размашисто запахнув
На ней меховую полость.
Мир – весел и вечер лих!
Из муфты летят покупки…
Так мчались Вы в снежный вихрь,
Взор к взору и шубка к шубке.
И был жесточайший бунт,
И снег осыпался бело.
Я около двух секунд —
Не более – вслед глядела.
И гладила длинный ворс
На шубке своей – без гнева.
Ваш маленький Кай замерз,
О Снежная Королева.
26 октября 1914
7
Как весело сиял снежинками
Ваш – серый, мой – соболий мех,
Как по рождественскому рынку мы
Искали ленты ярче всех.
Как розовыми и несладкими
Я вафлями объелась – шесть!
Как всеми рыжими лошадками
Я умилялась в Вашу честь.
Как рыжие поддевки – парусом,
Божась, сбывали нам тряпье,
Как на чудных московских барышень
Дивилось глупое бабье.
Как в час, когда народ расходится,
Мы нехотя вошли в собор,
Как на старинной Богородице
Вы приостановили взор.
Как этот лик с очами хмурыми
Был благостен и изможден
В киоте с круглыми амурами
Елисаветинских времен.
Как руку Вы мою оставили,
Сказав: «О, я ее хочу!»
С какою бережностью вставили
В подсвечник – желтую свечу…
– О, светская, с кольцом опаловым
Рука! – О, вся моя напасть! —
Как я икону обещала Вам
Сегодня ночью же украсть!
Как в монастырскую гостиницу
– Гул колокольный и закат —
Блаженные, как имянинницы,
Мы грянули, как полк солдат.
Как я Вам – хорошеть до старости —
Клялась – и просыпала соль,
Как трижды мне – Вы были в ярости! —
Червонный выходил король.
Как голову мою сжимали Вы,
Лаская каждый завиток,
Как Вашей брошечки эмалевой
Мне губы холодил цветок.
Как я по Вашим узким пальчикам
Водила сонною щекой,
Как Вы меня дразнили мальчиком,
Как я Вам нравилась такой…
Декабрь 1914
10
Могу ли не вспомнить я
Тот запах White-Rose2 и чая,
И севрские фигурки
Над пышащим камельком…
Мы были: я – в пышном платье
Из чуть золотого фая,
Вы – в вязаной черной куртке
С крылатым воротником.
Я помню, с каким вошли Вы
Лицом – без малейшей краски,
Как встали, кусая пальчик,
Чуть голову наклоня.
И лоб Ваш властолюбивый
Под тяжестью рыжей каски,
Не женщина и не мальчик, —
Но что-то сильней меня!
Движением беспричинным
Я встала, нас окружили.
И кто-то в шутливом тоне:
«Знакомьтесь же, господа».
И руку движеньем длинным
Вы в руку мою вложили,
И нежно в моей ладони
Помедлил осколок льда.
С каким-то, глядевшим косо,
Уже предвкушая стычку, —
Я полулежала в кресле,
Вертя на руке кольцо.
Вы вынули папиросу,
И я поднесла Вам спичку,
Не зная, что делать, если
Вы взглянете мне в лицо.
Я помню – над синей вазой —
Как звякнули наши рюмки.
«О, будьте моим Орестом!»,
И я Вам дала цветок.
С зарницею сероглазой
Из замшевой черной сумки
Вы вынули длинным жестом
И выронили – платок.
28 января 1915
11
Все глаза под солнцем – жгучи,
День не равен дню.
Говорю тебе на случай,
Если изменю:
Чьи б ни целовала губы
Я в любовный час,
Черной полночью кому бы
Страшно ни клялась, —
Жить, как мать велит ребенку,
Как цветочек цвесть,
Никогда ни в чью сторонку
Глазом не повесть…
Видишь крестик кипарисный?
– Он тебе знаком —
Все проснется – только свистни
Под моим окном.
22 февраля 1915
12
Сини подмосковные холмы,
В воздухе чуть теплом – пыль и деготь.
Сплю весь день, весь день смеюсь, —
должно быть,
Выздоравливаю от зимы.
А иду домой возможно тише:
Ненаписанных стихов – не жаль!
Стук колес и жареный миндаль дороже
Всех четверостиший.
Голова до прелести пуста,
Оттого что сердце – слишком полно!
Дни мои, как маленькие волны,
На которые гляжу с моста.
Чьи-то взгляды слишком уж нежны
В нежном воздухе едва нагретом…
Я уже заболеваю летом,
Еле выздоровев от зимы.
13 марта 1915
13
Повторю в канун разлуки,
Под конец любви,
Что любила эти руки
Властные твои
И глаза – кого-кого-то
Взглядом не дарят! —
Требующие отчета
За случайный взгляд.
Всю тебя с твоей треклятой
Страстью – видит Бог! —
Требующую расплаты
За случайный вздох.
И еще скажу устало,
– Слушать не спеши! —
Что твоя душа мне встала
Поперек души.
И еще тебе скажу я:
– Все равно – канун! —
Этот рот до поцелуя
Твоего был юн.
Взгляд – до взгляда – смел и светел,
Сердце – лет пяти…
Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути.
28 апреля 1915
15
Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать – куда Вам путь
И где пристанище.
Я вижу: мачта корабля,
И Вы – на палубе…
Вы – в дыме поезда… Поля
В вечерней жалобе…
Вечерние поля в росе,
Над ними – вороны…
– Благословляю Вас на все
Четыре стороны!
3 мая 1915
17
Вспомяните: всех голов мне дороже
Волосок один с моей головы.
И идите себе… – Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.
Разлюбите меня, все разлюбите!
Стерегите не меня поутру!
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.
6 мая 1915
Tasuta katkend on lõppenud.