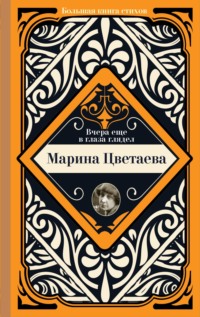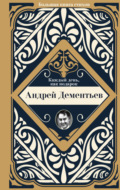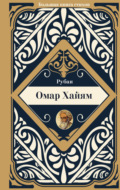Loe raamatut: «Вчера еще в глаза глядел»
сост. и предисл. Е. В. Толкачевой
© Е. В. Толкачева, составление, предисловие, 2022
© И. А. Дмитренко, иллюстрации, 2022
© Издательство АСТ, 2022
«Мне имя – Марина»
Свое предназначение в жизни Марина Цветаева почувствовала рано и никогда не мучилась раздумьями, подобно лермонтовскому Печорину: «Зачем я жил, для какой цели я родился? А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому, что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал своего назначения…» Она – угадала, и не без юношеского эгоцентризма и тщеславия заявляла об этом:
«Я не знаю женщины, талантливее себя к стихам. – Нужно бы сказать – человека.
Я смело могу сказать, что могла бы писать и писала бы как Пушкин, если бы не какое-то отсутствие плана, группировки – просто полное неимение драматических способностей. “Евгений Онегин” и “Горе от ума” – вот вещи вполне à ma portée1…
“Второй Пушкин” или “первый поэт-женщина” – вот чего я заслуживаю и м.б. дождусь и при жизни…
В своих стихах я уверена непоколебимо…»
А годом раньше облекла эти мысли и в поэтическую форму:
Пушкин! – Ты знал бы по первому взору,
Кто у тебя на пути.
И просиял бы, и под руку в гору
Не предложил мне идти.
Так Цветаева сразу стала говорить о себе как о поэте, а не как о поэтессе… И – предсказала свое будущее. Счастья себе не пророчила, а вот непонимания от современников ждала:
Вы можете – из-за других —
Моих не видеть глаз,
Не слепнуть на моем огне,
Моих не чуять сил…
……………………………
Но помните, что будет суд,
Разящий, как стрела,
Когда над головой блеснут
Два пламенных крыла.
Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября 1892 года. Мать решила, что дочь должна быть музыкантшей, и через несколько лет начала учить ее музыке. Примерно тогда же в своем дневнике она отметила: «4-летняя моя Маруся ходит вокруг меня и складывает слова в рифмы». Тем не менее, когда Муся (так ее называли домашние) научилась свои стихи записывать, бумагу ей мать не давала. Но она забыла, что в доме есть обои, много обоев. Пришлось бумагу дать.
Один из первых опытов девочки как-то прозвучал в семейном кругу:
Ты лети, мой конь ретивый,
Чрез моря и чрез луга
И, потряхивая гривой,
Отнеси меня туда!
Возник справедливый вопрос «куда?» и всеобщий смех. Ответ пунцового, как пион, ребенка, еле сдерживающего рыдания: «Туда – далёко! Туда – туда!»
Пройдет время, и Марина Цветаева, известный поэт, ответит на этот вопрос более определенно в своей поэме «На Красном Коне»: с земли – в царствие небесное.
Не случайным представляется этот конфликт бытия земного и небесного, возникший еще в самых первых авторских сборниках. Сама жизнь подсказала его. В своей семье Марина чувствовала себя одинокой и мало любимой: в доме на всем лежала печать прошлых несчастий взрослых и как следствие – их полного отчуждения. Мать, Мария Александровна Мейн, замечательная пианистка, удивительно талантливая женщина, знавшая четыре языка, прекрасно рисовавшая, заполняла музыкой свою печаль о любимом, некоем С.Э., за которого ей не разрешили выйти замуж; замуж пришлось выйти за вдовца с двумя детьми, а любовь к С.Э. она сохранила на всю жизнь. Отец, Иван Владимирович Цветаев, – уважаемый профессор, классический филолог, основатель Музея изобразительных искусств, потеряв первую супругу, красивую женщину, певицу, дочь историка Д. И. Иловайского, остался верен ее памяти до конца своих дней, чем уязвлял самолюбие второй жены. Так у каждого на сердце была своя рана, жизни шли рядом, не сливаясь. Мать много времени отдавала дочерям, Асе и Мусе, учила их немецкому, французскому, знакомила с шедеврами мировой литературы, часто в оригинале, очень много играла на рояле – произведения Шумана, Бетховена, Гайдна, Шопена… Отсюда – увлечение Марины романтизмом и осознание в себе музыки как второй «линии жизни».
А какая первая? Слова. «…мне хочется Прометеева огня. “Это громкие слова”, скажете Вы. Пусть громкие слова! Громкие красивые слова выражают громкие, дерзкие мысли. Я безумно люблю слова, их вид, их звук, их переменность, их неизменность. Ведь слово – всё! За свободное слово умирали Джиордано Бруно, умер раскольник Аввакум, за свободное слово, за простор, за звук слова “свобода”, умерли они». Свобода, произведения романтиков с их трагической нотой в основе и в то же время «крест несчастной женской доли» в родной семье в итоге привели ее к мыслям о самоубийстве. И в отроческие годы Цветаева несколько раз пытается его совершить. Но «судьба ее хранила». Миру должен был явиться поэт. И в 1910 году Цветаева выпускает свой первый лирический сборник – «Вечерний альбом», на который получает благожелательные отзывы. Знакомится с одним из рецензентов – Максимилианом Волошиным. Знакомству суждено было стать для нее во всех отношениях знаковым. «Все, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда». В частности, он, собиратель уникальной библиотеки, открыл ей новые литературные горизонты, увлек своим мифотворчеством, даром «творить встречи и судьбы».
Коктебельской весной 1911 года, в доме у Волошина, произошла знаменательная встреча.
«– Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.
– Марина!.. влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)… булыжник, ты совершенно искренно поверишь, что это твой любимый камень!
– Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!»
И чуть ли не в первый день знакомства семнадцатилетний Сергей Эфрон (инициалы С.Э.) «отрыл» и вручил ей сердоликовую бусину, которую потом она хранила всю жизнь. Казалось бы, счастливый брак, но – их жизни шли рядом: у каждого своя. Хотя любовь, единственная настоящая любовь, и была отдана друг другу. Это – в реальном земном мире. А в творческом она жила иначе, там царили другие герои и героини, необходимые ей как «впечатления» для создания лирических и прозаических текстов. Так творился миф, потому что «всё – миф, не-мифа – нет, вне-мифа – нет».
В семнадцать лет она воскликнула: «Я жажду сразу – всех дорог». Дорогу, понятно, выбрала одну, а все остальные, о которых тогда мечтала, воплотила в своих стихах: чувствуются в них и цыганская разбойная удаль, и переживания за мужа-белогвардейца и своих детей, появляются амазонки и гадает-ворожит колдунья (читай: Марина Цветаева, так как вся ее лирика монологична, а в стихах, кому бы они ни были посвящены, главное действующее лицо – она сама). И хотелось ей еще,
Чтоб был легендой – день вчерашний,
Чтоб был безумьем – каждый день.
Собственно, так и вышло. Недаром позже она признавалась: «Я не себя боюсь. Я своих стихов боюсь».
Юность Цветаевой проходит довольно насыщенно, если не сказать бурно. У нее рождается дочь Ариадна; они с Сережей находят дом в Москве с удивительной планировкой комнат – совсем под стать своей хозяйке; сама Цветаева, издав к тому времени три стихотворных сборника, начала «выходить на публику», печататься в альманахах. Она побывала в Петербурге, который принес ей встречу с Осипом Мандельштамом, Михаилом Кузминым, Сергеем Есениным… Мечтала повидать в те дни своих «северных» кумиров – Анну Ахматову и Александра Блока, но – не сложилось. Зато с Мандельштамом – этим «молодым Державиным», «певцом захожим», «с ресницами нет длинней» – сложилось: к нему Цветаева испытывала «материнские чувства» (как, кстати, и к собственному мужу, как – позже – и ко многим другим), и, когда он приехал в Москву, щедро, с упоением «дарила» ему свой город:
Из рук моих – нерукотворный град,
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке – все сорок сороков,
И реющих над ними голубков.
И Спасские – с цветами – воротá,
Где шапка православного снята.
Часовню звездную – приют от зол —
Где вытертый от поцелуев – пол.
Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.
По ее стихам, посвященным Москве, можно писать картины – настолько выпукло и зримо рисует Цветаева родной город, с которым абсолютно и навсегда соединяет себя: «Красною кистью / Рябина зажглась. / Падали листья, / Я родилась. / Спорили сотни / Колоколов./ День был субботний: / Иоанн Богослов». Родилась с пожаром в груди, чтобы потом до конца своих дней быть обреченной на внутреннее одиночество и трагическое мироощущение – ведь люди боятся пожара, особенно если он разгорается всё сильней и сильней, а огонь идет в их сторону. Вот и Мандельштам испугался – сбежал в Коктебель. А Цветаевой этого огня – огня вдохновения – было уже не загасить: творила легенду о Блоке, слагала гимны Ахматовой…
С Блоком она лично знакома не была, и даже, когда ей представился такой случай, незадолго до смерти поэта, к нему не подошла – гордость ли, робость ли помешала, но он так навсегда и остался для нее недосягаемой вершиной, небожителем, и лишь имени его суждено было много раз появиться потом в ее прозе и письмах. «И по имени не окликну, / И руками не потянусь. / Восковому святому лику / Только издали помолюсь…» Ахматова ей виделась «поэтической сестрой», с которой у них «судьба одна» («И одна в пустоте порожней / Подорожная нам дана»), но Ахматовой, «чей голос… мне дыханье сузил», она всё же отдавала пальму первенства (хотя через пять лет и скажет: «Соревнования короста / В нас не осилила родства. / И поделили мы так просто: / Твой – Петербург, моя – Москва».) Они встретятся через двадцать лет, проговорят несколько часов и… не поймут, не услышат друг друга: у каждой был свой взгляд на жизнь и свой сложный опыт. Так произойдет «разминовение» поэтов, чье единство Цветаева ощущала в себе многие годы.
Пока Марина «крылатой женщиной» несется над «временем и тяготеньем», пробуя новые ритмы, новые мелодии стиха, превращая поэтические строки в песни, а смыслы в формулы («Две любимые вещи в мире – песня и формула»), Сергей собирается на войну. В 1918-м он уходит добровольцем в Белую армию. В характере Марины страшные революционные годы многое меняют. Если в юности она приветствовала революцию («Единственно ради чего стоит жить – революция»), то теперь не относится к ней «никак»: принимает как данность, не более того. Она становится требовательнее к себе, уже не кричит «я и мир» и не думает больше о своей известности: если раньше ей нужно было заявить о себе, то сейчас – только работать. С этих лет начнется ее вечная борьба за свободный час времени и тетрадь («Держит меня на поверхности воды конечно тетрадь», – заметит она однажды в частном письме). Несколько позже дочь Ариадна так охарактеризует состояние матери: «Марина живет как птица: мало времени петь и много поет. Она совсем не занята ни выступлениями, ни печатанием, только писанием. Ей все равно, знают ее или нет». Продекламировав в юности «Всё, чего не будет в жизни, / Я найду в своих стихах!», Цветаева делает теперь эти слова девизом всего дальнейшего творчества.
В эти годы у нее родится вторая дочь, Ирина. «Случайный ребенок», – отметит она в записной книжке. Почему так выразилась – неведомо. Может быть, оттого что ждала мальчика или планировала появление ребенка в другое время? Но, видимо, сами обстоятельства воспротивились – через два года мать ее потеряет. И это останется в ней раной на всю жизнь. Другая душевная трагедия – неимение какой-либо информации о муже («Я не знаю, жив ли, нет ли, / Тот, кто мне дороже сердца, / Тот, кто мне дороже Сына…»). В Москве голод и холод. Цветаева пробовала служить, но на разных невысоких должностях продержалась меньше года, потом уволилась, чтобы уже ни на какие службы не ходить, ведь ее назначение – поэта – давно угадано: «Ремесленник – и знаю ремесло». Быт в революционной Москве очень тяжел. Помощников нет. Приходится все делать самой: дрова пилить, печь топить (когда нет дров, в ход идут книги, стулья), в ледяной воде мыть картошку, варить ее в самоваре, после – стирка, приборка, потом надо оббегать несколько столовых – может, где дадут супа, каши, – выстоять очередь за хлебом (каждый раз мозг сверлит ужас: не потерять бы хлебные карточки!) и только потом домой – кормить голодных детей… Однажды, когда стало совсем невмоготу, посмотрела на крюк в столовой: «Как просто! – Я испытала самый настоящий соблазн».
Скрыться от реальной действительности можно было лишь в творчестве:
Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю и горю до тла,
И да будет вам ночь светла.
В это время она становится певцом Белого движения. В красной России такой поступок очень смел: «А меня никто не тронет: / Я надменна и бледна». Действительно, не тронули. Потому, что не всё поняли. Даже на публике позволяли выступать.
И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
Скрежещет – корми-не корми! —
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.
В Москве, по словам Цветаевой, это стихотворение считалось «про красного офицера» и пользовалось неизменным успехом.
Несмотря на гордые, красивые слова «Белогвардейская рать святая», «Белая гвардия, путь твой высок», в успех белогвардейцев Цветаева с самого начала все же не верила: «Белая гвардия – да! – погибла». Позже она пояснит: «Добровольчество – это добрая воля к смерти».
Потом уже, в эмиграции, прочитав Сергею Эфрону все свои белогвардейские стихи, услышит от него: «Это было не совсем так, Мариночка… Была самоубийственная и братоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом…» – «Но были и герои?» – спросит она. «Были. Только вот народ их героями никогда не признает. Разве что когда-нибудь – жертвами». – «Но как же Вы, Сереженька?..» – «А так: сел не в свой состав и заехал черт знает куда… Обратно, Мариночка, только пешком – по шпалам, всю жизнь…» И тогда она, руководствуясь записями мужа, решив воссоздать события в их реальном обличии, с новым жаром примется за поэму «Перекоп». А свой «Лебединый стан» переделывать не станет и в течение многих лет будет стараться выпустить в свет, но издателя так и не найдет, хотя «стихи доходили», когда читала на творческих вечерах, и такой книги ни в России, ни в эмиграции не было.
В те же революционные годы разгорится ее роман… с театром. Театр ей был близок по лирическим произведениям А. Блока, М. Кузмина, пьесам Э. Ростана. В ее стихах появляются новые действующие лица: Кармен, Дон-Жуан, донна Анна, Манон Леско, кавалер де Гриэ… В это время Цветаева знакомится с актерами-студийцами Е. Вахтангова Ю. Завадским, В. Алексеевым, С. Голлидэй, с педагогом и артистом А. Стаховичем. Главные роли некоторых своих пьес она будет предназначать им. Но ни одна из пьес при жизни Цветаевой сцены не увидит2. Опять сбывались ее слова: «Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра». Менее чем за полтора года Цветаева создаст шесть романтических пьес о любви. В трех из них обратится к героям XVIII века, герцогу Лозэну и сердцееду Казанове. А в пьесе «Каменный Ангел», в основу которой положит взаимоотношения Юрия Завадского и Сонечки Голлидэй, поставит свой вечный вопрос о любви «земной» и «небесной». Все больше убеждалась Цветаева в том, что только там, в другом измерении, возможны настоящая жизнь и настоящая любовь. «Я, конечно, кончу самоубийством, ибо все мое желание любви – желание смерти! И м.б., я умру не оттого, что здесь плохо, а оттого, что “там хорошо”».
О смерти Цветаева размышляет уже очень давно, с самых ранних своих стихов, еще с той просьбы у Бога: «И дай мне смерть в семнадцать лет!» Она уже описывала и свой уход с земли, и свои похороны, и возможное свое бессмертие. Трагизм земного бытия предопределен для нее с самого начала – с этим ощущением она жила и писала. И жизнь во многом подтверждала верность ее взгляда.
Хотя Цветаева, боясь одиночества, все время старалась окружить себя людьми, новыми знакомствами, внутренне она все равно оставалась одинока. Свидетельство тому ее поэма «На Красном Коне», которая была навеяна встречей с поэтом Евгением Ланном и первоначально посвящена ему.
Произведение многослойно, в нем слышны отголоски ранних стихов, предвосхищаются многие будущие строки. Поэма повествует об огненном всаднике, являющемся героине в опасные минуты ее жизни и спасающем от бед, требуя взамен отказаться от принесенного им блага. И все это затем, чтобы «освободить Любовь». Но всадник не может любить ее, так как она земная женщина, а он из другого измерения. Ее желание и страсть – быть любимой: «Не любит! – Так я на коня вздымусь! / Не любит! – Вздымусь – до неба!» И «на белом коне впереди полков» она мчится в бой – сразиться со всадником на красном коне. Бой неравен: все полки, устремившиеся за всадницей, срываются в ров. (Что это – символ гибели Белой армии? Вполне возможно.) А в грудь героини, словно стальное копье, входит луч. Она слышит шепот: «Такой я тебя желал!» И с выжженным сердцем (сразу вспоминается цветаевская пророчица Сивилла) отрекается от земной жизни, ожидая, «Доколе меня / Не умчит в лазурь / На красном коне / Мой Гений». Так в финале падает маска со всадника на красном коне, который, отнимая тело, освобождает дух: это Пегас – гений поэтического вдохновения. Только ему подвластен поэт, только ему он служит всю жизнь. Вот почему его личная жизнь все время находится в конфликте с жизнью творческой.
Если душа родилась крылатой —
Что ей хоромы – и что ей хаты!
В 1921 году через Илью Эренбурга получает Цветаева радостную весть: Сергей Эфрон жив. Скоро он должен добраться до Праги. Она принимает решение – ехать. Распродает все оставшиеся вещи, отдает друзьям и близким книги из своей библиотеки. Со всеми прощается.
В 1922 году Цветаева и Эфрон встретились. Он был уже студентом Карлова университета, диплом которого ему потом так и не пригодится. В эмиграции Сергей писал статьи, работал в редакциях различных периодических изданий, занимался кинематографом, даже снимался в кино. Роль пленного, которого ведут на расстрел (двенадцатисекундный эпизод), в фильме «Мадонна спальных вагонов» для него обернется трагическим предвестием октября 1941 года. В 1931 году он, то ли надеясь искупить вину перед родиной за белогвардейский выбор, то ли из желания самоутвердиться, то ли стремясь попасть обратно в Россию, пойдет работать в «Союз возвращения на родину». Другими словами, будет завербован органами НКВД. Но эта его деятельность была окутана тайной, и супруге он, конечно, ничего не рассказывал.
А Цветаева? Она продолжала писать, жить в сотворенном ею мире, в который на этот раз, как легкое дуновение ветра, ворвался Константин Родзевич – «Арлекин, Авантюрист, счастье, страсть». «Я в первый раз люблю счастливого, и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня – хаос! – а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или всё – или ничего, но в этом всё – как в первозданном хаосе – столько, что немудрено, что человек, пропадал в нем, терял себя и в итоге меня…»
Как четко и верно определяет свою сущность Цветаева! Она вся – нараспашку, вся – открыта, вся – переполнена чувством! И как в то же время тонко создает она миф о любви! И сколько их, этих мифов, было и будет, – выстроенных всегда по одной схеме, лишь в разных тональностях. Но возникшие на их основе поэтические строфы стали поистине жемчужинами русской литературы.
О страстной земной любви, сила которой уже предвещала расставание, повествуют удивительно музыкальные «Поэма Горы» и «Поэма Конца». В их подтексте – отношения Цветаевой и Родзевича, оставившего своим потомках несколько карандашных и скульптурных портретов поэта. Гора – символ любви и одновременно ее свидетельница: «Та гора неслась лавиною / И лавою ползла». Но «Та гора была – миры! / Бог за мир взымает дорого! / Горе началось с горы. / Та гора была над городом». Здесь явная перекличка с цветаевскими строчками двухлетней давности: «Прощай – в свиданье! / Здравствуй – в разлуку!» Так уж сложилось, что еще «до встречи» Цветаева знала о скором ее завершении. Почему произошел разрыв? «Поэма Конца», в отличие от своей предшественницы, строится не на монологе, а на диалоге, из которого ясно, что Он хочет нормальной, устроенной жизни, а Она может предложить ему только свою душу, высокое, неземное. «Смерть – и никаких устройств!» – «Жизнь!» – отвечает Он. «Тогда простимся». Интересно, что в начале знакомства с Родзевичем Цветаева ему признавалась: «Я сказала Вам: есть – Душа, Вы сказали мне: есть – Жизнь… Я пишу Вам о своем хотении (решении) жить. Без Вас и вне Вас мне это не удастся. Жизнь я могу полюбить через Вас».
Да, она вся была соткана из противоречий, и всегда оставалась верна себе. Она мерила всех слишком высокой мерой своего гения, забывая, что перед ней самые обычные люди, чьи сильные стороны не в поэзии, а в чем-то другом. Но это, к сожалению, ею не учитывалось.
Перестрадав, она снова бросалась в омут с головой. В это время разгорелась ее переписка с Борисом Пастернаком. Наконец-то Цветаева встретила, пусть и заочно, равного себе по силе, с которым можно вести разговоры о творчестве, который понимает ее с полуслова и абсолютно принимает как поэта. От других она слышала в основном упреки – в затуманивании смыслов, в трудности восприятия ее стихов. Год назад они с Пастернаком думали встретиться: Цветаева совсем недавно приехала в Чехию, а он был очень близко, в Берлине, и скоро собирался обратно в Москву. Встреча не состоялась, и это вызвало поток удивительных по накалу страстей цветаевских стихотворений из цикла «Провода». Лирическая героиня передает любимому свои письма по телеграфным проводам, «мчит» за ним голосами классических героинь – Эвридики, Ариадны, Федры, неистово уверяет: «Где бы ты ни был – тебя настигну, / Выстрадаю – и верну назад», предупреждает: «Еще ни один не спасся / От настигающего без рук» и в конце концов обещает, что будет ждать терпеливо, как «рифмы ждут». Этим последним поэтическим символом Цветаева позднее свяжет воедино трех творцов, трех «равных»: себя, Пастернака и Рильке, эпистолярное знакомство с которым состоялось благодаря Пастернаку.
В поэме «Попытка комнаты» она опишет возможное свидание трех поэтов: создаст пространство, где должна произойти встреча. Но в конце поэмы комната исчезает – открывается Вечность.
Последние числа декабря 1926 года принесли миру траурную весть – не стало немецкого поэта Райнера Мария Рильке. «В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили – как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил – (и вышло лучше!) и, чтобы меня хорошо принять, заказал – не комнату, не дом – целый пейзаж… С Новым годом и прекрасным небесным пейзажем!» – напишет Цветаева в посмертном письме поэту. И оно станет началом ее работы над поэмой-реквиемом «Новогоднее», которую она закончит в сороковой день – 7 февраля 1927 года. «7» – любимое число Рильке и Цветаевой, число, которое как бы метафорически соединило их в этой и той жизни, открыло вечность.
В том же году Цветаева закончит работу над трагедией на античную тему «Федра». Ее Федра, по наущению кормилицы, раскрывает пасынку Ипполиту свои любовные чувства к нему и слышит в ответ: «Гадина». Это слово для нее страшнее греха, на который она решилась, и Федра кончает жизнь самоубийством. Что это? Прообраз смерти самой Цветаевой, к которой она шла с детства?
Чуть раньше, в 1925 году, вспыхнет новый огонь – у Цветаевой родится долгожданный сын Георгий (Мур). Но скоро семье придется покинуть Чехию и перебраться во Францию. Жить станет значительно трудней: существенно осложнится быт, возникнут проблемы с печатанием стихов. «Иногда я думаю, что такая жизнь, при моей непрестанной работе, все-таки – незаслужена. Погубило меня – терпение, моя семижильная гордость, якобы – всё могущая: и поднять, и сбросить, и нести, и снести».
Конечно, Цветаевой будут помогать новые знакомые, но все время придется «просить», постоянно, как, впрочем, и прежде, менять съемные квартиры – выбирать те, что дешевле. Все больше Цветаева думает о родине, но понимает: вернуться теперь почти невозможно. «Была бы я в России, всё было бы иначе, но – России (звука) нет, есть буквы: СССР, – не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: буквы не раздвинутся… В России я поэт без книг, здесь – поэт без читателей. То, что я делаю, никому не нужно». Эмигрантские периодические издания под разными предлогами отказываются печатать ее стихи, да и платят совсем немного. В итоге в тридцатые годы Цветаева переходит на прозу. Теперь весь огонь ее души направлен в прошлое, в детские и юношеские годы; Цветаевой движет желание «воскресить весь тот мир». Так постепенно появляются ее очерки о родных, близких ей людях и о современниках. Чем ближе становится тот мир, тем больше тоска по родине: «Можно ли вернуться в дом, / Который срыт?.. Той России – нету /– Как и той меня!» И вновь возникает символ, связанный с детством, с моментом рождения, явления в мир: «Рябина – / Судьбина / Горькая», и наконец стихотворение «Тоска по родине!..», где поэт выражает свое безразличие к миру и к своему существованию в нем («Мне совершенно все равно…»), которое сменяется саднящей болью: «Но если по дороге – куст / Встает, особенно – рябина…»
В 1937 году над семьей Цветаевой разверзается бездна: Сергея Эфрона обвиняют в соучастии убийства советского резидента И. Рейсса, и он вынужден срочно «бежать» в Россию, куда недавно выехала и их дочь. В квартире – обыск. Цветаеву вызывают на допросы в полицию, она отвечает, что ничего о деятельности мужа не знает и что ее «доверие к нему непоколебимо». Года через полтора становится ясно: и ей пора вслед за Алей и Сергеем собираться с сыном на родину. Запад в это время уже охватывала Вторая мировая война, любимую Цветаевой Прагу оккупировали германские войска. Обожаемая с детства Германия теперь обманывала, «предавала ее чувства»: «Сгоришь, Германия! / Безумие, безу-мие, творишь!»
В июне 1939 года Цветаева с сыном покинула Францию на пароходе «Мария Ульянова». Почти недельное плавание явилось, по сути, прощанием поэта с жизнью. Неизвестно, какой прием ожидала найти Цветаева в предвоенной Москве, но никаких счастливых иллюзий на этот счет не строила. Сменялись страны, города, острова… ей вспоминались их великие жители: Андерсен, Лагерлёф, Рильке… Вспоминались строчки любимых произведений. Стоило опустить глаза – и взгляд упирался в роман А. Сент-Экзюпери «Планета людей» (Цветаева купила его в последний день отъезда), где писатель, размышляя о катастрофах, замечал, что спасаются только те, кого кто-нибудь ждет… С палубы слышался колокольный звон, «явственно и долго – подробно – во всем разнообразии», где-то раскачивался неугомонный колокол. По ком звонил он? Ответ очевиден.
Москва не ждала Цветаеву. Это стало ей ясно с первой же минуты. С московского вокзала они с Муром сразу поехали в поселок Болшево, где жили Сергей и Ариадна Эфрон. Через два месяца последовал арест Али, еще через полтора – Сергея. И это явилось началом конца.
Далее – полгода проживания в Голицыне, затем – по разным углам в Москве. Обращения к Сталину, передачи в тюрьму и, чтобы как-то жить, переводы стихов зарубежных поэтов. «Я уже год примеряю смерть», – отметит Цветаева в частном письме, а в стихах скажет: «– Пора! для этого огня – / Стара! / – Любовь – старей меня!.. / Но боль, которая в груди, / Старей любви, старей любви».
Громовые раскаты войны докатились, наконец, и до Москвы. Цветаева принимает решение эвакуироваться вместе с сыном в Елабугу. Провожал Борис Пастернак, помогал нести вещи – последний человеческий жест со стороны родины. В Елабуге дали комнату. В поисках лучшего места жительства и работы Цветаева отправилась в Чистополь. Когда приехала, оказалось: есть одно место – судомойки в писательской столовой, правда, самой столовой пока нет. Что ж, подала заявление. Хотя понимала, что для нее все уже кончено. Ее видели там бледной, даже серой, с затравленными глазами. И слышали ее фразу: «Я все время ощущаю потерю личности».
Когда вернулась в Елабугу, судьба «опустила руки»… За окном стояло 31 августа 1941 года. Сбылось свое же предсказание:
Все должно сгореть на моем огне!
Я и жизнь маню, я и смерть маню
В легкий дар моему огню.
Меньше чем через два месяца после смерти Марины Цветаевой будет расстрелян Сергей Эфрон, спустя почти три года погибнет на фронте сын, и только Ариадна, пройдя тюрьмы и лагеря, наконец, освободится и начнет потихоньку возвращать на родину имя своей великой матери.
Елена Толкачева