Maht 220 lehekülge
2015 aasta
Живу до тошноты
Raamatust
«Живу до тошноты» – дневниковая проза Марины Цветаевой – поэта, чей взор на протяжении всей жизни был устремлен «вглубь», а не «вовне»: «У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нём и не бываю». Вместив в себя множество человеческих голосов и судеб, Марина Цветаева явилась уникальным глашатаем «живой» человеческой души. Перед Вами дневниковые записи и заметки человека, который не терпел пошлости и сделок с совестью и отдавался жизни и порождаемым ею чувствам без остатка: «В моих чувствах, как в детских, нет степеней».
Марина Ивановна Цветаева – великая русская поэтесса, чья чуткость и проницательность нашли свое выражение в невероятной интонационно-ритмической экспрессивности. Проза поэта написана с неподдельной искренностью, объяснение которой Иосиф Бродский находил в духовной мощи, обретенной путем претерпеваний: «Цветаева, действительно, самый искренний русский поэт, но искренность эта, прежде всего, есть искренность звука – как когда кричат от боли».
Наверно все понравившиеся поэты помнятся своими лучшими стихами, написанными не головой, а сердцем… и таких вдохновенных творений от Бога не так уж и много.
У Марины Цветаевой есть такие стихи, я бы назвала их – волшебными светлячками её творчества. Мне очень близка её лирика, такие искренние чувственные переживания нарочно не придумаешь, это надо прочувствовать лично, самой… Бывают минуты в жизни, когда строки её стихов согревают мне душу, а иногда их нежная грусть навевает ностальгию о чём-то утраченном или несостоявшемся… В каждом её стихотворении как будто свой маленький мир с его ранимостью, мечтами и переживаниями, с душевной мольбой… Нет, к её поэзии нельзя быть равнодушным, нельзя…
Совсем недавно побывала в Тарусе. В городе, где прошло детство и юность Марины Цветаевой. Который любила вся семья Цветаевых. В котором стараниями дочери и сестры Марины создан удивительный музей семьи Цветаевых. В котором работают удивительные люди. И поэтому когда мне на глаза попалась книга М. Цветаевой Живу до тошноты – я не раздумывая купила и прочла ее. Книга стала продолжением экскурсии по дому Цветаевых…дополнила и оживила ее. Повествование снаружи и изнутри об одном и том же! О любви! О детях! О войне!…все то, о чем невозможно не писать…не петь…не рифмовать…большое спасибо автору!
О самой Марине Цветаевой я читала довольно много литературы, и конечно, многие из авторов писавшие о ней, ссылались на её воспоминания и дневники. Да и её собственные статьи-воспоминания я тоже читала. И во всех этих биографических первоисточниках, которые в целом предназначались для публикации, Марина Ивановна всегда в первую очередь была поэтом и только потом очевидцем событий и менее всего прозаиком. Но в дневниковых записях, которые собраны под обложкой этой книги, особенно в первой и последней части Марина Ивановна как-будто немного приподнимает свою поэтическую маску, хотя и не до конца, и предстаёт в некоторых моментах просто очевидцем событий, а в начале последней части просто матерью своей первой дочери. И вот эта часть (о материнстве) пожалуй, является самой не надуманной самой лёгкой и светлой во всей книге, потому что по-видимому она не предназначалась для других глаз и скорее всего, это действительно был душевный (и возможно, физический) подъём Цветаевой. Все остальные части книги, особенно начало, наводят неподдельный ужас от всего того, что приходилось пережить этому замечательному поэту. И при чтении этих записей понимаешь, что так жила не одна Цветаева, а многие и многие другие люди, волею судеб живущие в этой стране в революционные годы:
Это совсем трогательная девочка. Только недавно приехала из Рыбинска...Крохотное колечко с бирюзинкой. Был жених, недавно расстрелян в Киеве. – Мне его приятель писал, тоже студент-медик. Выходит мой Коля из дому, двух шагов не прошел – выстрелы. И прямо к его ногам человек падает. В крови. А Коля – врач, не может же он раненого оставить. Оглянулся: никого. Ну и взял, стащил к себе в дом, три дня выхаживал, – Офицер белый оказался. А на четвертый пришли, забрали обоих, вместе и расстреляли…
Но как человек творческий, как поэт, Марина Ивановна ощущала эту неустроенность личного быта и развал всей страны острее:
"Мытье пола у хамки. – Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола, – знаете: поясница болит! Вы, наверное, с детства привыкли? Молча глотаю слезы."
Или ещё один характерный эпизод того времени о раздаче мороженной картошки, который Марина Ивановна со своей тонкой душевной организацией переносит просто героически:
Картошка на полу: заняла три коридора. В конце, более защищенном, менее гнилая. Но иного пути к ней, кроме как по ней же, нет. И вот: ногами, сапогами… Как по медузьей горе какой-то. Брать нужно руками: три пуда. Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись (рук не чувствую) – какую попало: раздавленную, мороженую, оттаявшую… Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, не завязывают. Пользуясь темнотой, начинаю плакать, причем тут же и кончаю. – На весы! На весы! Кому на весы?! Взваливаю, тащу. Развешивают два армянина, один в студенческом, другой в кавказском. Белоснежная бурка глядит пятнистой гиеной. Точно архангел коммунистического Страшного Суда! (Весы заведомо врут!).
Но не убогость и неустроенность быта сломили дух Марины Цветаевой, хотя о самоубийстве она думала ещё и 1919 и в 1921 году и не так много страниц она посвящает ему в своих дневниках. Причин для этой смертной тоски, которая выбила у неё из под ног и жизнь, и табуретку масса, о каждом из них можно написать целый том, но исходя из дневниковых записей в конце жизни главное, что подтолкнуло её на этот роковой шаг, это разлад в семье, арест любимой дочери и непонимание её жизни и творчества самых близких людей. С какой болью она передаёт слова Мура (сына выращенного, как последняя надежда) сказанные им не единожды:
Мур (В ответ на мои стихи: Небо – синей знамени. Сосны – пучки пламени…. – Синее знамя? Синих знамен нет. Только у кана́ков пучки пламени? Но ведь сосны – зеленые. Я так не вижу, и никто не видит. У Вас белая горячка: синее знамя, красные сосны, зеленый змей, белый слон. Как? Вы не любите красивой природы? Вы – сумасшедшая! Ведь все любят пальмы, синее море, горностай, белых шлицов. Для кого Вы пишете? Для одной себя, Вы одна только можете понять, потому что Вы сами это написали!
Хорошо, что Мур оказался не прав, но как поздно всё открылось. И всем итогом этой книжки можно подвести такую запись Марины Ивановны:
Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба… Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми. Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб – краду. Мои покражи в Комиссариате: два великолепных клетчатых блокнота (желтых, лакированных), целая коробка перьев, пузырек английских красных чернил. Ими и пишу.
Книга -беседа с поэтом. Понимаешь насколько важно в жизни оставаться самим собой , не предавать свои идеалы, трудиться каждый день. Читать тяжело, так как , к сожелению не хватает духовности и образования
Женщине, если она человек, мужчина нужен, как роскошь, – очень, очень иногда. Книги, дом, забота о детях, радости от детей, одинокие прогулки, часы горечи, часы восторга, – что тут делать мужчине?
У женщины, вне мужчины, целых два моря: быт и собственная душа.
"Возлюбленный" - театрально, "любовник" - откровенно, "друг" - неопределенно. Нелюбовная страна!
Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.
Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.
Не любить – видеть вместо него: стол, стул.
Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что дыхание, как не ритм души?



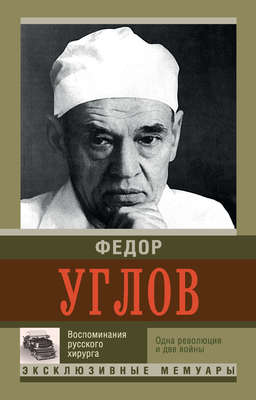
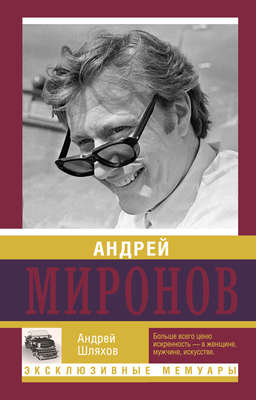





Ülevaated, 4 ülevaadet4