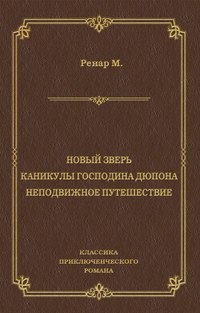Loe raamatut: «Новый зверь. Каникулы господина Дюпона. Неподвижное путешествие»
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
Новый зверь

Господину Г. Дж. Уэллсу
Прошу Вас, милостивый государь, принять эту книгу.
Радость посвятить ее Вам является далеко не последней в ряду тех, которые я испытал, сочиняя ее.
Я задумал ее в духе идей, которые и Вам дороги. И я от всей души желал бы, чтобы моя книга была близка Вашим по духу, не по своему значению и по своим достоинствам, на что было бы смешно претендовать с моей стороны, но хотя бы по тем особенностям изложения, которые дают возможность самым чистым, как и самым непримиримым умам наслаждаться Вашими произведениями, нисколько не лишая их очаровательного значения у самых изысканных и тонких знатоков нашего времени.
Когда Судьба, добрая или злая, случайно натолкнула меня в аллегорической форме на этот сюжет, я не счел себя вправе отказаться от него из-за того только, что точное изложение его требовало известной смелости выражений, которые можно было бы обойти, только сократив изложение, что я считал бы преступлением против моей литературной смелости.
Теперь Вы знаете – Вы сами догадались бы об этом, – как мне хотелось бы, чтобы отнеслись к моему произведению, если кто-нибудь окажет ему непредвиденную честь подумать над ним. Я далек от желания пробудить в читателе примитивные инстинкты и радость при чтении описаний легкомысленных картин: я предназначаю свою книгу философу, влюбленному в Истину под покровом чудесной выдумки и в Высший Порядок мироздания под ложной оболочкой хаоса.
Вот почему, милостивый государь, я прошу Вас принять эту книгу.
Морис Ренар.
К читателю

Это произошло в зимний вечер около года назад после прощального обеда, который я задал моим друзьям в моей меблированной квартирке, на улице Виктора Гюго.
Эти частые переезды с квартиры на квартиру вызывались исключительно бродяжническими наклонностями моего характера, и сегодня, на прощание, мы весело продолжали, в сущности, пирушку, которую я затеял по поводу столь недавнего новоселья. Мы начали сегодня как раз с того момента, на котором тогда остановились. Когда пробил час ликеров и остроумия, каждый из нас блеснул, чем мог. Первым, конечно, выскочил сальный Жильбер, затем король парадокса и скоморох всей банды – Марлотт, а после него Кардальяк, наш постоянный, присяжный мистификатор.
Не помню точно, как это произошло. Помню, что целый час мы утопали в табачном дыму. Потом кто-то вдруг потушил электричество, внес спешное предложение о необходимости устроить спиритический сеанс и сгруппировал нас в темноте вокруг маленького столика. И этот «кто-то», прошу заметить, был не Кардальяк. Может быть, это был его помощник, если предположить, что сама идея принадлежала Кардальяку.
Нас было восемь человек, восемь неверующих против какого-то нуля, маленького столика, который мог положиться только на свои три ноги и который покорно вертелся под нашими шестнадцатью руками, расположившимися на его верхней доске по всем правилам оккультной науки.
Эти правила нам преподал Марлотт. Он был когда-то усердным прихожанином спиритических сеансов, оставаясь, впрочем, нечестивым язычником, и знал все тайны столоверчения. Он был обычно нашим шутом, и мы охотно подчинились тому, что он захватил руководство сеансом: мы вперед радовались предстоящей потехе.
Кардальяк был моим соседом справа.
Я слышал, как он, с фырканьем и кашлем, подавлял смех.
Тем временем столик продолжал вертеться.
Жильбер задал вопрос – и, к безграничному удивлению Марлотта, столик ответил. Ответил сухими, скрипящими деревянными звуками и согласно эзотерическому алфавиту.
Марлотт перевел нам этот скрип голосом, значительно поколебавшимся в своей обычной уверенности.
Каждому из нас захотелось задать вопрос столику – он проявлял в своих репликах большое остроумие. Воцарилось серьезное настроение. Началась отчаянная мозговая работа. Вопросы срывались с наших уст, и необычайно быстро следовали ответы, исходившие, как мне казалось, от той ножки стола, которая была поближе ко мне, справа.
– Кто будет здесь жить через год? – опросил тот, кто затеял это спиритическое развлечение.
– Ого! Если ты станешь спрашивать его о будущем, – воскликнул Марлотт, – ты услышишь какую-нибудь чепуху или он совсем замолчит!
– Оставь, – вмешался Кардальяк.
Вопрос повторили снова:
– Кто будет здесь жить через год?
Стол заскрипел.
– Никто! – возвестил переводчик.
– А через два года?
– Николай Вермон.
Все мы в первый раз слышали это имя.
– Что он будет делать в этот самый час ровно через год?
– Нам хотелось бы знать, что он делает… Отвечай!
– Он начинает… здесь, на мне… записывать… свои приключения.
– Ты можешь прочитать, что он пишет?
– Да… и то, что он напишет потом… и то и другое…
– Расскажи… Только начало, самое начало.
– Устал. Алфавит… недостаточен… Дайте пишущую машину.
В темноте раздался сдержанный шепот. Я встал, принес свою машину и поставил ее на столик.
– Это «ватсон», – сказал столик, – я француз и желаю писать на французской машине, мне нужен «дюран».
– «Дюран»? – спросил мой сосед слева, страшно удивленный. – Разве есть такая фирма? Я не слышал.
– И я тоже.
– Я такой не знаю.
– И я.
Мы были страшно расстроены этой неудачей. Вдруг отчетливо и медленно прозвучал голос Кардальяка:
– У меня есть «дюран». Хотите? Я привезу.
– Ты сумеешь писать в темноте?
– Через четверть часа я вернусь, – сказал он и вышел, оставив наш вопрос без ответа.
– Ну, уж если вмешался Кардальяк, – сказал один из спиритов, – будет потеха.
Вновь загоревшаяся люстра осветила наши напряженные лица. Марлотт был даже бледен.
Кардальяк вернулся поразительно скоро.
Он сел за столик со своим «дюраном». Снова погасили свет. Совершенно неожиданно столик заявил:
– Остальные не нужны. Поставь свои ноги на мои. Пиши.
И мы услышали щелканье пальцев по клавишам.
– Странно!.. – воскликнул переписчик-медиум. – Черт возьми! Мои пальцы движутся сами собой!..
– Тсс… вот жулье!.. – прошептал Марлотт.
– Клянусь вам, что это правда, – подтвердил Кардальяк.
Мы просидели довольно долго в молчании, прислушиваясь к стуку этой «телемашинки». Щелканье клавиш прерывалось только звонком в конце каждой строчки и стуком салазок при повороте. Каждые пять минут заполнялся лист. Мы решили перейти в гостиную и прочитывать там вслух передаваемые Кардальяком через Жильбера листы.
79-й лист был расшифрован нами уже на рассвете, когда машинка остановилась.
Но то, что напечатал этот «дюран», так нас захватило, что мы принялись умолять Кардальяка довести рассказ до конца.
Он снова сел за работу, и через несколько ночей, проведенных за этими скоропишущими цимбалами, Кардальяк доставил нам полностью все приключения Вермона.
Читатель познакомится с ними на страницах этой книги.
Эти происшествия крайне странны, и в них много щекотливого. Будущий автор этих записок не сможет их опубликовать: ему придется сжечь рукопись, как только он ее закончит. Таким образом, если бы не предупредительность столика, ни одна живая душа никогда не ознакомилась бы с этими страницами, и это раздражает меня, настолько убежденного в правдивости этих сообщений, что я опубликовываю их даже раньше, чем они написаны.
Я их считаю правдивыми, несмотря на то что они изображают характер такой странности, что он может показаться карикатурой. Местами они представляют беглые наброски, заметки на полях…
А может быть, это все апокриф? Сказка скорее входит в славу, она обольстительнее истины. А эта сказка Кардальяка ни в чем не уступает другим.
Мне безумно хочется, чтобы описание доктора Лерна было подлинным портретом существующего человека. Ведь согласно пророчеству столика приключения нашего героя, изображенные здесь, в действительности еще и не начинались и только начнутся, когда эта книга увидит свет. Подумайте, какая же это будет потрясающая, лихорадочная, неслыханная злободневность!
Кроме того, через два года я узнаю, живет ли действительно Николай Вермон в моей маленькой квартире на улице Виктора Гюго. Именно это укрепляет мою веру в то, что здесь нет никакого подвоха. Как могу я допустить, чтобы высокоинтеллигентный и серьезный Кардальяк потратил столько часов, чтобы просто сфабриковать всю эту историю?.. И это мой самый главный, сам за себя говорящий аргумент.
Ну а если придирчивый читатель захочет все это проверить, пусть он отправится в Грей л’Аббе. Там он получит подробнейшие сведения о существовании профессора доктора Лерна и его образе жизни. Что касается меня, то у меня на это свободного времени сейчас нет. Я буду очень просить этого достойного исследователя сообщить мне все, что он узнает. Я прямо горю нетерпением узнать, что, в конце концов, представляет собой последующий рассказ: мистификацию со стороны Кардальяка или действительно откровение, продиктованное вертящимся столиком?
Глава I
Ноктюрн

Июньский день склонялся к вечеру. Тень машины с приросшей к ней, в виде какого-то шипа, моею тенью неслась вперед и становилась длиннее с каждым мгновением.
С самого утра передо мной удивленные человеческие физиономии, глазеющие на меня как на диковину. Кожаный шлем, делающий мою голову похожей на череп смерти, очки, придающие мне глазницы скелета, окутывающий меня с ног до головы балахон из красно-бурой кожи делают меня похожим на исчадие ада, на какое-то дьявольское животное из искушений святого Антония, бегущее от солнца навстречу ночи и ее ужасам.
И действительно, в меня как будто вселилась душа отверженного. Мне было так страшно, как только может быть страшно тому, кто несется очертя голову семь часов подряд на неистово мчащейся вперед машине. В мозгу сплошной угар. Ни малейшей мысли, одно только мучительное чувство нетерпения. Какой-то отвратительный демон непрестанно шепчет мне настойчивое, краткое приказание: «Приезжай один, предупреди!» – и я дрожу от волнения и дорожной лихорадки.
Это странное, дважды подчеркнутое в письме моего дяди, доктора Лерна, приказание: «Приезжай один, предупреди!» – не сразу произвело на меня такое огромное впечатление. Только после того как я отправился в путь, известив предварительно дядю, и по мере того как я приближался к замку Фонваль, этот таинственный приказ начал вызывать во мне необъяснимое чувство и восстал передо мной во всей своей странности. Везде вокруг меня я слышал слова: «Приезжай один, предупреди!» Мне приходилось делать над собой усилие, чтобы освободиться от этой навязчивой идеи.
Я поднимал глаза, чтобы прочесть на табличке название деревни и читал: «Приезжай один…»
«Предупреди!» – слышалось мне в полете птиц.
А мотор неустанно и словно в бешенстве каком-то твердил: «Приезжай, приезжай, приезжай, предупреди, предупреди, предупреди…» Я не находил, сколько ни старался, объяснений этому распоряжению дяди и мучительно хотел поскорее приехать и сорвать покров с этой тайны. Не для того, чтобы наконец услышать долгожданное, но, без сомнения, банальное объяснение, но чтобы избавиться от этой бесконечной пытки.
К счастью, я приближался к замку. Местность стала знакомой и вызывала во мне представление о далеком прошлом. Мне стало легче. Я задержался несколько в населенном и кипучем Нантеле. Но как только я выехал из предместья, я наконец увидел издали туманные очертания арденнских высот.
Вечер уже наступил. Желая до ночи достигнуть цели, я развил страшную скорость. Машина несется вперед, мостовая мелькает подо мной, развертываясь как бесконечная лента. В ушах свист, лицо колет, как от тучи мошек, тысячи мелких песчинок дробью ударяются о мои очки. Солнце теперь справа от меня, но еще стоит над горизонтом, и стены, мимо которых я проношусь, то погребая меня, то выбрасывая меня вверх, чередуют перед моими глазами какими-то скачками то закат, то восход солнца. Наконец оно зашло. Я мчусь сквозь полутьму, развивая крайнее напряжение машины. Вот Арденнский лес. То, что раньше казалось облаком, получает вдруг зеленую окраску, окраску леса, становится лесом. Мое сердце настраивается лирически. Пятнадцать лет! Пятнадцать лет я не был в этом лесу! Мой старый друг! Товарищ моих каникул!
Здесь, в твоей густой чаще, скрывается, в гигантском овраге, замок. Я представляю себе необыкновенно отчетливо эту котловину; вот оно там, впереди, это громадное темное пятно, похожее на какую-то бухту. Покойная тетка моя, Лидивина Лерн, напичканная легендами, уверяла, что Сатана, рассвирепевший однажды, когда рухнула какая-то его надежда, так яростно повернулся на своей громадной пятке, что оставил на поверхности земли этот след. Это мнение, однако, оспаривалось. Во всяком случае, образ этот замечательно хорошо характеризует фонвальский пейзаж: гигантское круглое углубление с совершенно отвесными стенами и единственным выходом на поля. Другими словами, земляной залив посреди гор, стоящих кругом, как на страже.
Так как замок покоится в углублении, можно подъехать к Фонвалю, минуя холмы. Парк занимает середину котловины, и скалы защищают его со всех сторон, за исключением спуска. Этот спуск замыкает стена, которая, в свою очередь, замыкается воротами. А потом идет длинная, прямая как стрела липовая аллея. Еще немного, и я помчусь по ней… и узнаю, почему никто не должен был сопровождать меня в Фонваль. «Приезжай один, предупреди…» В чем дело?
Терпение. Арденнский массив распадается передо мной на отдельные громады. Все движется под влиянием бешеного темпа моей езды. Горы то низвергаются на меня, то вырастают передо мною и вспениваются гигантским хребтом, как в вечной игре океана…
Вдруг что-то шумно вспорхнуло и улетело. Там, очевидно, гнездо. Какое знакомое место! Каждый год в августе здесь, у вокзала, ждала меня и маму запряженная Бириби дядина коляска. И сюда же привозила она нас, когда мы уезжали в город. Привет тебе, мой Грей л’Аббе! Теперь до Фонваля всего три километра. Я бы нашел замок даже с завязанными глазами. Вон под теми деревьями начнется дорога, превращающаяся в большую аллею, ведущую к замку…
Темная ночь. Какой-то крестьянин кричит мне что-то вслед. Конечно, ругает. Я к этому привык. Моя сирена бросает ему угрозу.
Лес! Какой аромат! Он напоминает о временах, свободных от школьного гнета. Мои воспоминания и лес сливаются в одно чувство… Как хорошо! Исключительно хорошо! Как продлить это наслаждение?
Замедлим ход. Справа и слева наступают стены котловины. Высоко. Еще выше… Если бы было светлее, я увидел бы замок в конце вытянутой в струнку аллеи… Но что это?
Я чуть не опрокинулся вместе с машиной. Совершенно неожиданный поворот…
Я еще убавляю ход.
Опять поворот, потом еще один.
Я остановился.
Небесный свод, как росой, усыпан звездами. Весенняя ночь позволяет мне различить высоко надо мной гребни гор; только угол, в который они упирались, смущал меня. Когда я двинулся назад, я увидел разветвление дороги, не замеченное мною раньше. Я взял направо и после нескольких поворотов опять очутился на перекрестке. Загадочно, страшно загадочно. Я пробую ориентироваться. и беру направление на Фонваль… снова перекресток! Куда эта дорога направо? Я был ошеломлен.
Я зажег фонари и двигался вперед отдельными толчками. Опять тупик. Черт возьми! Ведь я был уже у этой березы! Стены вокруг меня держались все на той же высоте. Я очутился в настоящем лабиринте. Я не мог никакими силами двинуться дальше. Не предупреждал ли меня об этом своим криком грейский крестьянин? Очень возможно.
Нужно просто довериться случаю. Меня бросало в жар. Фонарь нащупывал дорогу ярким лучом. В третий раз на том же перекрестке! Опять эта гнусная белая береза! В третий раз, исходя из трех разных путей, я натыкался опять на нее.
Кричать, звать на помощь? Но сирена вдруг отказалась служить. А голосом? Отсюда одинаково далеко и до Грея и до Фонваля… Невозможно!
Мне стало страшно. А вдруг и бензин иссякнет? Я остановился на перекрестке и обследовал машину. Резервуар почти пустой. Теперь бензин весь уйдет на эти тщетные поиски дороги. Мне пришло в голову, что легче пройти пешком через лес… Я собрался осуществить это намерение, как вдруг наткнулся на колючую проволоку в кустах.
Очевидно, эта преграда сделана не зря. Работа какого-то нового Дедала. Очень тщательно. Честь и хвала организатору этой защиты!
Я был совсем сбит с толку.
«Уважаемый доктор Лерн, – принялся я рассуждать, – я вас совершенно отказываюсь понимать. Сегодня утром вы должны были получить известие о моем прибытии. И вот я попадаю в коварнейшую ловушку, какую только способен был создать маскировщик местности. Как вам пришла в голову подобная идея? Неужели вы изменились еще больше, чем я это себе представляю? Пятнадцать лет назад вам и во сне не снились такие фокусы фортификации…
Пятнадцать лет? Такая же ночь, как эта. Небо светилось, как сейчас, и лягушки наполняли тишину ясными, тонкими, короткими и сладкими звуками. Пел соловей. Как сейчас. Дядя! Как хорош был тот далекий вечер! Тетя и мама, две сестры, умерли на одной и той же неделе, и мы остались вдвоем, лицом к лицу, вдовец и сирота!..»
Перед моим воображением встал доктор Лерн, каким его знал весь Нантель. В тридцать пять лет известный уже всему миру хирург, человек с необыкновенно ловкой и смелой рукой, не знавшей неудачи; доктор Лерн, несмотря на славу, не изменивший своему родному городу; доктор Фредерик Лерн, профессор клиники при медицинском факультете, член-корреспондент многочисленных научных обществ, награжденный бесчисленными орденами и – чего я никогда не забывал – опекун своего племянника Николая Вермона.
Я мало имел сношений с новым отцом, которого мне дал закон. Он никогда не брал отпуска. Он только летом проводил воскресные дни в Фонвале, но даже здесь, в уединении, посвящал их неустанной работе. Его страсть к садоводству, которую он принужден был сдерживать в будни, приковывала его на весь праздник к его маленькой оранжерее, к его тюльпанам и орхидеям.
Несмотря, однако, на наши редкие встречи, я хорошо знал его и любил..
Коренастый, веселый, уравновешенный и трезвый. Несколько, может быть, холодный, но какой добродушный! Я часто непочтительно сравнивал его гладко выбритую физиономию с лицом милой старой дамы, но стрелы моего остроумия пропадали совершенно даром; его лицо вдруг складывалось в античную складку и принимало вид серьезный и высокомерный или освещалось тонкой усмешкой и напоминало плутовскую физиономию времен Филиппа Орлеанского. Среди плоских современных физиономий дядино лицо выделялось своим благородством и столько же напоминало наших драпировавшихся в тоги прародителей, сколько атласом разукрашенных дедов, будущие внуки которых могли бы без ущерба для своей чести носить костюмы своих предков…
В это мгновение Лерн предстал предо мною в своем черном, скверного покроя сюртуке, в котором я видел его в последний раз перед моей поездкой в Испанию. Дядя был богат и хотел видеть меня тоже богатым, поэтому он послал меня в Испанию, с тем чтобы я занялся там торговлей пробкой в качестве представителя торгового дома Гомес в Бадахосе.
Мое изгнание продолжалось пятнадцать лет. За это время дядя должен был разбогатеть еще больше, судя по произведенным им сенсационным операциям, слух о которых проникал даже в глубь Эстремадуры.
Мои дела? Мне не везло страшно. После пятнадцати лет работы я, сильно сомневаясь в том, буду ли я когда-нибудь продавать спасательные круги и бутылочные пробки под своей собственной фирмой, вернулся во Францию, чтобы поискать другое дело. Вдруг совершенно неожиданно судьба сделала меня богачом: я выиграл миллион… Но об этом лучше молчать.
В Париже я устроился очень комфортабельно, но без всякой роскоши. Обстановка комнат была простая и удобная. У меня было все необходимое, даже с избытком, был автомобиль. Но кое-чего не хватало – семьи.
Но раньше, чем обзавестись новой семьей, следовало, казалось мне, возобновить сношения со старой, то есть с доктором Лерном. Я написал ему.
Из этого, однако, не следует, что мы и без того не были связаны непрерывной перепиской. Сначала он часто давал мне советы и проявлял ко мне отеческое отношение. В первом своем письме он даже писал мне о каком-то завещании в мою пользу, спрятанном в потайном ящике в Фонвале. Даже после сдачи им опекунства наши отношения остались теми же. И вдруг в нем наступила какая-то особенная перемена, ощущавшаяся в письмах, которые стали приходить все реже и реже. Тон их делался все более и более скучными, ворчливым, их содержание становилось все более банальным, стиль неуклюжим, даже почерк потерял свою прежнюю отчетливость. Так как все эти признаки выступали все рельефнее от письма к письму, то я решил ограничить свою корреспонденцию поздравлениями к Новому году. И дядя благодарил меня несколькими неразборчивыми словами. Единственная моя привязанность в жизни была глубоко уязвлена. Я был безутешен.
Что с ним такое случилось?
За год до этой внезапной перемены – за пять лет до моего теперешнего возвращения в Фонваль и моего пленения в этом лабиринте – я прочел в газете:
«Нам пишут из Парижа. Профессор Лерн расстается со своими пациентами, чтобы всецело отдаться вновь начатыми в Нантельском госпитале научным исследованиям. Для этой цели знаменитый ученый уединяется в своем специально приспособленном для этого замке Фонваль в Арденнах. Он привлекает к этой работе несколько пользующихся большой известностью сотрудников, в том числе, между прочим, доктора Клоца из Маннгейма и трех препараторов из анатомического института, созданного доктором Клоцем на Фридрихштрассе, 22, и теперь закрытого. Скоро ли мы услышим о результатах?»
В ответ на мое восторженное письмо Лерн подтвердил мне истинность напечатанного в газете сообщения, но не дополнил его ни единым словом. И, повторяю, эта перемена могла в нем произойти не больше года назад.
Неужели 12 месяцев работы произвели на него такое вредное влияние?
Или какая-нибудь неудача расстроила его настолько, что он стал считать меня чужим человеком и обузой?
И вот, не обращая внимания на его враждебное ко мне отношение, я написал ему почтительнейшее и любовное письмо; я сообщил ему о необыкновенном счастье, выпавшем на мою долю, и просил разрешения посетить его.
Приглашение его не отличалось радушием. Он просил меня предупредить его о дне моего приезда, чтобы он мог заказать экипаж, который привезет меня со станции. «Ты, во всяком случае, останешься здесь ненадолго. В Фонвале невесело. Здесь много работают. Приезжай один, предупреди!»
Но черт возьми! Ведь я предупредил и еду один! И я считал это посещение своей сыновней обязанностью! Ну да, конечно! Глупости! Совершенные глупости!..
И, страшно расстроенный, я смотрел на переплетающиеся дороги, на которые потухающие фонари моей машины бросали мертвенный свет ночников.
Мне, очевидно, предстояло провести ночь в плену у тьмы, в плену у леса. И ничто не освободит меня до рассвета. Напрасно жабы своим кваканьем указывали мне местонахождение фонвальского пруда, напрасно грейский колокол отбивал час за часом, указывая мне лучший ночлег (ведь колокола – это звучащие маяки). Я был в плену.
Пленник. В плену у Арденнских лесов! Выданный Бросельянде – бесконечному лесу, одна граница которого в Блуа, другая в Константинополе, – лесу, подвергающему внутри этих границ целый мир в могильную тьму! Бросельянда! Арена сказаний о героях и детских сказок, страна детей Эймона и Мальчика-с-пальчика, лес, населенный друидами и феями! В твоей чаще сладко уснула красавица, и Карл Великий стоял на часах! Какая мало-мальски фантастическая история не имела этот горный лес по крайней мере своим фоном? В большинстве его деревья были даже действующими лицами. «Ах, дорогая тетушка Лидивина, – шептал я. – Ты умела оживлять каждый вечер все эти легенды. Превосходная женщина! Не напоминала ли ты волшебника из твоей сказки… Милая тетушка! Знаешь ли ты, что твои неслыханные чудовища владеют всей моею жизнью, моими снами. Поверь мне, еще до сих пор в моих ушах стоят волшебные трубные призывы; ведь ты заставляла звучать фонвальскими ночами рог Роланда и Оберона в моих ушах…»
В это мгновение случилось нечто непростительное, и я не мог этому воспрепятствовать: вслед за последней предсмертной вспышкой погасли оба фонаря. Целую секунду царили черная тьма и глубочайшая тишина. Мне казалось, что я глух и нем.
Постепенно я научился видеть. Взошел лунный серп и окутал ночь белоснежным сиянием. Лес оцепенел в ледяном молчании. Меня знобило. Слушая рассказы моей тети, я, бывало, так дрожал от страха. В ту пору я населил бы эту тьму драконами и змеями. Пролетела сова. Она показалась бы мне в ту пору пернатым шлемом волшебного паладина. Справа береза блестела точно рыцарский панцирь. Что это там за дерево? Не сын ли это зачарованного дерева, супруга принцессы Леелины? Таинственно и величественно прошумел дуб. И над всем этим скользящий священный полумесяц…
Этот ночной ландшафт соткан из грез и страха. Я всегда отдавался влиянию этого пейзажа и с наступлением вечера редко осмеливался выходить. Фонваль, если не считать его цветников и великолепной сети аллей, казался мне отвратительным местом.
Бывшее аббатство, превратившееся в замок. Стрельчатые окна, столетний, разукрашенный статуями парк, мертвая вода пруда, крутые, грозные скалы кругом, эти адские ворота. Все это создавало какое-то враждебное окружение и при дневном свете. Неудивительно поэтому, что воображение населяло это место созданиями из мира сказок и мифологии.
По крайней мере я во время каникул жил исключительно этой воображаемой жизнью, говорил на языке сказки и совершал сказочные подвиги. Все здесь шло мне навстречу и казалось бесконечной феерией, в которой я играл с воображаемыми статистами, жившими в воде, на деревьях и под землей – чаще под ней, чем на ней. Когда я гарцевал с голыми икрами по лугу, за мной следовала огромная и блестящая рыцарская свита. А старый челнок, оснащенный тремя мачтами, сделанными из ручки старой метлы, и тремя тряпочками, изображавшими паруса! Разве он не был кораблем, уносившим крестоносцев в средиземный океан? Ого, как он качался на гребнях, покрытых пеною волн! Задумчиво и глубокомысленно глядя на острова из роз и полуострова из дерна, я провозглашал: «Вот Корсика и Сардиния!», «Италия в виду!», «Мы объезжаем Мальту!» И минуту спустя я уже кричал: «Земля!» Вот мы высадились в Палестине. В ушах раздается средневековый боевой клич: «Монжуа и Сен-Дени! Монжуа и Сен-Дени!..» У меня начиналась морская болезнь и тоска по родине, но священная война вдохновляла меня вновь – так я одновременно развивал свое воображение и упражнялся в географии.
Остальные действующие лица были большей частью вымышленные. Дитя подобно Дон Кихоту: заброшенная беседка превращается у него в сторукого великана Бриарея, а бочка заменяет дракона Андромеды. Голову к этой бочке я приделал из тыквы, а крылья – из двух зонтов. Это чудовище было помещено на повороте аллеи и повергало в ужас своим грозным видом. Казалось, оно вот-вот накинется в ярости на терракотовую нимфу. И вот я, как мужественный Персей, отправлялся за ним в погоню верхом на невидимом крылатом коне и вооруженный с головы до ног стрелами… Но когда я нацеливался в чудовище, косоглазая тыква бросала на меня молниеносный взгляд, способный обратить в бегство даже Персея.
Создания моего воображения сводили меня с ума благодаря ролям, которыми я их наделял. Но так как я всегда играл роль героя и победителя, я легко подавлял свой страх – при свете дня, конечно. По ночам, когда путешественник и рыцарь снова превращался в мальчугана-карапуза Николая Вермона, бочка все еще оставалась чудовищем. И глубоко уткнувшись в подушки, весь охваченный настроением последней тетиной сказки, я видел сад, населенный моими фантастическими чудовищами, видел, как Бриарей стоит на часах, как восставшая от смерти бочка таращит свои зонтичные когти и подстерегает меня за окном.
В детстве я почти потерял надежду, что я буду когда-нибудь, как все, и перестану бояться теней. И все же тысячеликая смерть, грозившая мне ежеминутно, потеряла всякую власть надо мной. Я готов был встретить ее взволнованный, но не трусливый. И теперь этот дикий лес без чародеев и фей казался мне слишком пустынным.
Когда я дошел до этого пункта в своих грезах, со стороны Фонваля раздался неопределенный гул. Мычал бык. И как будто завыли в отдалении собаки… Потом все умолкло снова.
Через несколько мгновений где-то между мною и замком заплакала сова. Вот одна вылетела из гнезда, за ней другие. Как будто их напугало какое-то приближающееся к нам существо.
И действительно, я услышал топот четвероногого животного. Оно двигалось по извилистым дорожкам, точно запутавшись в них, и наконец предстало передо мной.
Большие ветвистые рога. Гордая шея. Тонкие уши. Нет никакого сомнения – это олень. Но как только я это подумал, он почуял меня, отступил немного и бросился назад…
Тело его было странно легким и тощим, а шкура, может быть из-за освещения, казалась совершенно белой. В следующий миг олень исчез. Вот его галоп послышался уже далеко, и все снова затихло.
Что это? Принял ли я козла за оленя или, наоборот, оленя за козла? Надо сознаться, я был весь охвачен любопытством. И задавал себе вопрос: не обрету ли я снова в Фонвале свою детскую веру, которую когда-то там похоронил? После некоторого рассуждения я пришел, однако, к тому выводу, что голод, усталость и дремота легко могут в сообществе с лунным светом навеять недобрый обман, и существо, представившееся мне в этом освещении, не есть еще феномен.
А жалко! Я давно уже перестал испытывать страх перед чудесами, но любовь к ним я еще сохранил.
Чудесное все еще пленяет меня. Ребенком я замечал его повсюду. Юношей я истолковывал как чудо все новое, все необъяснимое. И в мысли философа: «Если вода придает палке излом, мой рассудок ее снова выпрямляет», – вторая часть мне до сих пор неприятна. Сколько бы я дал за то, чтобы не знать, что без преломления лучей божественный стрелок Феб не натянул бы своей прекрасной и грозной тетивы – радуги!
Но даже когда стараешься рассеять иллюзию чудесного, ты продолжаешь чувствовать волшебное очарование. Ты говоришь себе: «Может быть, это чудо. Но это только предположение. Надо лучше разглядеть, чтобы лучше воспринять его…» И ты приближаешься… истина выступает ярче, и чудо гаснет. Меня и таких, как я, тайна чарует уже самым своим покровом, и я не желаю ничего большего – даже при риске быть грубо обманутым, – как только осветить этот покров…
Короче, животное было действительно редкостное.
И я витал в области непостижимого, находя все это страшно загадочным; мое любопытство росло.