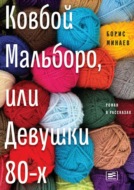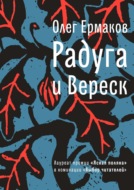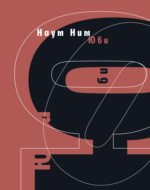Loe raamatut: «Родина моя, Автозавод»
Моему отцу – поэту и писателю Юлию Киму, с благодарностью и любовью
Информация от издательства
Художественное электронное издание
18+
Ким, Н. Ю.
Родина моя, Автозавод: Рассказы / Ким Наталия Юльевна. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)
ISBN 978-5-9691-1687-0
О дебютной книге Наталии Ким исчерпывающе емко отозвалась Дина Рубина: «Надо быть очень мужественным человеком, мужественным описателем жизни, предавая бумаге все эти истории… Она выработала свой особенный стиль: спокойно-пронзительный, дико-натуральный, цинично-романтический… Это выхватывание из вязкой глины неразличимых будней острых моментов бытия, мозаика всегда поразительной, всегда бьющей наповал, сшибающей с ног жизни, которая складывается в большую картину». Что к этому добавить? Наталия Ким – редактор и журналист, у нее трое детей и живет она уже больше сорока лет все там же, на Автозаводе. Которого, впрочем, уже нет… Зато есть книга о нем – по оценке Дины Рубиной, «яркая, сильная и беспощадно-печальная».
Тексты Наталии Ким – это одновременно и сор повседневной жизни, и растущие из него цветы высокой прозы. Невероятная книга, от которой ежестранично щемит сердце и которую вместе с тем сложно выпустить из рук, настолько все в ней честно, точно, пронзительно и узнаваемо. Ни одной лишней фразы, ни единой фальшивой ноты – сама жизнь, смешная, горькая, трогательная и нелепая, отлитая в безупречно найденные слова (Галина Юзефович, Meduza.io).
Мне кажется, Наталия Ким – абсолютно сложившийся писатель. Не понимаю, где она была раньше (Дина Рубина).
© Ким Н. Ю., 2018
© Калныньш В. Я., оформление и макет, 2018
© Якушина М., графика, 2018
© Состав, оформление, «Время», 2018
Дина Рубина
Россия Гоголя, которая ни черта не меняется
Рукопись Наталии Ким под, на мой взгляд, унылым, каким-то советским названием «Родина моя, Автозавод» я принялась читать смиренно, ибо никогда не могу отказать друзьям. Вот, подумала, еще один писательский ребенок решил пробовать себя в нашем ремесле. Открыла первый файл, стала читать… и пропала. Позвала мужа, читала вслух, что я особенно люблю делать с понравившимися мне текстами. Читала «с выражением и акцентами». Прочитала до конца всю вторую часть. Муж мой хохотал-заливался, даже всхлипывал… Потом отер слезы и сказал: «Какая печальная книга…»
А диалоги в книге Наталии Ким блестяще передают устную речь героев самого разного статуса, характера или – как говорили в «раньшее время» – особ разного разбора. Отлично выражаются у нее: цирковые, механики, бабы-соседки, старые алкаши – словом, народ. Народ говорит со страниц этой книги своим незаемным, часто нецензурным, афористично-пластичным языком, так что, читая, я аж крякала от удовольствия и зависти.
И вот я думаю: надо быть очень мужественным человеком, мужественным описателем жизни, передавая бумаге все эти истории, все эти непрезентабельные, жестокие и жалкие сценки, всех этих типов, колготящихся вокруг детства и юности героини. Да и себя-то описывать в натуральную величину не каждый сможет. А Наталия Ким смогла. Она выработала свой особенный стиль: спокойно-пронзительный, дико-натуральный, цинично-романтический. И может, поэтому такие разные рассказы так здорово выстраиваются в книгу, похожую на повесть. Просто повесть о жизни.
Еще хочется сказать о второй части книги. Было бы ошибкой назвать ее «репризами». Это не эстрада, не развлекалки. Не «сценки». Это – тоже проза, такой жанр, в нем работали и Катаев, и Олеша, и Довлатов. Да и я очень его люблю. Это выхватывание из вязкой глины неразличимых будней острых моментов бытия, мозаика всегда поразительной, всегда бьющей наповал, сшибающей с ног жизни, которая складывается в большую картину, – ее можно видеть только в конце, вот когда московская старуха говорит: мол, я Красную площадь не видала и не надо. Это – тоже книга, страшная книга, дико смешная. Это – Россия Гоголя, которая ни черта не меняется, хоть кол у нее на башке теши.
Словом, вот, с удовольствием написала пару слов в поддержку этой яркой, сильной и беспощадно-печальной книги о жизни.
Мне кажется, Наталия Ким – абсолютно сложившийся писатель. Не понимаю, где она была раньше.
От автора
Больше сорока лет я живу в Москве на Автозаводской улице недалеко от завода ЗИЛ. С самого рождения понятие родины для меня сконцентрировано в этих двух с половиной кварталах. Чем больше меняется район, тем больше отчего-то усиливается потребность вспомнить ушедших жителей этих сталинских домов, небольших зиловских коммуналок. Зачем об этом писать сейчас, когда каждый второй из настоящих пишущих мастеров с разной степенью изумительности, но с большой степенью достоверности воплотил на бумаге образы и реалии своего детства, не утомительна ли эта тенденция, поставленная на поток? Не знаю. Сама-то эти тексты читаю запоем, предпочитая любым другим жанрам. Мне есть с чем сравнить – коммуналки Остоженки, Таганки, Дорогомиловки, Павелецкой, Курской, Чертановской, где жили мои друзья, одноклассники по четырем общеобразовательным школам и одной художественной, коллеги по театру-студии и сокурсники – эти комнаты и коридоры проходят перед глазами, сплетаясь в едином мебиусном узле эпохи, но я не жила там, а только шла сквозь и мимо, жила же именно на Автозаводской, «на Автозаводе» – так скажет мой земляк. Почти всех героев уже нет на свете. И возможно, только я и помню об их существовании.
Часть первая. Ex memoria exponere

1. Рыбка
Когда я была совсем маленькой, то путала Деда Мороза с Богом. Дед с бородой и добрый, и Бог с бородой и вроде как добрый. Только Дед приходит раз в году, а Бог есть все время и везде (следит, не ковыряю ли я в носу, и огорчается, когда я зарываю ненавистную вареную цветную капусту в горшке с алоэ). В общем, они у меня смешались в голове, и я никак не могла разобраться, спросить было неловко, но кого-то из них точно надо было бояться – то ли потому что рискуешь остаться без подарка, то ли потому что непременно последуют санкции за зарытую капусту.
Хорошо помню, как на новый 1980 год Дед пришел в папином зеленом халате и в белой вате на лице, и очки на нем были папины. За подозрительного Деда ко всему прочему почему-то говорила мама и много смеялась, я тоже смеялась и все спрашивала, зачем Дед забрал у папы очки и халат?.. Дед тогда подарил мне сладко пахнущую клеем лошадь на подставке с колесиками, я ее на следующий же день перекрасила гуашью в другую масть и, не дождавшись, пока краска высохнет, гордо села в седло. Остался потом надолго смазанный гуашный отпечаток той части детского тела, которую мама, смешно ругаясь, с энтузиазмом оттирала шершавой японской мочалкой. Лошадь еще лет десять прожила в моей комнате, пока гуашь не облупилась, а любимый щенок не отгрыз по очереди колесики и отодрал хвост.
Постепенно все же Бог и Дед Мороз окончательно рассредоточились, и лет в шесть я поняла, что если на нашем Велозаводском рынке стены из серо-бетонных вдруг превращаются в разноцветные, высоко над головой затянуто пространство бумажными бабочками, серпантином и завешано дождиком, а вместо все той же цветной, провались она, капусты на прилавках таинственным образом появляются пластиковые прозрачные корыта, полные невозможной красоты – стеклянных домиков, шишечек, грибочков, белочек и шаров всех цветов, – значит, скоро ждать Деда и будет сюрприз. Что касается Бога, то он продолжал базироваться в углу над моей кроватью, куда я иногда косилась, ожидая увидеть гримасу отвращения или негодования на лице Спасителя.
Еще перед Велозаводским рынком где-то за неделю до Нового года появлялся елочный базар: на пятачке газона ставился разрисованный елочными лапами, шариками и «нупогодишными» героями фанерный забор, мерцала мутными желтыми лампочками гирлянда, внутри этого периметра вповалку лежали сильно подмерзшие худосочные деревца. Елки чаще всего оказывались такие куцые, что некоторые люди брали сразу по две и связывали их шпагатом, устанавливая в ведре с водой, а чтобы символ праздника вдруг не завалился набок вместе с мишурой и макушечкой, напихивали в ведро пустые банки и бутылки. За елкой мы ходили только с папой. Он брал специальные толстые перчатки (чтобы не колко было тащить домой), сматывал шпагат в колечко, и вот тогда надо было бегом бежать надевать кошмарные горчичного цвета рейтузы, потому что «девочкам с замерзшими попами елок не продают».
О «запахи детства», настигающие взрослого человека всегда внезапно, мгновенно подымающие со дна памяти огромные какие-то разбухающие от нежности и слез мягкие душащие комья, перехватывающие дыхание, заставляющие закрыть глаза, чтобы сосредоточиться и вспомнить, хоть на секунду, но до мельчайших подробностей вспомнить те единственные обстоятельства места и времени, когда все было таким волнующим, загадочным и при этом безопасным. Для меня это – запах оттаивающей в ванной елки.
А еще были елки искусственные, и самая невозможно волшебная из них – серебряная, где каждая «лапа» – обмотанная «дождичными» ниточками проволока – торчала вверх, а не свисала вниз. Их выставляли в витринах булочной, кондитерской, в обувном, рыбном, в «Диете», они мерцали и переливались, и однажды соседка подарила мне одну такую лапу – я хранила ее лет тридцать, пока дети не заиграли ее до состояния ржавой палочки.
Перед Новым годом мы всегда с бабушкой шли на рынок – мне торжественно разрешалось выбрать одну новую елочную игрушку. Я разрывалась между стеклянной белочкой на прищепке и малиновой шишкой, сердце прыгало в горле, когда после понуканий («давай скорей, ну сколько можно выбирать, у меня ноги уже отекли») выбор таки падал на белочку, мы клали ее в заранее приготовленную коробочку с ватой, чтобы не побилась. Я помню все эти игрушки до мельчайших подробностей, и за каждой стоит конкретный год: 1978-й – зеленый домик; 1979-й – три шишки на одной ленточке, сказочное богатство; 1980-й – белочка; 1981-й – серебряный шарик с пузатым карминовым снегирем…
Но самым большим вожделением для меня был гигантский шарик, в котором между ниточками внезапно зеленого «дождика», изображавшего водоросли, таилась вырезанная из цветной фольги рыбка, золотая или серебряная. Это был такой советский киндер-сюрприз, когда два удовольствия являлись в едином целом – мало того что шар сам по себе хрупкая праздничная игрушка, так внутри него еще есть что-то, с той только разницей с тем шоколадным яйцом, что игрушку из шарика вынимать было нельзя, иначе исчезала вся сказка. Шарик этот стоил дорого, мне никогда не разрешали его выбирать, уже в лифте бабушка спохватывалась и строго говорила: «Любую, только не рыбку», – и я покорно кивала.
Бабушки не стало в январе 1982-го, но незадолго до Нового года мы с ней, конечно, соблюли традицию и пошли на рынок выбирать что-нибудь новенькое (никаких рыбок, разумеется). На сей раз было без вариантов – папа кокнул макушку, нужна была замена. Макушек мы нашли ровно два вида – в виде ракеты и звезды, я выбрала ракету. И пока бабушка расплачивалась, я налегла на прилавок, старательно глядя в сторону, стащила шарик с рыбкой и выпустила его из рукава в валенок, благо он был на пару размеров больше нужного, рыбка легко нырнула и покойно застряла между ногой и мягким голенищем.
Я шла, неся себя словно хрустальную вазу. Мне не приходило в голову, что я сделала что-то плохое, и совсем не было идей, как я буду объяснять появление на елке этого чуда, а шарик был действительно чудесный: синий, рыбка – золотая, а «дождик-водоросли», глядите-ка, не зеленый как обычно, а какой-то даже гранатовый! Таких вообще ни у кого никогда не было, мне страшно повезло, я счастлива! Дома бабушка, ворча, прошла на кухню, а я, еле справляясь с сердцебиением, вытащила из валенка шарик и спрятала его на дне бака с грязным бельем, зная, что стирка будет не скоро, поэтому в баке точно никто не будет копаться в ближайшее время. Мы надели на елку новую макушечку, и все обещало быть прекрасным.
Еле дождавшись, когда бабушка, с которой мы жили в одной комнате, уснет, я прокралась в ванную и заперлась. Теперь я могла наглядеться на свою красоту сколько душе угодно. Не знаю, сколько я просидела, зачарованная, на стиральной машине, держа в руках чудо советского стеклодувного искусства. Мысль достать рыбку пришла не сразу, но потом мне страшно захотелось хоть немножко подержать ее, недостижимую в этом пузатом аквариуме-крошке. Поколебавшись, я потянула за проволочку-распорку, сперва вытянулся дождик, а уже за ним на ниточке – рыбка. От нетерпения я тянула слишком сильно, и половина фольгового хвоста оторвалась и осталась в шарике, с досадой я рванула еще сильней – и вот уже куцая рыбка трепещет в моих жадных пальцах, на которых остается позолота, рыбка вянет, умирает на моих глазах… я дико реву, пытаюсь запихать ее обратно, но она окончательно, безвозвратно гибнет. В отчаянии я стараюсь засунуть в шарик хотя бы дождик, но роняю шарик – и вся ванная сверкает синими тонюсенькими осколками. Ужас и понимание, что я своими руками разрушила свою только что воплощенную мечту, накрыли меня разом, я лежала на полу ванной, и слезы заливались в уши. Так меня и нашла бабушка, вставшая запить лекарство. Как-то она сразу все поняла, ведь я пятый год все уши ей прожужжала этой рыбой. «Ах, детонька, – сказала расстроенная бабушка, – ну что же ты наделала… как же это нехорошо – украсть!.. Бог все видит, тебе вот урок будет, нельзя брать чужое, нельзя воровать, грех это какой! Я приберу тут, иди в постель…» И я поплелась, мне совсем-совсем не было стыдно, а было очень обидно. Спаситель в углу над кроватью грустно смотрел куда-то поверх моей головы.
Любимая бабушка не рассказала родителям о проступке любимой внучки. 1 января у нее был день рождения, а 9 января ее не стало. И почему-то так получилось, что мы с ней почти не разговаривали с той ночи, эти ее слова про грех и воровство – последние, которые я помню и вспоминала еще несколько раз в жизни, когда присваивала что-то чужое.
На Новый год тогда я получила подарок – коробку с шестью разноцветными шарами, в каждом из которых мерцала золотая или серебряная рыбка, и родители страшно удивлялись, почему я так горько плачу, держа в руках эти сокровища, ведь они знали, как я хотела такую игрушку, а тут-то целых шесть! Бабушка ни взглядом, ни вздохом не показала мне, что она-то понимает причину этих злых слез. После ее смерти на рынок перед Новым годом мы с родителями никогда не ходили, и только в середине 90-х я впервые отважилась это сделать, взяв за руку свою трехлетнюю дочку. Ее оставили совершенно равнодушными стеклянные лисы, космонавты, снегурочки и шишки и только рыбки в шариках заставили ахнуть и прижать варежки к груди. И именно в этот момент я почувствовала, что мое личное детство только что закончилось навсегда.
Tasuta katkend on lõppenud.