Парадокс одиночества. Глобальное исследование нарастающей разобщенности человечества и ее последствий
Tekst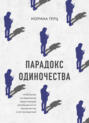


Mine üle audioraamatule
- Maht: 380 lk. 3 illustratsiooni
- Žanr: будущее и технологии, Välisriigi õppekirjanduse, Antropoloogia, Sotsioloogia
Иммиграция как вооружение
Независимо от того, является ли предлагаемое сообщество онлайн или личным, у него, конечно же, есть определенная характеристика: открытое исключение других. Наряду с акцентом правых популистских партий на принадлежность, с их пивными вечерами и надувными замками, всегда было четкое сообщение о том, кого не приглашают. Подумайте, например, о тысячах голосов, скандирующих, как гимн, на митингах Трампа: «Построй стену». Подтекст послания правых популистов о единстве – это расовая, религиозная или националистическая эксклюзивность. Противопоставление «нас» и «их», «мы» и «они». В этом их самая большая опасность.
Преследуя тех, кто чувствует себя одиноким и брошенным, и создавая сообщество по национальному или расовому признаку, популистские лидеры используют свой трайбализм в качестве оружия против людей, которые отличаются от них. Эти политики поняли, что для тех, кто чувствует себя отверженным, брошенным и одиноким, для тех, кто не привык справляться с различиями и чьи традиционные источники идентичности, будь то класс, работа или церковь, уже не так сильны и безопасны, как когда-то, «социальные идентичности, такие как национальность, этническая принадлежность, язык и пол, становятся, как писали профессора Микко Салмела и Кристиан фон Шеве, более привлекательными как источники значимости (и) чувства собственного достоинства». Я бы добавил к этим «источникам» очарование принадлежности.
Именно здесь
манипулирование одиночеством и изоляцией популистов принимает свою самую уродливую и вызывающую разногласия форму.
Помните, как одинокие люди склонны считать свои районы более враждебными и угрожающими. Вспомните нашу одинокую мышь и то, какой агрессивной она стала, когда к ней запустили другую мышь. И помните, как способность нашего мозга к сочувствию может подавляться одиночеством. Усиливая у своих последователей чувство покинутости и маргинализации и противопоставляя это очевидному политическому благоволению к людям, непохожим на них – как правило, к иммигрантам, – разжигание страха правыми популистами обостряет эмоции, тревогу и неуверенность своих последователей и манипулирует этническими и религиозными различиями, чтобы заручиться верностью и поддержкой. Они сочетают это с призывом к ностальгии по ушедшей эпохе, когда люди, согласно этой версии истории, были более связаны, счастливы и обеспечены до того, как «эти иммигранты прибыли и украли ваши льготы и рабочие места».
Теперь, конечно, правые популисты добавляют к этому: «до того, как эти иностранцы заразили вас смертельным вирусом». Когда разразилась пандемия, ряду политиков-популистов не потребовалось много времени, чтобы использовать кризис, чтобы разжечь расовую, этническую и религиозную напряженность и демонизировать тех, кто отличается от них.
В США пристрастие Дональда Трампа называть COVID-19 «китайским вирусом» спровоцировало волну нападений на американцев азиатского происхождения. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан перешел от обвинений группы иранских студентов, которые были помещены в карантин и позже у них выявили положительный результат на заражения вирусом в Венгрии, к объявлению всех университетов подверженными вирусу, потому что «там много иностранцев». В Италии Маттео Сальвини ошибочно связал распространение болезни с просителями убежища, которые пересекли Средиземное море и попали в Италию из Северной Африки. Доказательств этого утверждения он не представил. Использование болезней как орудия расовой розни и националистического пыла, конечно же, имеет давние исторические прецеденты. Евреев обвиняли в эпидемии Черной смерти, охватившей Европу в четырнадцатом веке, в результате которой были убиты тысячи людей. «Иностранцы» подверглись нападению толпы во время миланской чумы 1629–1631 годов, особенно уязвимыми были испанцы; а ирландские иммигранты якобы несли ответственность за вспышки холеры в американских городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, в 1830-х годах.
Пандемии и ксенофобия всегда были взаимосвязаны.
Тем не менее, еще до того как пандемия коронавируса предоставила новую линию атаки против иных, сторонник Лиги Джорджио в Италии, очевидно, усвоил эти сообщения об антагонистическом трайбализме. «Правительство ставит своих граждан на второе место после иммигрантов, прибывающих из Африки, – сказал он мне, – людей, которые приезжают сюда и отдыхают, в то время как многие коренные итальянцы работают на полях без каких-либо социальных прав. Вы должны заботиться о своем сообществе и людях, которые уже живут в вашей стране, а не о людях, которые приезжают из Африки».
Поддерживающий Трампа Терри из восточного Теннесси тем временем выступал против «людей, которых здесь быть не должно, которые забирают льготы, финансы и рабочие места у людей, которые боролись за свою страну. У нас есть бездомные ветераны, а они хотят привезти беженцев из других стран. Нам нужно позаботиться о своих людях».
Как и теории заговора о коронавирусе, это неподтвержденные факты. Беженцы в Германии не получают «денег просто так», помимо тех же социальных выплат, которые получает каждый гражданин, и они фактически сталкиваются с жилищной дискриминацией во многих местах; в США ветераны и граждане имеют право на гораздо большее количество льгот, чем беженцы и иммигранты без документов. Но для тех, кто чувствует себя брошенным, одиноким и игнорируемым; для тех, кто больше не чувствует себя связанным ни с согражданами, ни с государством; для тех, кто уже более склонен считать свое окружение пугающим и враждебным, полным змей, а не палок, и более восприимчив к конспирологическим теориям (как показали недавние исследования те, кто чувствует себя социально исключенными или изгоями), такие позиции, пропагандируемые правыми популистами, явно привлекательны.
Действительно, недавний анализ более 30 000 человек, набранных в рамках Европейского социального исследования (интенсивный анкетный опрос, используемый многими социологами), показал, что тех, кто выражал самые крайние антииммигрантские взгляды, отличали не основные демографические данные, такие как пол и возраст, а вместо этого – финансовая незащищенность, низкий уровень доверия к своим согражданам и правительству, а также социальная изоляция. «В целом, – заключили исследователи, – люди, которые чувствуют себя политически беспомощными, финансово незащищенными и лишенными социальной поддержки, с наибольшей вероятностью станут крайне негативно относиться к мигрантам». И каковы эти три характеристики? Все они являются ключевыми факторами одиночества.
Ксенофобия как механизм объединения
Возложение вины на кого-то другого, кого-то, кого вы изображаете отличным от вас, кого-то, кого вы на самом деле не знаете, – поскольку, как правило, самый сильный антииммигрантский пыл проявляется в местах с низким уровнем иммиграции – оказывается выигрышной стратегией. Во многих случаях это было более эффективно, чем возложение вины на глобальную экономику, неолиберализм, автоматизацию, сокращение государственных расходов или искажение приоритетов государственных расходов, даже если это более точное объяснение того, почему многие люди чувствуют себя маргинализированными. Правые популисты лучше, чем кто-либо другой, понимают, в какой степени эмоции превосходят рациональность и сложность, и насколько мощным инструментом может быть страх. И они используют это, повторяя снова и снова свои сообщения, направленные против иных. Даже если в течение следующих нескольких лет поддержка правых популистов ослабнет, было бы преждевременно бить в похоронный колокол популизма. Его власть над воображением, эмоциями и избирательными намерениями значительной части граждан, вероятно, сохранится.
Дополнительную озабоченность вызывает то, что раскольническая риторика с расистским оттенком часто заразительна сама по себе.
В провокационной попытке отразить вызов правого популистского кандидата Герта Вилдерса непопулистский правоцентристский премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в 2017 году разместил в газете заявление, в котором иммигрантам предлагалось «быть нормальными или уходить». Датские левоцентристские социал-демократы одержали победу на выборах в Дании в 2019 году с манифестом, который вызывал тревогу у крайне правых, когда дело касалось вопросов иммиграции. Действительно, во многих отношениях самая большая опасность, связанная с ростом популизма в последние годы, заключается в том, что он доводит традиционные партии как правых, так и левых до крайности и нормализует дискурс разногласий, недоверия и ненависти.
Я опасаюсь, что в мире после COVID-19 эти инстинкты будут еще больше усиливаться, и что здоровье и биологическая безопасность отдельных наций будут не только рассматриваться популистами как благодатная почва для эксплуатации, но и более центристские политики будут искать политический капитал, призывая к возведению стен, обвиняя и демонизируя «других».
Это не отменяет индивидуальной ответственности людей. Часто бывает трудно с уверенностью сказать, что на первом месте: расистские настроения, ксенофобские заявления популистских лидеров и распространение их популярности в социальных сетях или экономические, культурные и социальные сдвиги, которые привели к тому, что так много людей почувствовали себя маргинализированными, неподдерживаемыми, неуслышанными и напуганными. Но что ясно, так это то, что для тех, кто чувствует, что им больше нет места в мире, кто чувствует отсутствие принадлежности и поддержки, для тех, кто боится за свое будущее и чувствует себя покинутым и одиноким, ненависть к другим может стать, как и Ханна Арендт видела в нацистской Германии, «средством самоопределения», смягчающим их чувство одиночества и «восстанавливающим часть самоуважения… которое прежде было связано с их ролью в обществе». Особенно, я бы сказала, во времена экономического кризиса.
То, что описывает здесь Арендт, объединяет чувства одиноких и обездоленных разных поколений – от тех, кто жил в Германии 1930-х годов, до тех, кто живет сейчас в двадцать первом веке. Их типичным примером является один молодой человек, Вильгельм, чьи слова предполагают, что он мог бы жить сегодня в Германии Третьего рейха или в любом другом экономически разоренном государстве. Этот «красивый молодой человек чуть менее шести футов ростом, стройного телосложения, с темными волосами и глазами и чрезвычайно умным лицом» был безработным в течение нескольких лет после экономического спада и объяснил, как он себя чувствовал:
«Ни для кого из нас не было места. Мое поколение, которое так много и с такими ужасными страданиями работало, было никому не нужно. В конце моего пребывания в университете я был безработным в течение года… в течение пяти лет я оставался безработным и был сломлен телом и духом. Я не нужен был здесь (Германия) и уж точно, если не нужен был здесь, то и не нужен нигде в мире… Жизнь для меня стала совершенно безнадежной».
В случае с Вильгельмом он фактически описывал свои чувства в 1930-е годы. Он продолжил:
«Именно тогда меня представили Гитлеру… Жизнь для меня приобрела огромное новое значение.
С тех пор я посвятил себя телом, душой и духом этому движению за возрождение Германии».
Причины и последствия одиночества лежат в основе важнейших политических и социальных вопросов, стоящих перед нашим обществом. В последнее время лучше всего это понимали политики-популисты, особенно правые. Но мы не можем допустить, чтобы их воспринимали как единственных политиков, предлагающих решения тем, кто испытывает одиночество. Слишком многое поставлено на карту.
Это означает, что политикам всех мастей нужно будет найти ответы на некоторые очень сложные вопросы. Как сделать так, чтобы и без того уязвимые группы в обществе не подвергались дальнейшей маргинализации? Как сделать, чтобы люди чувствовали поддержку и заботу в эпоху, когда ресурсов становится все меньше? И, что важно, как заставить людей заботиться не только о тех, кто похож на них, с той же историей, культурой и происхождением, но и о тех, кто не похож на них? Как объединить людей в мире, который разрывается на части?
Столь же важно то, что наши лидеры должны найти способы сделать так, чтобы все их граждане чувствовали, что их слышат и видят. И они должны убедиться, что у людей есть достаточно возможностей практиковать инклюзивность, вежливость и терпимость в своей повседневной жизни. Сейчас как никогда нам нужно, чтобы политики ставили в основу своих проектов твердую приверженность восстановлению общества на местном, национальном и международном уровнях. И обнадеживает то, что администрация Байдена так явно привержена этому.
Но чтобы понять, как мы можем эффективно переломить ситуацию в борьбе с одиночеством, оживить чувство общности граждан и начать устранять расколы между нами, нам нужно копнуть глубже. Нам нужно более детально понять, почему это одинокий век не только для тех, кто прислушивается к призыву популистов, но и для всех нас. И эта работа начинается с наших городов, ибо они все больше становятся эпицентрами изоляции.
Глава четвертая
Затворнический город
Нью-Йорк, 2019 год. Каждый раз, когда Фрэнк уезжает из города, он убирает фотографию своего покойного отца и запирает ее в шкафу вместе с другими своими ценностями, чтобы «защитить» их от гостя Airbnb, который будет спать в его постели через несколько часов.
Это было не то, о чем мечтал 32-летний Фрэнк, когда несколько лет назад переехал на Манхэттен в надежде на блестящую карьеру в области графического дизайна. Однако рост цифрового контента и последующее сокращение печатных СМИ и рекламных бюджетов привели к резким увольнениям в его области. Поэтому в 2018 году, несколько неохотно, он присоединился к гиг-экономике, получив работу на Upwork или Fiverr, а иногда и через личные рекомендации. Размещение незнакомцев в своем доме с помощью Airbnb было единственным способом, которым он мог позволить себе отпуск. Он постоянно беспокоился о ненадежности своей работы и о том, сможет ли он продолжать платить за квартиру.
Такая экономическая нестабильность была бы проблемой для любого, но жизнь Фрэнка усложняла жизнь в самом городе. Поначалу он очень гордился тем, что заплатил первый взнос за свою первую собственность – крошечную квартиру-студию в высотном здании в центре города. Но вскоре, возвращаясь по вечерам на свое пустое место или, что еще хуже, застряв в нем на весь день из-за своей работы, он признавался, что слишком часто оно казалось скорее гробом, чем уютным местом. Тем более, что в его доме не было ни одного человека, которого он знал бы достаточно хорошо, чтобы зайти выпить кофе, не говоря уже о ком-нибудь, с кем он мог бы расслабиться за кружкой пива, когда дневная работа была сделана. Несмотря на то что он прожил в этом доме пару лет, дело было не в том, как он сказал, что «ни один сосед не знает моего имени», а в том, что «каждый раз, когда я прохожу мимо них в коридорах или в лифте, они как будто никогда меня раньше не видели».
Холодная анонимность многоквартирного дома Фрэнка казалась мне микрокосмом его опыта жизни в большом городе в целом.
«Здесь никто не улыбается», – говорит он о Манхэттене. Все с головой в своих телефонах, фитнес-браслетах, следящих за их пульсом, вокруг гримасы или лица, не выражающие эмоций, весь город казался ему безжалостным, враждебным и суровым. Если бы не дружелюбный суданский официант в местном кафе, куда он иногда брал свой ноутбук, чтобы поработать, он сказал мне, что, возможно, несколько дней вообще ни с кем не разговаривал бы.
Фрэнк также говорил о том, как трудно заводить друзей в городе, где все, казалось, были так заняты, так торопились, так стремились к самосовершенствованию, что у них, казалось, не было времени остановиться и поболтать, не говоря уже о том, чтобы завести новых друзей или развивать уже существующие отношения. В результате слишком часто он проводил вечера, отправляя сообщения «какой-нибудь случайной женщине в Tinder», не потому, что он действительно хотел пойти и встретиться с ней – это казалось слишком большим усилием, – а просто для того, чтобы «поговорить» с кем-то, ощутить человеческий контакт, чтобы облегчить одиночество, которое он чувствовал. И даже несмотря на то, что в маленьком городоке на Среднем Западе, где он жил раньше, он ощущал себя подавленным, и даже несмотря на то, что Нью-Йорк был тем местом, где, по его мнению, он «должен был быть», чтобы иметь шанс «сделать что-то» в плане карьеры, когда мы разговаривали, было ясно, что он испытывает чувство потери теперь, когда он живет в месте, где он ничего не знает о людях, с которыми он живет бок о бок, и где бесчисленное множество других проходят мимо него по тротуару каждый день, не замечая его существования. Потому что, когда он говорил о «хороших моментах жизни дома», и особенно когда он вспоминал о том времени, когда он занимал руководящую должность в местном молодежном клубе, в его энергичном голосе и энтузиазме чувствовалось, что
для Фрэнка ощущение принадлежности к сообществу было чем-то, что он потерял, переехав в город, и ему этого очень не хватало.
Здесь никто не улыбается
То, что города могут быть одинокими местами, конечно, не ново. Как писал эссеист Томас де Квинси: «Ни один человек никогда не был предоставлен самому себе, впервые оказавшись на улицах Лондона, но он, должно быть, был опечален и огорчен, возможно, напуган чувством покинутости и полного одиночества, которое связано с его положением… бесконечные лица, безмолвные или без выражения для него; бесчисленные глаза… и спешащие фигуры мужчин, движущиеся взад и вперед… похожие на маски маньяков или, часто, на карнавал призраков».
Де Куинси писал о Лондоне девятнадцатого века, но он мог бы описать любой город сегодняшнего века одиночества. Еще до того как разразился коронавирус и социальное дистанцирование и встречи в масках стали нормой, 56 % лондонцев заявляли, что чувствуют себя одинокими, а 52 % жителей Нью-Йорка утверждали, что их город был «одиноким местом для жизни». В глобальном масштабе этот показатель составил 50 % для Дубая, 46 % для Гонконга и 46 % для Сан-Паулу. Даже в Париже и Сиднее, занимающих соответственно одиннадцатое и двенадцатое места в списке самых одиноких городов по версии City Index Survey, мы по-прежнему говорим о том, что более трети респондентов отмечают городское одиночество в месте, которое они называют домом.
Не то чтобы одиночество было исключительно городской проблемой. В то время как горожане, как правило, более одиноки, чем их сельские коллеги, жители сельской местности могут испытывать свои собственные особые и глубокие формы одиночества: относительное отсутствие общественного транспорта означает, что те, у кого нет автомобилей, могут чувствовать себя очень изолированными; миграция молодых людей в города, далекие от семьи, приводит к тому, что значительное число пожилых людей в сельской местности остаются без ближайших структур поддержки; тот факт, что государственные расходы во многих местах имеют тенденцию отдавать предпочтение городским центрам, означает, что сельские жители с большей вероятностью будут чувствовать себя маргинализированными, когда речь заходит о приоритетах правительства. Тем не менее, понимание уникальных характеристик и причин одиночества в современном городе имеет особое значение здесь и сейчас, учитывая степень урбанизации мира. К 2050 году почти 70 % населения мира будет жить в городах, причем каждый десятый из них будет жить в городах с населением более 10 миллионов человек. По мере того, как все большее число людей устремляется во все более плотно заселенные городские пространства, хотя, возможно, и медленнее, чем до пандемии, понимание влияния городов на наше эмоциональное здоровье становится все важнее, особенно когда мы делаем выбор в отношении того, как нам жить после COVID-19.
Грубее, резче, холоднее
Так что же такого в современных городах, что делает их такими холодными и одинокими?
Если вы живете или работаете в городе, подумайте о типичных ежедневных поездках на работу в двадцать первом веке: толкания, чтобы сесть в битком набитый вагон, агрессивные сигналы других водителей, если вы едете на машине, анонимные толпы неулыбчивых людей, спешащих мимо, не обращая внимания на ваше существование.
Образ грубого, резкого, замкнутого горожанина – не просто стереотип. Исследования показали, что не только уровень учтивости в городах ниже, но и то, что чем более густонаселеннее город, тем ниже уровень учтивости. Отчасти это вопрос масштаба; когда мы знаем, что у нас гораздо меньше шансов увидеть прохожего когда-либо снова, мы чувствуем, что можем уйти с определенным отсутствием учтивости (возможно, столкнувшись с ним и не извинившись, или, может быть, даже захлопнув дверь перед носом).
Анонимность порождает враждебность и пренебрежение, а город, наполненный миллионами незнакомцев, слишком анонимен.
«Как часто вы чувствуете, что люди окружают вас, но они не с вами?» – спрашивает шкала одиночества Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которую мы рассматривали ранее. В городе люди всегда окружают вас, но редко возникает ощущение, что они «с вами».
Размер города не только порождает грубость, но и провоцирует своего рода защитный механизм для многих из нас. Точно так же, как когда мы сталкиваемся с двадцатью вариантами варенья в супермаркете, мы, как правило, не покупаем ни одного, так и при столкновении со всеми этими людьми наша реакция часто состоит в том, чтобы уйти. Это рациональный ответ, чтобы не чувствовать себя перегруженным. Хотя общение с другими как с полноправными, энергичными людьми – это то, к чему многие из нас стремятся или говорят себе, что это делают, реальность такова, что жизнь в городе требует от нас делиться пространством со столь большим количеством людей, что если бы мы выжимали каждому прохожему полную долю человечности, это исчерпало бы наши социальные ресурсы. Как пишет Шеннон Дип о своем опыте в Нью-Йорке: «Если бы мы здоровались со всеми, кого встречаем, то уже к полудню мы бы охрипли. Вы не можете быть “дружелюбными” со всеми семьюдесятью пятью людьми во всех десяти кварталах между вашей квартирой и метро».
Поэтому вместо этого слишком часто мы поступаем наоборот. Ошеломленные городской суетой, шумом и постоянной бомбардировкой визуальными стимулами, горожане еще до появления коронавируса были склонны эффективно социально дистанцироваться – не физически, а психологически – путем создания своих личных ходячих коконов, закрывая уши наушниками, надевая солнцезащитные очки или зарываясь в изоляцию с помощью своих телефонов.
Благодаря Apple, Google, Facebook и Samsung еще никогда не было так легко отключиться от людей и мест вокруг нас и создать свои собственные социально контрпродуктивные пузыри цифровой конфиденциальности.
Ирония, конечно, в том, что когда мы отключаемся от массы человечества вокруг нас в реальном мире, мы подключаемся к альтернативной виртуальной версии, когда просматриваем изображения жизни людей в Instagram или их мысли в Twitter.
Некоторые социальные теоретики и семиотики даже заходят так далеко, что говорят, что в городах развилась «культура негативной вежливости», социальные нормы, в которых считается грубым навязывать чье-то физическое или эмоциональное пространство без причины, хотя, конечно, существуют географические и культурные различия. В лондонском метро, например, большинство сочли бы странным получить теплое приветствие от прохожего и были бы удивлены или даже раздражены, если бы незнакомец попытался завязать с ними разговор. Устоявшаяся социальная традиция – читать газеты и молча смотреть в телефоны.
Я понимаю важность конфиденциальности. Я также понимаю, почему заглядывание в окна в сельских общинах толкает множество людей в городские пространства и их окрестности, в места, где они могут жить так, как хотят, без социального неодобрения. Тем не менее, истории о городской отчужденности во время локдауна еще более наглядно демонстрируют последствия анонимности городской жизни. Среди согревающих сердце сказок о солидарности и сотрудничестве были и такие душераздирающие, которые слишком ясно давали понять, что городская частная жизнь обходится недешево. Хейзел Фельдман, 70-летняя женщина, живущая одна в однокомнатной квартире в центре Манхэттена, очень трогательно описала, как во время изоляции она оказалась без соседей, на которых она могла бы положиться, чтобы помочь ей с покупками продуктов: «В новостях продолжали говорить: “Люди объединяются”. Они может и объединялись, но не здесь. Только не в зданиях такого типа». Так же, как и Фрэнк, хотя она регулярно видела других жильцов в коридорах и лифтах своего стоквартирного дома, она на самом деле не знала никого из них, не говоря уже о том, чтобы считать их друзьями.
Наша культура уверенности в себе и суматохи, столь ценимая неолиберальным капитализмом, обходится дорого. Поскольку, когда соседи незнакомы, а дружелюбие и связь далеки от нормы, опасность заключается в том, что в те моменты, когда мы больше всего нуждаемся в сообществе, его просто нет.
Нормы относительно того, как мы взаимодействуем с окружающими нас людьми в городах, плохо служат нам, и пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем, изменит ли воздействие коронавируса к лучшему или к худшему наше поведение в долгосрочной перспективе. Если люди в городах уже сопротивляются дружеским предложениям из-за «культуры негативной вежливости», что происходит, когда на них накладывается страх заразиться? Станет ли спонтанное общение с незнакомцами еще более чуждым? Будут ли те из нас, кто предлагал нашим пожилым соседям покупать продукты и оставлять их за дверью, продолжать навещать их, когда опасность минует? Или мы вернемся к простому безразличию к ним?
