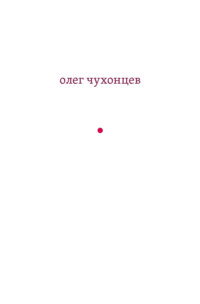Loe raamatut: «и звук, и отзвук: из разных книг»
Font:

Из неизданной книги «Замысел» (1960)

* * * («Еще туман висит над городом…»)
Еще туман висит над городом
и сто сорок из-под стрехи
молчат, покуда перед гомоном
кричат вторые петухи.
Еще скрывается за шепотом
непробудившаяся страсть,
и капля светится под желобом,
вот-вот готовая упасть.
1959
* * * («Весна. По улице прошла…»)
Весна. По улице прошла
подзагулявшая гармошка,
и белым цветом зацвела
в прохладном подполе картошка.
Под вечер курочка тишком
снесла яичко, а спросонок
уже гуляет петушком
неоперившийся цыпленок.
1959
* * * («Взрыв пугливых снегирей…»)
Взрыв пугливых снегирей,
карк ворон непуганых –
и уже свистит хорей
на снегах обугленных.
И уже издалека –
не Боян ли сокола
выпускает в облака
и на лебедь – с облака?
Крови, крови молодой!
славы, славы песенной,
соколиною страдой
на лету подрезанной!
А внизу – такая рань
ранняя, израненная,
что хоть оземь грудью грянь –
вот оно, призвание!
И такой бродильный чад
в ельнике-орешнике,
что как пьяные летят
пчелы на подснежники!
Эти талые моря,
озими зеленые,
в зарослях осокоря
гнезда оголенные –
всё – и горлицы запруд,
и промоен звонницы –
только повода и ждут,
чтобы разглаголиться.
Так звени, напоена,
радость двуединая:
молодость моя, весна –
песня лебединая.
1960
* * * («Как по бору да в зелену пору…»)
Как по бору да в зелену пору
с первым парнем гуляла б на пару,
всё поляны, лесные цветы;
не ходила б на Красную гору,
там недаром приметили паву,
там не зря приоделись сваты.
Там в подполье припрятаны яства,
а из дома – не выметут сора,
а уж вытурят – значит взашей:
молодая сноха – для хозяйства,
а ночная собака – для вора,
а недремлющий кот – для мышей.
1959
* * * («Мы посадские, слободские…»)
Мы посадские, слободские,
наши ножички заводские
ваши сумочки от Диора
чик-чирик – и адьё, мадам! –
шлет привет вам отдельный Жора,
вам и фирменным фраерам.
Мы на Курский к вам для прополки
прибываем на третьей полке
с петушинской братвой гулять,
не в ментовские рестораны
лебедей чесать, а в шалманы,
где на шухере не стоять.
Там, в распивочной на Тишинке,
где две фиксы у шустрой Нинки
тяжелей, чем жилищный пай
на двухкомнатную квартиру,
там оттянемся – не до жиру:
хлопнул беленькой – и гуляй!
А уж как мы и с чем обратно –
это в общем и так понятно,
чай не сироты, чтоб к харчам
не прибавить своей капусты,
пусть сегодня не очень густо,
завтра точно возьмем качан…
Конец 1950-х
* * * («Зажила вода и колос вызрел…»)
Зажила вода и колос вызрел.
Звезд мирьяды проросли в зенит.
В это полнолунье хруст как выстрел,
тишь такая, что в ушах звенит.
Берег. Под удилище – полено,
а само удилище – в песок.
Так-то, брат. И локоть на колено.
Гвоздик в зубы, взгляд на поплавок.
Вон с ведром идет знакомый дачник
и бросает камешек с моста:
– Мой коллега, вижу, неудачник.
извиняюсь, надо знать места. –
И пройдет, гремя мостками, к даче
как урок… И снова тишь да гладь…
Уж не рыбку ль золотую, старче,
ты задумал на живца поймать?
Да уж где тут, всюду ил да тина,
насиделся и у дальних рек,
золотая рыбка – строганина,
лес да тундра – не забудешь век.
Вот и жди… ни клёва, ни старухи.
Неподвижны поплавки светил.
Только черви в банке, только слухи.
Ты не эту сказку проходил…
1958
* * * («Появился как должно он с криком на свет…»)
Появился как должно он с криком на свет,
человек, не имевший ни метрик, ни лет,
не умевший ходить, не умевший писать,
человек, не умевший и слова сказать,
не сказавший ни правды, ни лжи – ничего,
появился – и всё! принимайте его!
Чтоб никто его спутать с другими не мог,
привязали к лодыжке ему номерок,
что действительно он появился на свет,
выдал загс за печатью ему документ.
Вот он в люльке своей объезжает квартал,
где сосульки срываются на тротуар,
где работает дворник метлой и скребком,
где стоит постовой с милицейским свистком,
а вокруг – воркование, щебет, шаги,
подрастают друзья, подрастают враги,
занимается день, и гульгулит вода,
и летят облака неизвестно куда,
и летит неизвестно куда самолет,
и бликующий свет за коляской идет,
и глядит на него, не скрывая родства,
вся природа в минуту его торжества!
1958
* * * («Вечером на даче…»)
Вечером на даче
свечку засвети.
Бабочки сгорают
в пламени свечи.
Падают под ноги,
падают к ногам –
глупая доверчивость…
ну а как же нам?
А у нас – иначе,
а у нас – не так:
в гости приглашает
закадычный враг.
А глаза в глазницах –
далеко вдали –
навели на мушку,
ждут команды – пли! –
Пли! –
и плеск из рюмок.
Пли! –
в зубах икра.
Действие второе,
новая игра.
Он мне – реверансы,
я ему – поклон.
Шпарю как оратор
на магнитофон.
Близится развязка:
– ну-ка по одной!
Вот он видит крылья
за моей спиной.
О глядит задумчиво –
грудью на столе –
как, сгорая, корчится
спичка в хрустале.
Спрашивай!
выспрашивай!
принимай всерьез!
Кто огонь,
кто бабочка –
еще вопрос!
1958
* * * («Просыпались от странных мелодий…»)
Просыпались от странных мелодий:
человек на фаготе играет,
а играет он так на фаготе,
как скрипучую дверь отворяет,
не спеша, постепенно, не сразу
он мычит музыкальную фразу.
Где мотив? композиция? тема?
вверх и вниз. вниз и вверх. нота к ноте.
капля к капле. по темени. в темя.
он гудит, он дудит на фаготе.
А соседи его убеждали,
а жильцы его предупреждали,
а жильцы и соседи не спали,
по инстанциям жалобы слали,
объясняя всю суть по порядку,
чтоб призвать гражданина к порядку,
чтобы выжить из дома, со света
тунеядца с приветом и ферта…
Но однажды во время концерта
увидали соседи соседа.
Не читалась с листа партитура,
а творилась безумное что-то,
и как буря была увертюра,
но слышна была каждая нота –
для кларнета, валторны, тромбона,
саксофона, корнет-а-пистона,
для гобоя, рояля, свирели,
контрабаса и виолончели,
для фагота, еще для кого-то,
кто уж вовсе не наша забота.
Пели скрипки, сойдясь в середину,
вздулись жилы у баритона,
зал подался вперед и – отхлынув –
зазвучал на манер камертона.
И повеяло чем-то забытым,
чем-то давним, до времени скрытым…
Вспоминали: живет за стеною,
ну хотя б обзавелся женою,
а фагот, он такой, понимаешь,
для любимой на нем не сыграешь…
Плыл мажор озорной и могучий
и плевать, что не слышно фагота! –
в этой сшибке и пенье созвучий
был и пафос его, и работа.
А когда оборвется звучанье,
есть секунды победы и муки:
это зал разразится молчаньем
и опешат счастливые руки!
1960
* * * («Ночной город…»)
Ночной город,
молчаливый и мокрый;
на остановке у края лужи –
запоздалый троллейбус, похожий на аквариум,
от переднего колеса – волны,
а задним – берегись – обдаст!
Ночной город.
уже погасили огни
стрелы подъемных кранов,
уже после гимна смолкли
оглохшие за день рупора.
Ночной город.
есть в нем свои открытия,
когда в подъезде под лестницей
торопливо целуются,
когда на безлюдной улице
читают на память стихи.
Ночной город,
прости за бессвязное бормотанье.
я бы тоже хотел
так уметь молчать,
как курсант у твоего мавзолея.
я бы тоже хотел
три раза услышать сердце
в промежутках
между
каждым
ударом
курантов…
1959
* * * («Прихваченные изморозью лужи…»)
Прихваченные изморозью лужи.
Еще дождит. А скоро и зима.
А скоро снег. Ты знаешь это лучше.
Наверное, ты ждешь его сама.
Обшарпанный подъезд. Навес у дома.
И в шашечку такси из полутьмы.
Всё это так забыто. Так знакомо.
И двое незнакомых – это мы.
Две тени, не очерченные четко.
Два профиля, размытых на стене.
Намокший плащ. Торчащая прическа.
Щека для поцелуя – это мне.
К чему слова. Достаточно и жеста.
Что было или не было – прошло.
Тебя ли выкликают из подъезда,
меня ли ждет зеленое стекло?..
Врываясь в свет, накрапывает с неба
последний дождь, смывает след колес.
А скоро снег. А скоро тучи снега…
Всё к лучшему, как говорил Панглос.
1958
* * * («В каске желтой, час за часом…»)
В каске желтой, час за часом,
в шубе черной, день за днем,
он ходил, дозорным глазом
озирая всё кругом.
Он ходил и думу думал,
неуставно дым пускал
и винтовку книзу дулом
на одном плече таскал.
А внизу теснилась школа,
бестолково шел урок.
Почему же бестолково?
Бестолочам невдомек.
Шел урок, учитель сонный
раздраженно мел крошил,
а в окне как заведенный –
он кружил, кружил, кружил.
Видно было и воронам,
да не ведал педсовет,
что над каждым охламоном
выше есть авторитет.
И чего он, в каске медной
верхогляд и свинопас,
небожитель неприметный,
почему он мучит нас?
Потому что нет приятней,
чем окинуть с высоты
фабрики и голубятни
и капустные листы,
потому что в окулярах
необыкновенный мир:
жар стреляет в самоварах
и потрескивает тир.
Там весь мир как на ладони:
и вдали аэроплан,
и коза на стадионе,
и кинотеатр «Вулкан»,
и на штрипках шаровары,
и в хлеву любая клеть,
а пожары так пожары –
есть на что и посмотреть,
и сады, сады без счета,
и вокруг – во весь размах –
город с птичьего полета
с караульным в небесах!..
Может быть, всё дело в этом,
в этом, а ни в чем ином,
и не стал бы я поэтом,
не маячь он за окном,
ведь оттуда надо мною
вспыхнула моя звезда!
Жизнью, памятью, судьбою
всё тянусь еще туда.
1960
Осажденный. 1238 (поэма)
1
За лесами за зимними –
ни огня, ни жилья.
Глянь озерами синими,
выйди, радость моя!
Вечно песня не вовремя.
Хочешь, я подпою?
Из огня да и в полымя,
а не то – в полынью.
Не по мерке свобода нам,
нам, в чужие края
занесенным, запроданным,
вечна воля твоя.
За борами за дивьими
тишь такая – аж звон.
Грянь ручьями да льдинами
на распутьи времен.
Пусть кручины изгладятся,
как морщины с лица.
Встань же, радость-красавица,
супротив молодца!
……..
Развевается на ветру волос.
Наливается поутру колос.
Подымись с крыльца на забрало.
Помолись за отца и за брата.
А мы тоже не бьем баклуши,
А и пьем-то мы не по чину,
Нальем первый ковш да осушим
Да приступим к зачину.
2
Базарный день на площади:
возы,
возы,
возы,
купцы, земяне, лошади,
аршины да весы.
Горят румянцы девичьи
и по плечам платки.
Проходят шубы беличьи,
худые армяки.
Всё хваты да работники
и речью не глумцы:
и кузнецы, и плотники,
и златокузнецы.
Кричат товары хитрые,
играет бирюза,
а бусы малахитовые –
разбегись глаза!
– Берешь сережки суженой?
– Берем! – и руку в бок
да топ колодкой суженной,
аж побелел сапог.
Не в Киеве,
не в Суздале,
а посреди Торжка
не отлетел бы с удали
каблук от сапожка!
3
Над городом,
над гомоном
кабацкий смех и плач.
Туда ходили гоголем,
оттуда – окарачь.
Уважишь пивом-брагою –
и воздадим вином.
Полы под пьяной братией
ходят ходуном.
Кончане закуражатся,
нальют – не донесут.
Ой, головы закружатся!
Ой, ноги не спасут!
Гуляет свет по маковке.
Гуляет гульнем голь.
– Посадского – по матушке!
– А кто над ним? – Изволь!
Вчера свое не допили,
так уж теперь возьми!
А завтра ляжем во поле
грешными костьми.
________________
Что ты ходишь враскосяк,
присядь к другу.
Ох, силен синяк
под пьяную руку!
А не стоишь синяка –
ступай к Богу!
Ой, земля зыбка
под пьяную ногу!
…….
И мы подсядем к коржику,
Подсядем, а засим
Нальем еще по ковшику,
Выпьем да заку-сим,
Нам сказ держать,
Нам песни петь,
Нам надо голову иметь.
4
Теплым-теплый, без шапки, без денег
выходил Егорка-весельник.
В домотканых портках да в опорках
выходил прохладиться Егорка.
Рассыпал он присловицы горохом,
знать, недаром слыл первым скоморохом.
Шутка шуткой, а правда-то смекается.
Ходит, чешет язык, насмехается,
ходит, чешет язык, насмехается,
на ворота именитые сморкается.
Говорит что говорят,
ну да мало ль говорят?
Мол, посадник – молодец,
праведник-сусальник.
В каждой горнице малец –
вылитый посадник.
Говорит что говорят,
мол, напрасно говорят.
У попа всего приход –
попадья с поповной,
а и тот дает приплод –
борова с попоной.
Слепнет курица. День смеркается.
Шутка шуткой, а правда-то смекается.
Тут и взяли шутника под локотки
по словечку сердобольного посадника,
взяли под руки, задрали портки
да и выбили всю пыль из охальника!
……..
– Ой ты ласка моя,
Складень в три образка.
Ой ты сказка моя,
Сказка-присказка.
Что ты, присказка,
Киснешь зелено?
И не высказать.
И не велено.
________________
– Чем начать мое слово,
Чем начать?
То ль в молчанку играть,
То ль кричать.
Грянет колокол чуть свет,
Крикнет кочет.
Начинать-то начнешь,
Да чем кончишь?
5
Не брех над ухом скомороший,
не бой кулачный: чья взяла? –
с заутрени звонарь сполошный
раскачивал колокола.
Качал, оглохши от ударов.
Шли веси на тревожный зов.
Всполох был шире всех базаров,
мощнее медных голосов.
Кипи, молчанье гробовое!
Мятись, народная беда!
…Идет нечистый с татарвою.
Грядет несметная Орда…
……..
У Батыя, у сучьего сына,
сорок жен молодых.
У Батыя, у сучьего сына,
тьма коней вороных.
У Батыя, у сучьего сына,
туча сабель кривых.
Я не знаю, что лучше: сгинуть
аль остаться в живых?
……..
Ой не сладко от горькой,
и не сладко от сладкой –
то боярин с веревкой,
то татарин с удавкой.
Слиплись свечи в огарки,
а горели высоко.
То ль на ноги – ногавки,
то ль на череп – сокол.
Веселы вы, денечки,
аж охрипли от крику.
То ли выкуп – на бочку,
то ли голову – на пику.
6
Ох, не ровен час,
смолкла горлица.
Шестикрылец за горлицей гонится.
Ох, черна тоска
в белой горнице.
Сам Иванка-посадник горбом горбится.
Не братина ходит по кругу, не брага из чана,
думу думает купеческая братчина.
Бородатые да носатые,
крепколобые, крепкозадые.
Беда бороде:
смуты в го-ро-де.
Что ты хмуришься?
Что ты прячешься?
Не откупишься.
Не отплатишься.
И мошной плати,
и женой плати,
а запросят недоимку –
головой плати!
Не братина ходит по кругу, не брага из чана,
хорохорится купеческая братчина.
Православные, честные,
кунья шуба, волчья сыть.
– На’б тощиться для Батыя,
ручку им позолотить.
Ох, да горлица не слышна.
Ох, да в горнице тишина.
Засопели, как засовы, носы.
Золотишко высыпай на весы.
Заскрипели лавки, как на помин.
Встал посадник над глыбами спин.
Он глазами полоснул по глазам;
бородою он кивнул бородам.
– Если с женами больше не жить –
не возропщем.
– Если головы надо сложить –
не возропщем.
– Но поди затяни поясок,
если наг с головы и до ног,
ай удавка честному народу –
лучше в воду!
Расползаются круги по воде.
Закивала борода бороде.
– Прав Иванка.
– Будем локти кусать.
И посадник рассудил:
– Отказать!
– До последнего
будем стоять.
7
А и что теперь городить огород,
многодумный князь, собирай народ.
Развязав мошну у ночных ворот,
подались купцы в мощный Новгород.
А ночи тихи,
тише тихого.
Из воды сухим?
Лихо вам?
Сомкнешь уста –
не сомкнешь веки.
Глядь, с утра в ворота –
сбеги, сбеги.
Ни хоругвь не спасет, ни собор,
если сабля твоя не востра.
Владимир – горящий костер.
Рязань – круг от костра.
С поля туча ползет с голосами.
А Князь-Новгород глух за лесами.
А и что теперь городить огород.
Ай, Иванка, Иванка, ополчай народ!
Молчуны, говоруны, бояре, смерды,
мы у жизни не равны.
Равны у смерти.
Сеча гирькою по темечку – как мачеха нежна,
и отдал бы башку, да самому нужна.
Чем заплатим, гадать не берусь,
головою заплатим аль боком.
Не за князя стоим,
а за Русь!
Не попом укрепились,
а Богом!
……..
Если жизнь одна,
То и смерть одна.
Если ковш пустой,
Наливай вина.
Черный ворон пролетит,
Бросит перышко
В снег пуховый
На удел роковой.
Опрокинем-ка третью до донышка,
А потом – по губам рукавом.
8
Что молодцу слава посмертная,
да знать бы: без сраму живу.
Последняя ночка. Последняя.
Жалей молодую жену.
Подумать, и года не прожили,
а сразу слюбились на жизнь.
И вот уж под Матерью Божией,
под Спасом – во гробы ложись.
А были денечки не промахи.
Не вам ли, медовым, пришлось
ослепнуть от белой черемухи,
под ливнем промокнуть насквозь.
Сон короток, он намечается
под утро, а где тут до сна.
Ни ветра, а ветка качается.
Не спит молодая жена.
9
Вои – в сборе.
Кони – в сбруе.
Помолись в соборе
да в землю сырую.
Дьяки – в рясах.
Попы – в ризах.
Спаси, Спасе,
исход близок.
Хоругви, свечи.
По коже мороз, поди.
Постоим на сече,
Господи, Господи!
Голубь без голуби –
голубь сирый.
Господи, Господи,
дай силы!
Поганые с поля
тыном обстали.
Смерть ли, неволя –
стой на забрале.
Муки ли крестные,
други ль в крови, –
Матерь Небесная,
благослови!
10
Стрелы ли под небо взмыли,
головы ль наземь упали,
звон ли расходится, или
плат расстилают печали –
зова не слышно Зовущего,
да и откликнуться нечем,
кроме как клекота, рвущего
сердце и пьющего печень…
……..
……..
……..
……..
11
Не прощу, не прощу, не прощу.
Не помочь, не помочь вам, кончане.
Пращник камень загнал в пращу,
лучник выбрал стрелу в колчане.
Не прощу, не прощу, не прощу,
а прощу – так по смерти приснятся:
тетивы одноглазый прищур
и на палице сжатые пальцы.
Не прощу, не прощу, не прощу,
до недоброго срока запомню:
не сидеть на престоле прыщу,
не писать на Руси законы!
Трубы грянут – голов не снести.
Трупы лягут – топчите конями!
Отомстим, отомстим, отомстим.
Куликовская сеча – за нами!
12
Лают лисы, воют волки, кружит галенье.
Две недели отбивается Торжок.
Ой вы, светы мои, близкие и дальние.
Губы стынут. На губах – снежок.
В стенах стрелы, в стенах стоны, стены низкие.
На ордынца лей кипящую смолу!
Ой вы, светы мои, дальние и близкие,
бьет таран, и татарье – в дыру.
Коли старость, коли молодость жива еще,
стой до хрипа, стой у смерти на краю.
Здесь я, с вами, в осажденном и пылающем
на избитье, зубы сжав, стою.
Рубят старых, режут малых, крики в воздухе.
Дым стоит, и пух летает во дворах.
Едет знамя на коне девятихвостое,
едет знамя о пяти углах.
– Вот и срок пришел. Расстанемся, как водится.
– Прощевай, талань. Прощай, лихой Торжок.
Ты прости-прощай, несуженая вольница.
Губы стынут. На губах – снежок…
13
Полыхали пожары,
не стихали пять дней.
Уводили татары
за Волгу коней.
Кони ржали в трясинах,
был разлив на носу.
Как вдова голосила
неясыть в лесу.
Где Егорка безотчий?
Где Иванка-отец?
Ворон выклевал очи,
меч в золе кладенец.
За семью ли веками
от низин да болот
топь вспарит облаками
и татарник взойдет.
Над забытым колодцем,
над зацветшей водой
встань обугленным солнцем,
крестный полдень мой!
______________
Скачи иноходцем за поле,
синицей лети за моря,
моя молодая неволя,
плененная песня моя.
Осталась.
Склонилась и плачешь.
Над бурой крапивой стоишь.
Скачи!
А куда ты ускачешь?
Лети!
А куда улетишь?
25 декабря 1959 – 6 января 1960
«Из трех тетрадей». Книга стихов (1976)

Посад
* * * («Под вечер, только сняли валенки…»)
Под вечер, только сняли валенки,
мороз устроил чертовщину –
скрипел, как сторож на завалинке,
сопел, почесывая спину,
он знал: когда он не поленится,
а хватит оземь рукавицы,
в сарае вырастет поленница,
и в доме печка задымится,
и уголек в золу закатится,
и, чтобы возместить пропажу,
у печки ста́рина усядется
разматывать слепую пряжу,
и осмелевшие от голода
на чердаке проснутся крысы,
которые спаслись от холода
лишь потому, что снег на крыше,
и белым-белая беспутица
в метелице угомонится,
и если лошадь не заблудится,
то заплутается возница,
и то не сирины стеклянные
засвищут из морозной рощи,
а стрикулисты бесталанные,
а может, их живые мощи.
……..
Так сон, не зная сам, что сбудется,
прислушивался из постели,
как свистуны морозной улицей
брели куда глаза глядели…
1959
Илья
То ли вёдро, то ли льет как из ведра.
Петухи прокукарекали. Пора!
Время делу, хватит дрыхнуть на боку!
Взял бы палицу – да сдвинуть не могу.
Двадцать лет уже я сиднем сижу.
Двадцать лет уже я лежнем лежу.
А еще десять лет мне сидеть,
десять лет мне на дорогу глядеть.
Дело будет, еще рано помирать.
Три дороги мне еще выбирать.
А покамест ни седла, ни коня –
только песни про запас у меня.
Сколько песен у родной стороны –
то ли свадьба, то ли похороны:
гляну вправо – величая поют,
гляну влево – отпевая поют.
Черный бор. Волчья степь. Воля вольная.
Ой ты, родина моя! Ой ты, боль моя!
Вот гляжу я с покаянною улыбкою:
не покажутся ль калики за калиткою?
1960
* * * («Зима. Мороз. Трусит кобылка…»)
Зима. Мороз. Трусит кобылка
по снегу, и – красней зари –
на теплый злак из-под копыта
выпархивают снегири.
Зима. Мороз. Месить бы тесто,
топить бы печь – да недосуг:
вождь похоронного оркестра
вставляет костяной мундштук.
И бабы, закрывая трубы,
спешат от жаркого труда
туда, где индевеют шубы,
туда, где трудится труба,
туда, где всё до слез знакомо:
слова и взгляды из-под век,
стенокардия, и саркома,
и долгий день, и краткий век.
О скорбный марш – один и тот же
средь свадеб, войн и перемен, –
стучи, стучи в свиную кожу,
работай легкими, Шопен!
Смолкает разговор в народе.
Венки выносят из дверей…
Писать бы лучше о природе,
ну хоть про тех же снегирей.
1960
* * * («На камешке, у бережка…»)
На камешке, у бережка
сидит, бубнит под нос.
– Что мелешь ты, Емелюшка?
– Да ничего… Овес…
Сидит да сучит бороду.
Столетия идут.
А бабы выйдут по воду –
с три короба наврут.
А слухи в каждом коробе,
что шут его крестил:
поймал-де щуку в проруби,
поймал, да отпустил.
А щука-де ученая –
с Емелей говорит.
О чем? Тут дело темное,
не зря, видать, сидит.
А смолоду, а с голоду –
холера да война.
– А кто же мутит воду-то?
– А всё она, она.
По щучьему велению –
ступайте в печь, дрова!
По щучьему велению –
зубастые слова!
У вас – волочат волоком,
у нас – наоборот:
летит ковер под облаком,
крестьянский самолет.
У вас – указ, не иначе,
указ везет гонец.
А мы – на печке сидючи
прибудем во дворец.
А в царстве замечается:
дела идут не так.
А в царстве заручаются –
сиди себе, дурак.
А он на трон не зарится,
живет да хлеб жует.
А щука – слышишь? – жарится.
А сказке – свой черед.
1961
* * * («Этот город деревянный на реке…»)
Этот город деревянный на реке
словно палец безымянный на руке;
пусть в поречье каждый взгорок мне знаком
как пять пальцев, – а колечко на одном!
Эко чудо – пахнет лесом тротуар,
пахнет тесом палисадник и амбар;
на болотах, где не выстоит гранит,
деревянное отечество стоит.
И представишь: так же сложится судьба,
как из бревен деревянная изба;
год по году – не пером, так топором –
вот и стены, вот и ставни, вот и дом.
Стой-постой, да слушай стужу из окон,
да поленья знай подбрасывай в огонь;
ну а окна запотеют от тепла –
слава Богу! Лишь бы крыша не текла!
1965
Георгики
I
Капуста в Павловском Посаде.
Капуста! – и бело в глазах:
на взбеленившемся базаре,
и на весах, и на возах.
Чуть свет затопит мама печку,
и рукава я засучу,
да наточу на камне сечку,
да сечкой в ящик застучу.
Как никогда легко и ясно,
как будто в первый раз люблю:
чисто-чисто,
часто-часто,
мелко-мелко
изрублю.
О, та капуста из раймага
того гляди сведет с ума:
бела как белая бумага,
бела как ранняя зима.
Уходит боль… Не оттого ли
стоишь как вкопанный в дверях:
горят, горят огнем мозоли,
стучат, стучат во всех дворах.
Под утро иней ляжет густо
на крыши, взбудоражит сны.
Скрипит, скрипит, как снег, капуста,
и снег скрипит, как кочаны…
1960
II
В воскресный день в начале сентября,
когда недели две до листопада,
весь город валит валом на поля,
в руке мешок, а на плече лопата.
Вот здесь, вблизи проселочных дорог,
невдалеке от заводских окраин –
дави на штык да жми на черенок,
поскольку ты кормилец и хозяин.
Копай, копай, да слушай стук лопат,
да думай, думай – тайно или явно:
Москва слезам не верит – это факт,
а уж районный город – и подавно.
Он лупит завидущие глаза.
Он тянется своей большою ложкой.
Он, может быть, и верит в чудеса,
но прежде запасается картошкой.
Она прекрасна, как сама земля
прекрасна. Отчего ж тогда не рада
твоя душа? Какая ей досада
на этот день в начале сентября?
1961
III
У нас живут на огороды.
Наш первый праздник – первый сбор.
Как бы на торжище природы,
таскают овощи во двор.
Как будто курица-несушка
кудахчет по двору с яйцом,
гремит дубовая кадушка
с заплесневелым огурцом.
Не знатоку чесать в затылке,
но дело ль, числясь знатоком,
баклуши бить, когда в парилке
сшибают плесень кипятком?
И вот сосед снимает китель,
фуражку вешает на гвоздь.
Он, огородник и любитель,
почуял страсть и даже злость.
О, как ему осточертело –
дежурка… граждане… народ…
Вот огурцы – другое дело.
Деревня… Детство… Огород…
Соли, соли, пока не поздно,
смурную душу отводи,
гляди не грозно, а серьезно
и даже весело гляди.
Чтобы никто не взял на пушку
ни за понюшку табака,
соли да камень на кадушку
клади – тяжелый, как судьба!
1964
* * * («За амбаром, за сквозным забором…»)
За амбаром, за сквозным забором
на тесовой струганой скамье
говорим неспешным разговором
со старухой о житье-бытье.
День-деньской она всё шьет да порет,
моет пол да садит огород
и за мукой мученской не помнит,
сколько лет спокойной жизни ждет.
Да и что ей, бабе деревенской,
что ей помнить, темной да босой?
Николай-угодник, не побрезгуй,
одели дешевой колбасой!
Эх, недоля – улица да поле! –
по-крестьянски окрестила лоб
и сложила руки на подоле:
– Мне б теперь попариться да в гроб.
Не забуду: пахло свежим тесом
и на ребра покрасневших крыш
падал стриж и прямо перед носом
круто взмыл, распарывая тишь.
И томились в сумерках задворки,
и горел как проклятый закат,
и глядел невидящий и долгий
взгляд ее… Ее потухший взгляд…
1965
По воду
Дня не видно за летней страдою.
Мама знает – не буду упрямиться.
– Ты сходил бы, сынок, за водою,
а то вовремя мне не управиться.
Я пойду за палатку, за церковь,
буду ведра на дужках раскачивать,
а потом зацеплю на зацепку,
стану медленно ворот раскручивать.
Вот кручу я, а сам вспоминаю
всё о ней да о ней – на беду мою,
и пока я ведро подымаю,
обо всем, обо всем передумаю.
Изменить ничего не изменишь,
крутишь ручку – она уже теплая.
Ах, колодец, тебя не измеришь –
темен сруб, как душа ее темная.
Подымать – это надо привычку.
Расплескаешь… А к слову заметится:
не поймать, если выпустишь, ручку –
как ошпаренная завертится.
Я ведро подымаю руками,
а бока запотевшие, потные.
Я к ведру прилипаю губами –
словно губы ее: холодные.
Ходит в горле кадык, льет за ворот.
Рукавом – не подумайте: плачу я –
утираюсь и снова за ворот,
жму на ручку – а ручка горячая.
Я спешу: мама ждет не дождется,
а ведро так и ходит по проводу,
так и бьется о стенки колодца!
– Как за смертью слать тебя по воду.
1960
* * * («Уходим – разно или розно…»)
Уходим – разно или розно.
Уйдем – и не на что пенять.
В конце концов, не так уж поздно
простить, хотя и не понять.
И не понять… И только грустно
свербит октябрь, и потому –
яснее даль, темнее русло,
а выйду – в листьях потону.
О шелест осени прощальный,
не я в лесу, а лес во мне –
и плеск речной, и плес песчаный,
и камни на песчаном дне.
Набит язык, и глаз наметан.
Любовь моя, тебя ль судить?
Не то чтоб словом, а намеком
боюсь тебя разбередить…
1960
* * * («Класть ли шпалы, копать ли землю…»)
Класть ли шпалы, копать ли землю
хоть несладко, да не впервые.
Вот и выдалось воскресенье,
о плечистая дева Мария.
В рельсы вмерз аккуратный домик
в стороне от транзитных линий.
Хлопнешь дверью – как на ладони
водокачка да острый иней.
В полушубке, сидящем косо,
в черных чесанках, сбитых набок,
покрасневшая от мороза,
волочишь ты мужичий навык.
Ты приходишь в пару из стужи,
в белом облаке довоенном –
вот он, дом: ни отца, ни мужа,
только снимки – в упор – по стенам.
В жадном взгляде, в святом упрямстве,
в складках рта, где легла забота –
и нелегкое постоянство,
и неженская та работа.
По привычке хоть что-то делать
и пошила, и постирала.
Вот и нечего больше делать.
Постелила… Постояла…
Руку вытянешь – никого там.
Закричала бы что есть мочи!
…Бьет прожектор по синим стеклам.
Мелко вздрагивает вагончик.
Притерпелось – и не изменишь,
под соседний стук засыпаешь
и куда-то всё едешь, едешь,
а куда – и сама не знаешь.
1959
* * * («Непостоянная погода…»)
Непостоянная погода –
то заморозки, то жара –
как непосильная свобода
меня преследует с утра.
И то сказать: ложусь я поздно,
встаю с тяжелой головой
и грустно слушаю, как грозно
гремит прибой береговой.
И грустно думаю… Когда-то,
возможно, что еще вчера,
росла сосна… Теперь опята
растут на пне среди двора.
К чему бы эта чертовщина?
К разладу? К осени? К зиме?
Еще не умер – годовщина
со дня кончины на уме.
И на душе темно от мути,
и смутно помнится мечта
вздремнуть в бревенчатом уюте
на печке, теплой от кота.
Куда хватил! Чиновник бедный,
в кругу своих чиновных дел
томимый скукой кабинетной,
запечных сказок захотел?
Так вот она, твоя морока,
твоя дорога, дуралей:
ищи, как говорится, Бога
в себе самом, да слезы лей,
да простодушно жди у моря
погоды с первым комаром,
да мыкай счастье или горе
с терпеньем, равно и с добром.
А если дождь без передышки,
то кто же в этом виноват?
Едва забудешься – все шишки
тебе на голову летят.
1964
* * * («Начальник милиции вышел в отставку…»)
Начальник милиции вышел в отставку.
Как после болезни идет на поправку:
пьет с ложечки, смотрит семейные фото,
пока не осилят хандра и дремота.
Вот, поднятый гимном, едва не спросонок
он шлепает в белых казенных кальсонах.
Потом, не по букве служебной науки,
на них надевает гражданские брюки.
Потом, расправляя за поясом складки,
на воздух выходит. Глядит: всё в порядке.
Вот, чиркая спичкой, садится на лавку.
Он здесь размышляет. Он вышел в отставку.
Весомые даты… Высокие вехи…
Висят в гардеробе былые доспехи.
Но жизнь прожита – ни почета, ни славы,
лишь хваткая память: статьи да облавы,
конспекты основ да разносы в дежурке,
да злые окурки, да шнур в штукатурке.
А жил он, по совести, не без приварка,
закону служил, как овчар и овчарка,
да боком выходят его аппетиты:
и овцы не целы, и волки не сыты.
Ну хватит! – он в лавку воткнул папиросу.
Чего рассуждать! – он берется за прозу,
за тяпку берется – окучивать грядки.
– Как жизнь? – говорю.
– Ничего. Всё в порядке.
1961
Попугай
Мой удел невелик. Полагаю,
мне не слышать медовых речей.
Лучше я заведу попугая,
благо стоит он тридцать рублей.
Обучу его разным наукам.
Научу его всяким словам.
На правах человека и друга
из него человека создам.
Корабли от Земли улетают.
Но вселенская бездна мертва,
если здесь, на Земле, не хватает
дорогого для нас существа.
Друг предаст, а невеста разлюбит,
отойдет торжествующий враг,
и тогда среди ночи разбудит
вдохновенное слово:
– Дур-рак!
Что ж, сердись, если можешь сердиться,
да грошовой едой попрекай.
Бог ты мой, да ведь это же птица,
одержимая тварь – попугай!
Близоруко взгляну и увижу:
это он, заведенный с утра,
подарил мне горячую крышу
и четыре холодных угла.
Так кричи над разбуженным бытом,
постигай доброту по складам.
Я тебя, дуралея, не выдам.
Я тебя, дурака, не продам.
1961
Дельвиг
Из трубки я выдул сгоревший табак,
Вздохнул и на брови надвинул колпак.
А. Дельвиг
В табачном дыму, в полуночной тоске
сидит он с погасшею трубкой в руке.
Смиренный пропойца, набитый байбак,
сидит, выдувая сгоревший табак.
Прекрасное время – ни дел, ни забот,
петух, слава Богу, еще не клюет.
Друзья? Им пока не пришел еще срок –
трястись по ухабам казенных дорог.
Любовь? Ей пока не гремел бубенец,
с поминок супруга – опять под венец.
Век минет, и даром его не труди,
ведь страшно подумать, что ждет впереди.
И честь вымирает, как парусный флот,
и рыба в каналах вверх брюхом гниет.
Жизнь канет, и даром себя не морочь.
А ночь повторяется – каждую ночь!
Прекрасное время! Питух и байбак,
я тоже надвину дурацкий колпак,
подсяду с набитою трубкой к окну
и сам не замечу, как тихо вздохну.
Творец, ты бессмертный огонь сотворил:
он выкурил трубку, а я закурил.
За что же над нами два века подряд
в ночах обреченные звезды горят?
Зачем же над нами до самой зари
в ночах обреченно горят фонари?
Сидит мой двойник в полуночной тоске.
Холодная трубка в холодной руке.
И рад бы стараться – да нечем помочь,
уж больно долга петербургская ночь.
1962
* * * («В полуночь петух на деревне…»)
В полуночь петух на деревне
кричал, и в соседних дворах
собаки зашлись, и деревья,
обстав, скрежетали впотмах.
И желуди шлепались оземь,
шурша в прошлогодней листве
как мыши, и шастала осень,
с которой я в дальнем родстве.
Я понял: погода ломалась,
накатывался перелом,
когда топором вырубалось
всё то, что писалось пером;
когда отсыревшая спичка
от медленного сквозняка
шипела и фыркала вспышка,
как кошка во тьме чердака.
И я, ослепленный доверьем,
не ведал, что мне на роду,
но пристально слушал деревья,
уставив глаза в темноту…
1963
* * * («Еще темны леса, еще тенисты кроны…»)
Еще темны леса, еще тенисты кроны,
еще не подступил октябрь к календарю,
но если красен клен, а лес стоит зеленый,
– Гори, лесной огонь! – я говорю.
А он, лесной огонь, до срока затаится,
он в рощу убежит, чтоб схоронить пожар,
но если красен клен – и роща загорится
и засвистит, как тульский самовар.
Гори, лесной огонь, багровый, рыжий, алый,
свисти в свое дупло тоской берестяной.
Не надо ничего – ни денег мне, ни славы,
покуда ты горишь передо мной.
У нас одна душа в сквозном и скудном мире,
и дом у нас один – ни крыши, ни угла.
Гори, лесной огонь, лети на все четыре
и падай на спаленные крыла!
1963
* * * («Гибрид пекарни с колокольней…»)
Гибрид пекарни с колокольней,
завод, где плоть перегорает,
трубою четырехугольной
седьмое небо подпирает.
А отдаленнее и ниже,
вокруг хозяйства заводского –
прах, расфасованный по нишам
в стенах монастыря Донского.
Я, разводя кусты руками,
брожу здесь утром спозаранок,
где урны белыми рядами
глядят на мир из темных рамок.
Глядят глазами тайной тайных,
ведут торжественной строкою
от фотографий моментальных
к монументальному покою.
А мне – и памяти не надо,
мое со мной, и тем пристрастней
гляжу, не отрывая взгляда,
с улыбкой, может быть, напрасной.
Что смерть? Мне выход не заказан.
Когда черед придет за мною,
перед живыми я обязан
лежать в земле и стать землею.
Она опять придаст мне силы,
я вскину ствол наизготовье,
ветлою встану из могилы
у собственного изголовья.
А им – ничем не стать отныне:
ни земляникой, ни ветлою.
Их обособила гордыня,
подняв свой пепел над землею.
Ах, мальчик, что он понимает,
когда, захваченный игрою,
их простодушно поливает
водопроводною водою?
1963
* * * («Когда бомбили Мюнхен и предместья…»)
Когда бомбили Мюнхен и предместья,
засыпав город щебнем и золой,
когда проклятья и моленья вместе
слились над обезумевшей землей
в едином вопле к Богу или в Бога,
в зверинце, на активной полосе,
сошли с ума и умерли от шока
двенадцать низкорослых шимпанзе.
Как некогда, воспрянувши из гроба,
Сын Человеческий приял небесный сан,
так в смерти шимпанзе воскрес бонобо –
разумный вид – и высший – обезьян.
О истина, темно твое служенье,
покуда ты сомнительным родством
пытаешь на разрыв и растяженье
и объявляешь высшим существом.
И если я под страшным подозреньем –
отныне до неведомого дня, –
прошу тебя, карай меня презреньем,
но только не испытывай меня.
1963
* * * («Что там? Босой и сонный, выберусь из постели…»)
Н. Н. Вильмонту
Что там? Босой и сонный, выберусь из постели,
дверь распахнув, услышу, как на дворе светает:
это весенний гомон – на лето прилетели,
это осенний гогот – на зиму улетают.
Круг завершен, и снова боль моя так далёка,
что за седьмою далью кажется снова близкой,
и на равнине русской так же темна дорога,
как от стены Китайской и до стены Берлинской.
Вот я опять вернулся, а ничего не понял.
Боль моя, неужели я ничего не значу,
а как последний олух всё позабыл, что помнил,
то ли смеюсь от горя, то ли от счастья плачу?
Бог мой, какая малость: скрипнула половица,
крикнул петух с нашеста, шлепнулась оземь капля.
Это моя удача клювом ко мне стучится,
это с седьмого неба наземь спустилась цапля.
Вот уже песня в горле высохла, как чернила,
значит, другая повесть ждет своего сказанья.
Снова тоска пространства птиц подымает с Нила,
снова над полем брезжит призрачный дым скитанья…
1964
* * * («Как в сундуке двойное дно…»)
Как в сундуке двойное дно,
так в слове скрыта подоплека,
когда подумаешь одно,
а выйдет новая морока.
Не потому, что дождь из туч
садит, как из водопровода,
а потому, что невезуч,
вздохнешь: – Хорошая погода.
Глядь, попадешь впросак опять,
дурнушке скажешь: – Ты прекрасна, –
а уж потом не расхлебать
семейной каши – и напрасно.
Я потрясен – какой разброд,
я с толку сбит – какие толки:
а вдруг весь мир наоборот
идет от некой оговорки?
Ведь и пророки от наук
до несусветных истин падки:
а вдруг всё сущее вокруг –
предмет нелепой опечатки?
Как знать! Не так ли сквозь туман
всё видишь двойственно и зыбко:
а ну как жизнь – самообман,
неустранимая ошибка?
1965
* * * («Я не знаю, как ночь коротаю…»)
Я не знаю, как ночь коротаю,
хоть убейте, понять не могу:
лишь руками взмахну – и взлетаю,
и летаю – на правом боку.
Бестелесный как ангел небесный,
я над бездной парить не боюсь,
потому я так легок над бездной,
что бессмертен, пока не проснусь.
А проснусь – снег за окнами валит,
я на койке лежу, как лежал.
Котелок мой горяч, да не варит:
неужели я ночью летал?
Если так, значит, чудо возможно,
значит, можно ни свет ни заря
ощутить, как земля осторожно
убывает в канун января.
Стоит только мозгами раскинуть
и, покуда от сна не восстал,
вскинуть веки и руки раскинуть –
и летишь, как в полуночь летал.
1964
* * * («Что делать мне, говоруну…»)
Что делать мне, говоруну,
когда мне дома не сидится,
когда проворная синица
торопит позднюю весну?
Когда в распахнутом окне
гудит черемуха и тает,
когда терпенья не хватает
торчать в дому – что делать мне?
Не лучше ль наложить запрет
на филькин труд, на кучу хлама
и посмотреть на вещи прямо?
Конечно лучше – что за бред!
Не лучше ль из дому во двор
пройти небрежно и лениво,
и постоять, и выпить пива?
Конечно лучше – что за вздор!
Так выпьем, разведем бобы
с гуляками и остряками!
Так нет же – развожу руками
и слизываю соль с губы.
Ах, черт, какая дребедень!
Я злюсь и курицей мореной
на загогулине мудреной
вишу как проклятый весь день.
И надвигается разлад,
где строгость переходит в праздность,
и тяготит несообразность,
и скачут мысли невпопад.
Я сбился с ног и в тишине
руками голову сжимаю
и ничего не понимаю:
– Что делать мне?..
1965
В паводок
Свежим утром, покуда светает
в деревянном и низком краю,
медный колокол медленно мает
безъязыкую службу свою.
Облупилась яичная кладка,
сгнил настил до последней доски.
Посреди мирового порядка
нет тоскливее здешней тоски.
Здесь, у темной стены, у погоста
оглянусь на грачиный разбой,
на деревья, поднявшие гнезда
в голых сучьях над мутной водой;
на разлив, где, по-волчьему мучась,
сходит рыба с озимых полей,
и на эту ничтожную участь,
нареченную жизнью моей;
оглянусь на пустырь мирозданья,
подымусь над своей же тщетой,
и – внезапно – займется дыханье,
и – язык обожжет немотой.
1964
* * * («Когда верблюд пролез…»)
Когда верблюд пролез
в игольное ушко –
перебродил прогресс,
и зло в добро ушло,
и разомкнулся круг
истории Земли,
и Свет из первых рук
явил дела свои.
Был бесконечный день,
повернутый к теплу,
и влажная сирень
стучала по стеклу.
Был бесконечный час,
пронзительный как стих,
и что-то зрело в нас,
что выше нас самих.
Неслышимый на слух,
невидимый на глаз,
бродил единый Дух,
преображавший нас.
Он зябликом в лесу
свистел на сто ладов,
да так, что на весу
сорваться был готов.
И тонкий-тонкий звук
терялся вдалеке,
и я – как всё вокруг –
висел на волоске.
1965
* * * («В нашем городе тишь да гладь…»)
Ю. Ряшенцеву
В нашем городе тишь да гладь,
листья падают на репейник,
в оголенном окне видать,
как неслышно пыхтит кофейник.
Ходят ходики, не спеша
поворачиваясь на гире,
и, томясь тишиной, душа
глохнет в провинциальном мире.
Что он слышит, мой мертвый слух?
То и слышит, что слушать больно:
как хрипит под ножом петух,
как корова мычит на бойне?
В нашем городе тишь да крышь,
что мы знаем – не знаем сами,
но за что ни возьмись – глядишь,
не сойдутся концы с концами.
И поймешь в невеселый час,
что на осень нашла проруха:
просвистелась она – и нас
оглушила на оба уха.
Оголила сады насквозь
и дала разглядеть сквозь слезы,
как летят, разлетаясь врозь,
лист осины и лист березы…
1965
Похвала Державину, рожденному столь хилым, что должно было содержать его в опаре, дабы получил он сколько-нибудь живности
Малец был в тесто запечен
и, выйдя на дрожжах оттуда,
уже в летах, зело учен,
подумал: – Нет добра без худа.
А был он тертым калачом,
врал правду, но, как говорится,
уж коли Оры за плечом,
то что тебе императрица.
Ну кто бы знал, какой обман –
наутро лечь, в обед проснуться
и только вычистить кафтан,
как – бац! – на рифме поскользнуться.
Ну кто бы думал, что за прыть –
водить императрицу за нос
и с тем предерзостно открыть
свой век, на будущий позарясь.
Пока он дрых за семерых,
все хлебы время перемесит,
и глядь – на чашах мировых
нас недоносок перевесит.
Первейший муж, последний жох,
не про тебя моя побаска:
я сам не плох, но – видит Бог –
не та мука, не та закваска.
Малец, себя не проворонь –
ори! А нету отголоска,
как он – из полымя в огонь –
не можешь? В том-то и загвоздка!
1965
* * * («Я не помнил ни бед, ни обид…»)
Я не помнил ни бед, ни обид,
жил как жил – и во зло, и во благо.
Почему же так душу знобит,
как скулит в непогоду дворняга?
Почему на окраине дней
самых ясных и самых свободных
так знобит меня отблеск огней
и гуденье винтов пароходных?
Верно, в пору стоячей воды
равновесия нет и в помине,
и предчувствие близкой беды
открывается в русской равнине.
И присутствие снега и льда
ощущается в зябком дыханьи,
и такая вокруг пустота,
что хоть криком кричи в мирозданье.
Никого… Я один на один
с прозябаньем в осенней природе,
в частоколе берез и осин,
словно пугало на огороде.
Мы срослись. Как река к берегам
примерзает гусиною кожей,
так земля примерзает к ногам
и душа – к пустырям бездорожий.
Видит Бог, наше дело труба!
Так уймись и не требуй огласки.
Пусть как есть торжествует судьба
на исходе недоброй развязки.
И, пытая вечернюю тьму,
я по долгим гудкам парохода,
по сиротскому эху пойму,
что нам стоит тоска и свобода.
1965
Плёс
€5,30
Žanrid ja sildid
Vanusepiirang:
16+Ilmumiskuupäev Litres'is:
21 september 2023Objętość:
267 lk 12 illustratsiooniISBN:
9785604105740Kustija:
Õiguste omanik:
ВЕБКНИГА