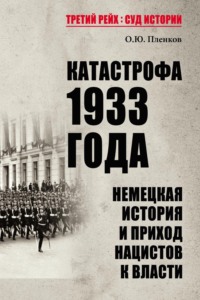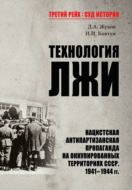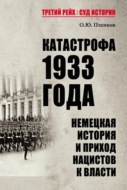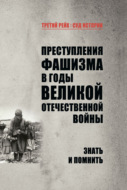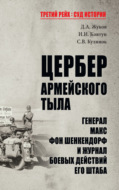Loe raamatut: «Катастрофа 1933 года. Немецкая история и приход нацистов к власти»
© Пленков О. Ю., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
Введение
В процессе анализа европейской и немецкой политики постоянно возникает фундаментальная проблема живучести и устойчивости демократических институтов в одних условиях и их крайней уязвимости в других. Эта сама по себе очень живая и всегда актуальная тема, применительно к проблемам немецкой истории имеет дополнительную остроту, особенно – к вопросам предыстории и истории нацизма. Эта острота обусловлена тем, что Германия – это безусловная часть Европы, и немцы в целом имели, хотя и не развитые, но устойчивые демократические институты перед 1933 г. К тому же до сих пор не удается дать убедительные и однозначные ответы на ряд вопросов истории нацизма, к примеру таких – следует ли считать нацизм немецким или антинемецким явлением, был ли он реакционным или модернистским, революционным или контрреволюционным, подавлял ли он инстинкты или развязывал их, был ли нацизм похож на коммунизм или был проявлением капитализма, были у него заказчики или нет, была ли его массовой базой мелкая буржуазия или также в значительной части рабочий класс, находился он в русле всемирно-исторических тенденций или же был восстанием против хода истории1.
Споры о предыстории и истории нацизма носят до сих пор довольно резкий характер, поскольку эта тематика является по-прежнему необычайно острой идеологически, провоцирующей. Этот провокационный «потенциал» истории и предыстории нацизма вызывает потребность ясного представления об убеждениях автора, потому я сразу хочу определить собственную позицию подобно тому, как это сделал Шарль Сеньобос в предисловии к своему первому большому учебнику истории. Он писал, что чувствовал необходимость предупредить читателя о своих «личных симпатиях к либеральному, светскому, демократическому и западному строю»2. Хоть и данная книга не может идти ни в какое сравнение с трудами знаменитого французского историка-позитивиста, тем не менее я хотел бы присоединиться к его симпатиям к модернизированному государству и соответствующих подходах к историческому анализу. Эти объявленные предпочтения не заслоняют для автора сознание того, что демократия, парламентаризм, ценности, связанные с достоинством и правами человека, – были и остаются чрезвычайно уязвимыми во всех отношениях, особенно перед постоянно бросающими ей вызов движениями, которым удается мобилизовать коллективные страсти во имя интегристских – нетерпимости, ксенофобии, лжепатриотизма, расизма.
Опыт показывает, что наиболее удачным тоном при обсуждении подобных вопросов является не обличительный и морализаторский тон, а максимальная терпимость и желание проникнуть во внутреннюю логику событий, максимальное внимание к особенностям национальной политической культуры, традиций и побудительным мотивам поступков людей; эти мотивы, как правило, носят отнюдь не злокозненный, а вполне поддающийся анализу нормальный человеческий характер; истинно: «благими намерениями вымощена дорога в ад». Отказ от обличительного и морализаторского тона, естественного и обычного в книгах на подобные темы, первоначально может шокировать, но зато, как показал опыт, он значительно стимулирует познавательный интерес, провоцирует дискуссию и приучает к объективности. В принципе задача истории как науки и состоит в том, чтобы реконструировать прошлое по алгоритмам именно прошлого, а не того времени, в котором живет историк. Современность и ее проблемы все равно так или иначе дадут о себе знать. Как отмечал американский философ и эссеист Ральф Эмерсон (1803–1881), «нет человека, который мог бы полностью эмансипироваться от своего века и своей страны или создать произведение, где никак не сказались бы особенности культуры, религии, политики, нравов, искусства его эпохи. Пусть он будет самым оригинальным и своенравным из художников, пусть он будет обладать самой богатой фантазией, ему все равно не удастся вытравить из своего произведения отпечаток тех идей, в атмосфере которых оно было создано»3.
В самом деле, некую необходимую дистанцию к предмету анализа бывает довольно трудно набрать, ибо как на Западе, так и у нас в стране, долгое время были распространены суждения, представляющие немецких нацистов чудовищными садистами, морально неполноценными людьми (особенно люди старших поколений, по понятной причине, подвержены подобным мнениям); нацистская система террора, массовые уничтожения людей, концентрационные лагеря в самом деле не вмещаются ни в какие человеческие рамки, они заслоняют собой все и побуждают исследователей искать всякие неисторические объяснения и мотивации столь чудовищным преступлениям. Между тем Фриц Хайек в своей известной книге «Дорога к рабству» справедливо указывает, что немцы по своей природе не хуже и не лучше других наций, и вопрос заключается в том, чтобы выяснить, какие особенности эволюции Германии за 60–70 лет до нацизма способствовали ее «отклонившемуся» развитию. Этой непростой задаче и посвящена настоящая книга.
Французский историк Антуан Про писал, что «историческое исследование начинается не с собирания или созерцания сырых, еще не обработанных фактов, а с постановки вопроса, относящегося к фактам, которые могли бы позволить ответить на него. Именно таким образом всякое историческое исследование сфокусировано на каком-либо конкретном вопросе или проблеме, определяющих его тему. Вопрос же должен задаваться лишь при наличии каких-либо оснований думать, что мы в состоянии дать на него ответ, причем такой ответ, который был бы подлинно историческим рассуждением. Иначе этот вопрос ни к чему не ведет: он будет в лучшем случае праздным любопытством, но никак не центральным моментом, ни даже одним из элементов работы историка»4. Вопрос же о существе исходных позиций формирования нацизма представляется достаточно разработанным со всех сторон – нужна только необходимая работа по обобщению накопленного материала и отысканию собственных обоснованных позиций в этой весьма сложной и запутанной проблеме.
Спорные и очень важные вопросы предыстории национал-социализма, его идеологической и культурной обусловленности актуальны и в наши дни, ибо проблема живучести и устойчивости демократических институтов приобрела сейчас универсальный характер и почти столь же настоятельно стоит, как некогда перед Германией и перед странами Восточной Европы, прежде всего перед Россией и другими республиками бывшего СССР. Кроме политической значимости эта проблема имеет большое историческое и воспитательное значение, поскольку демократические принципы могут быть усвоены только одним-единственным путем – путем постепенного и терпеливого внедрения в сознание людей на протяжении многих поколений. И даже если исходные позиции на этом пути очень слабы, не следует предаваться отчаянию и уповать на какие-либо волшебные рецепты, обещающие моментальные решения, – это всегда обман, ибо самая радикальная революция меняет общество лишь внешне, а то, что, собственно, составляет объект революции, остается внутренне неизменным. Подтверждением этих слов может служить опыт Германии после 1945 г., когда немцы, как ни одна нация в мире, смогли пройти мучительную в психологическом плане фазу «покаяния» постепенно, поколение за поколением осознавая масштабы немецкого искушения нацизмом в XX в. Причем, как это видно сейчас, процесс этот идет не в ущерб сохранению национальной идентичности и национального самосознания, наоборот, истинное признание народом национальной вины укрепляет его веру в себя, а также гарантирует ему достойное место в европейской семье народов.
С другой стороны, не следует возлагать на историческое исследование слишком большие надежды в плане выяснения точных и ясных выводов и рецептов для настоящего. Американский дипломат Генри Киссинджер писал, что уроки истории не являются автоматически применимым руководством к действию; история учит по аналогии, проливая свет на сходные последствия сопоставимых ситуаций. Однако каждое поколение должно определить для себя, какие обстоятельства на самом деле являются сопоставимыми5.
Проблема состоит еще и в том, возможно ли вообще высказать истинное научное мнение о политических и социальных ценностях, о свободе, равенстве, справедливости, о правильной организации общества и правильной политике? На этот вопрос следует ответить отрицательно – еще Макс Вебер и Карл Поппер признавали, что наука не в состоянии решать этические, этико-политические проблемы, она не в состоянии указать на истинное значимые и великие ценности, она не может обосновывать ценностей, наука не может выработать и обосновать совершенно правильную политику. Претензии науки (в нашем случае – истории) значительно скромнее: она нам только может сказать, чем является настоящее и что было в прошлом. Политические и моральные решения – это дело человеческой ответственности. Нельзя заменить науку верой, мировоззрением, политической волей – в этом случае наука утеряет точку опоры. Даже если мы в принципе едины в нашей системе ценностей, то все равно мы не должны оценивать другие общества, чужие времена с точки зрения этой нашей общепринятой сегодняшней системы ценностей – в ином случае нам их не понять.
Вместе с тем нам известно, что, несмотря на то что в разные времена разные общества по-разному относились к добру, справедливости, гуманности, все же в современном обществе существует базисный этический консенсус человечества. Он соответствует не только нашим религиозным и гуманистическим убеждениям, но он может быть научно обоснован. Исключительные случаи в истории (как Гитлер) нельзя рассматривать без моральной оценки, я полагаю, что это научно обосновано, ибо в нацистские времена выступали против этого базисного этического консенсуса. С другой стороны, предостерегал немецкий ученый Томас Ниппердей, этот этический консенсус должен оставаться минимальным, его нельзя использовать в аргументации за эгалитаристское общество, за «справедливость» в обществе6…
Другой немецкий ученый Эрнст Нольте отмечал, что историк, и особенно историк идеологий, должен смириться с тем, что его будут критиковать те, кто, оглядываясь назад, видит только абсолютное добро или абсолютное зло. На картине, которую ему предстоит написать, уместны лишь различные оттенки серого, использование белой краски запрещено также строго, как и черной. Только своим изложением, а не предпосланными ему исповеданиями веры или заверениями, может он убедить своих читателей, что в этих оттенках серого присутствует определенная градация. Историк должен, конечно, сознавать, что между историческим мышлением и идеологиями нет принципиальной разницы, поскольку и историк, и идеолог вынуждены абстрагироваться и обобщать, не будучи способными охватить все богатство многоликой действительности. Коль скоро человек – существо мыслящее, он вынужден создавать себе идеологии и быть поэтому несправедливым. Теологи учат, что справедлив один Бог, потому что он создает единичные вещи тем, что их мыслит, так что ему не приходится искажать их с помощью понятий. Историческое мышление не должно склоняться перед волей к достижению целей, ведь именно эта воля характерна для любой идеологии. Поэтому, хотя постановка вопроса требует от историка определенного отбора материала, в пределах этого отбора у него не должно быть более высокой цели, чем создать максимально полный и верный образ трактуемого предмета7.
Призыв к объективности, честности и строгости – это призыв интеллектуального, а не морального или политического порядка. Историк, если он стремится к объективности, должен сопротивляться искушению заставить историю служить чему-либо, кроме нее самой. Ведь он хочет понять, а не преподать урок или прочесть мораль. Ныне принято иронизировать над словами Ранке, но, если рассмотреть его слова в контексте, они остаются актуальными и адекватными: «На историю возложили задачу судить прошлое, учить современный мир, чтобы служить будущим временам: наша скромная попытка не вписывается в столь высокие задачи; мы всего лишь стремимся показать, как все было на самом деле»8.
Встает вопрос: а не ликвидирует ли постулат объективности ценностной ангажированности историка? Как история в качестве коллективной памяти может служить утверждению идентичности общества? Нужна ли обществу вообще объективность истории? Я думаю, что нужна. История должна служить обществу, но если она это будет делать, не обращая внимания на объективность, то просто будет повторять имеющиеся в обществе предрассудки (классовые, расовые, политические). Общество ожидает от истории не прагматической партийной позиции, а правды. История имеет своей задачей выявление неискаженной правды о прошлом. В этом и состоит служба истории обществу. История учит общество о причинах того, почему действительность такая, а не другая и почему она такой стала, а также тому, как предвидеть следствия наших возможных действий, как отдельные ценности соотносятся друг с другом, каково отношение средств и целей, в чем причины периодических кризисов идентичности наций, конечности человека и ограниченности его возможностей. Стремящаяся быть объективной, история дает нашей воле и нашему существованию представление о границах опыта, традиции. Эти представления основываются не на вымысле или искусственных конструкциях, а на действительном опыте прошлого, благодаря этому именно история и держит будущее открытым, вопреки претензиям всяких идеологов и политиков. В этом и выражается ответственность историка за общество9.
Существует такая опасность, что изображение прошлого, имеющее идеалом объективность, может получить апологетические черты. На эту опасность указывает известное суждение, что понять – это значит простить (tout comprendre c'est tout pardonner). Однако всякая апология прошлого включает в себя те же ценностные суждения. Эта апология не следует из принципа свободной науки, не из принципа объективности. Свободная от ценностных суждений историография может преодолеть опасность апологии, а именно не в тот момент, когда она описывает историю победителей – не вчерашних и не завтрашних: история описывает и объясняет не только историю победителей, но и побежденных.
Французский ученый Раймон Арон писал, что «смысл осуществляемого историком исследования причин – не столько в том, чтобы очерчивать контуры исторического рельефа, сколько в том, чтобы сохранить или воссоздать в изучаемом прошлом неизвестность будущего». «…Прошлое с точки зрения историка было будущим с точки зрения его исторических персонажей»10. Таким образом, нравственный и политический урок уважения непредсказуемости будущего – это урок свободы. Роберт Коллингвуд в свойственной ему парадоксальной манере доказывал, что нельзя понять, что история является автономной наукой, не поняв при этом, что человек свободен. Тем самым он затрагивал основополагающий вопрос: при условии уважения неизвестности события именно история позволяет мыслить одновременно свободу человеческого действия и принуждение, накладываемое ситуацией11.
В цитированном выше труде Эрнста Нольте также указывалось на то, что беспристрастность, к которой стремится историческое мышление, не может быть божественной, а потому безошибочной. Она не может избежать опасности перейти на одну из сторон, пусть даже скрытным и субтильным образом. Но, если использовать юридическую метафору, она представляет собой стремление поставить на место военно-полевых судов и показательных процессов регулярное судопроизводство, в котором выслушают и свидетелей защиты, а судьи не только сугубо формально отличны от прокуроров. Отдельные приговоры будут разными и между смертным приговором и оправданием там будет и промежуточная ступень. Несмотря на это, они не безошибочны, и не исключается и пересмотр приговоров.
Нольте вполне справедливо писал, что если бы Гитлер победил, то в покоренной немцами Европе историография на века превратилась бы в его восхваление и многие люди (за исключением жертв), о которых никто бы не упоминал, были бы счастливее, поскольку были бы избавлены от необходимости обдумывать и сравнивать. Многие сегодняшние антифашисты были бы убежденными поборниками режима. Только для исторического мышления и пересмотра не нашлось бы места, а потому люди, мыслящие исторически, воспринимались бы в этой системе как отрицательные типы и не имели бы никакого права на существование. Но даже понимание этого не должно толкать их к тому, чтобы задним числом вступать в ряды сражающихся современников12.
Для того чтобы показать внутреннюю логику взаимодействия политической традиции и политической культуры, с одной стороны, и политической действительности в специфических условиях первой трети XX века в Германии, с другой стороны, потребовалось разрешить ряд «наползающих» друг на друга задач. Довольно сложно было отделить позитивное и негативное в немецкой традиции, где, как известно, мифы нации и мифы демократии мирно сосуществуют до поры до времени; серьёзную научную задачу составляло также новое истолкование политических условий возникновения особенно мощного немецкого национализма в межвоенный период (Версальский мир, Ноябрьская революция, специфические условия Веймарской республики); сама по себе «немецкая идеология» и её проявления также требовала целенаправленного анализа и параллелей с политическим мышлением основных идеологов «консервативной революции» и, наконец, весьма деликатную научную цель составил пересмотр ряда устаревших позиций отечественной историографии в отношении исторической и политической обусловленности национал-социализма. На всем протяжении исследования я стремился не упустить из виду эту сложную и комплексную цель. В мои намерения не входит разбор конкретных проблем немецкой истории, поскольку в этом случае изложение выйдет сумбурным, не удастся избежать повторов… Важной задачей представляется также пересмотр некоторых устаревших российских моральных позиций в отношении германской традиции в целом, которые, впрочем, легко объяснимы и на них в мире никто внимания не обращает и не обратит, если мы это сами не сделаем. Эти позиции мало того, что всегда были не очень адекватны и справедливы, к тому же в наше время они очень сильно устарели, ибо немцы в послевоенное время смогли совершить национальное покаяние невиданных масштабов и создали действительно жизнеспособную и устойчивую демократию на основе собственной политической культуры, между прочим, той самой, которая привела к нацизму. Аналогия с нацизмом и немецкой послевоенной ситуацией, с одной стороны, и большевизмом и нынешней российской действительностью, вернее, ожиданиями подобных Германии перемен в сторону демократии в нашей стране – с другой, обнадеживает…
Пролог: политическая культура и социальные мифы
Истинная историография уже в силу своего метода связана с мифом. Ибо при всей связи истории с логосом, даже с логическим, призвук которого есть в любом мифическом акте, лишь через мифическую проекцию человеческой души и ее структуры, лишь через проекцию человеческого духа в событийное может быть достигнуто историческое познание, только так анонимный поток событий может быть разложен и расчленен на «единицы», на те исторические единицы, воссоединение которых делает зримой общую картину истории.
Герман Брох13
Любая реформа, кроме моральной, бесполезна.
Томас Карлейль
Если мне говорят, что дьявола не существует, это просто миф, я отвечаю: дьявол – это и есть олицетворение мифа, именно поэтому он и существует, и продолжает орудовать.
Швейцарский писатель Дени де Ружмон14
Рано или поздно мифология проявится как основание истории, поскольку мифы отбираются историей – они не могут проявиться сами по себе в силу простого выбора.
Ролан Бартес15
Особенности политической ситуации после Первой мировой войны в Европе и Германия.
«Времена счастья народного, – писал некогда Гегель, – это пустые страницы в книге истории». Слова Гегеля нужно понимать так, что в годы народного благоденствия не только ничего не «происходило», но и времена эти были духовно убоги и плоски. Эти слова не могут быть отнесены к истории Веймарской республики, короткий век которой (11 августа 1919 г. – 30 января 1933 г.) был недолог, но насыщен политическими и духовными перипетиями и завершился установлением нацистской диктатуры. Начало первой немецкой демократической республики совпало с первым подъемом и расцветом демократической идеи, демократических институтов и духа демократии (второй подъем, не прекращающийся до сих пор, последовал после 1945 г.). «Ничто не казалось после окончания Первой мировой войны, – писал Йоахим Фест, – столь непререкаемым, как победа демократической идеи. Над народами возвышалась бесспорно и неопровержимо, как объединяющий принцип эпохи, идея демократии»16. Но это было обманчивое впечатление: в межвоенной период мимолетный расцвет демократии во многих европейских странах быстро сменился установлением фашистских, военно-монархистских, бюрократических, авторитарных режимов и клик. К концу 30-х гг. гражданское общество сохранилось лишь в 13 европейских странах (6 республик и 7 монархий): Франции, Англии, Бельгии, Голландии, Люксембурге, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехословакии, Швейцарии, Ирландии, Исландии. На остальной части Европы раскинулось обширное автократическое пространство, в которое входило 16 стран: СССР, Германия, Австрия, Италия, Португалия, Греция, Болгария, Венгрия, Югославия, Албания, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Испания.
Эта удивительная синхронность развития европейских государств, массовый отказ от начавших было утверждаться демократических принципов в пользу авторитаризма или тоталитаризма как в Германии, так и в СССР имели собственные причины. В то же время разумным выглядит предположение, что могла иметь место и общая закономерность политического развития европейских стран в межвоенный период. Эта закономерность может быть сведена к противоречию между национальным политическим опытом и практикой либерализма, парламентской демократии. Дело в том, что в числе основных условий Антанты по заключению мирных договоров было требование установления демократии (прежде всего это касалось Германии). Запад вообще стремился изобразить Первую мировую войну как борьбу против злодейского германского империализма. Президент Вильсон указывал, что «цель войны состоит в демократизации Германии»17. По существу, весь вильсоновский миротворческий пафос покоился на превознесении демократических принципов организации послевоенной Европы. Как известно, все страны Антанты были буржуазными демократиями, за исключением России: позиция России и в Первой, и во Второй мировых войнах «мешала» образцовой конфронтации демократии и авторитаризма. Таким образом, в Германии, Австрии, Венгрии, Турции и Болгарии имело место государственное переустройство, произведенное под определенным давлением Антанты. Значительное влияние стран Антанты испытывали вновь возникшие европейские государства – Чехословакия, Польша, Албания, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия. Население восточноевропейских стран, не имевших государственности до 1918 г., составило 1/4 часть (100 млн человек) населения всей Европы18.
Безусловно, не может быть и речи о «революции сверху», произведенной странами Антанты, но и отрицать это давление нельзя. В то же время нельзя не указать на то, что в ряде стран первоначальная растерянность традиционных правящих классов была связана с послевоенной сумятицей, грозными революционными веяниями из России.
Важен также и социально-политический аспект, который имел фронтальное воздействие на европейскую традицию и был свойствен исключительно началу XX в. Дело в том, что если в старые времена политическая верхушка действовала в условиях эпизодической активности масс, то Первая мировая война принесла необыкновенно высокий подъем национального самосознания масс (в XX в. мобилизованных вследствие общего роста культуры, всплеска романтического национализма 1914 г., усиления воздействия средств массовой информации, индустриального роста, проявления тенденций развития современного «массового общества»). Особенно этот процесс заметен на примере составлявшего большинство населения в Европе крестьянства, которое ранее не имело никакого отношения к национальной политике и национальному ангажементу. Как выразился Ганс Тамер, из померанских и апулийских крестьян неожиданно, менее чем за поколение сделались немцы и итальянцы19.
Атмосфера национальных страстей и социальных потрясений сделала все европейские нации весьма восприимчивыми к национальным лозунгам и социальным обещаниям. Вместе с тем война помогла прорыву к демократии, что особенно заметно на примере определенного политического давления со стороны Антанты после окончания войны. Этому процессу пытался противостоять революционный коммунизм, обладавший определенной интеллектуальной соблазнительностью для всех критиков современного капитализма и опиравшийся на революционно-романтические претензии Советской России. Давление и мощь стран бывшей Антанты, однако, преобладали в межвоенный период, в отличие от периода после 1945 г., когда сложилась иная расстановка сил, что и способствовало распространению коммунизма за пределы СССР.
Первоначальное торжество либеральной политики и демократической практики, насаждаемых бывшими странами Антанты, сменилось вскоре своей противоположностью: число демократий в Европе вскоре драматически сократилось и не в пользу революционного коммунизма (который, впрочем, вскоре выродился в тоталитарную диктатуру), а в пользу авторитарно-националистических и тоталитарных режимов. Этому были свои конкретные причины – запутанный клубок социально-экономических, структурных проблем нелегко было распутать в одночасье. Нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что демократия стала обыденностью и поэтому потеряла свой первоначальный блеск, возвышенность, принципиальную новизну и воодушевляющий подъем: действие мифов демократии оказалось не столь устойчивым, им были успешно противопоставлены мифы нации. Эту ситуацию хорошо определяет шутливая французская поговорка периода Третьей республики: «Республика оказалась так хороша, как будто мы до сих пор живем во Второй империи» (que la République était belle sous l'Empire). В принципе, с точки зрения их внутренней мифологической природы нет никакой разницы между мифами демократии и мифами национальными. Разницу только можно усмотреть в том, что они существуют в разных культурах. В разных культурах и разных ситуациях миф всегда был для людей терапевтическим средством от паники и депрессии, строгой конструкцией, организующей в систему беспорядок и дающей опору человеку.
Колоссальное значение для политического развития Европы имел Версальский мир, который, декларируя национальное самоопределение, по существу, произвольно провел национальные границы, что породило бесчисленные конфликты, обиду. Ненависть и национальная нетерпимость были приметой эпохи не только в побежденных странах, на этот счет известный американский философ и социолог Ханна Арендт писала: «Каждый народ против другого, соседа: словаки против чехов, венгры против словаков, хорваты против сербов, украинцы против поляков, поляки против евреев и так далее в бесконечных вариациях, которые были ограничены лишь числом европейских народов»20. В принципе не нужен был и Гитлер, чтобы натравить всех против всех.
В межвоенный период кризис демократии в странах, только что ее воспринявших, был повсеместен, причем слабость демократии, ее неэффективность понимались не как структурные проблемы государства, политического сознания, а как внутренне присущие демократии черты. Итог во многих случаях был одинаков: в Италии в 1922 г. был установлен фашистский режим, в Польше у власти утвердился диктатор Пилсудский, авторитарные режимы укрепились в Латвии (Карлис Ульманис), Литве (Антанас Сметона), Эстонии (Константинас Петс), конституция прекратила свое действие в Югославии и началась военно-монархическая диктатура короля Александра, в Венгрии – диктатура регента адмирала Миклоша Хорти (регент без перспективы монархии, адмирал в стране, не имеющей выхода к морю), в Болгарии – диктатура Петкова, в Румынии диктатура Иона Антонеску установилась в 1940 г. (до этого фактически существовала королевская диктатура), в Испании – диктатура генерала Франсиско Франко (франкистский режим имел некоторые общие с фашизмом черты), в Португалии – диктатура Антониу Салазара, в Греции – военная диктатура генерала Иоанниса Метаксаса (до него была королевская диктатура), в Германии – нацистская, в СССР – большевистская диктатура. Нельзя забывать, что и во Франции фашисты имели большие шансы, и лишь существенные и своевременные меры правительства Народного фронта ликвидировали эту опасность и сохранили демократию.
В начале 20-х гг. Томас Манн писал, что истинной тенденцией развития современного мира является фашизм, что «Европа психологически готова к фашистской инфильтрации в политическом, моральном, интеллектуальном отношении»; Манн называл фашизм «болезнью времени, которая повсюду дома и от которой не свободна ни одна страна»21. Даже реформы «нового курса» президента Франклина Делано Рузвельта в такой, несомненно, демократической стране, как США, многие историки, и не только у нас в стране, рассматривали первоначально как профашистские. Во второй половине 20-х гг. антипарламентаризм стал почти правилом хорошего тона, модой, что коснулось даже США и Англии, как отмечал немецкий историк Ральф Дарендорф22. Можно привести обширный и солидный список известных современников, испытывавших симпатии к фашизму: молодой Уинстон Черчилль, Д. Б. Шоу, И. Стравинский, Д. Ллойд Джордж, М. Ганди.
Каждый из вышеупомянутых режимов исторически уникален и должен рассматриваться в контексте национальной политической культуры, истории, традиций. Нельзя считать националистским утверждение, что немцы и русские имеют иной духовный склад, чем англичане или аборигены Австралии. Кроме того, в пределах одного народа в различные исторические эпохи могут господствовать различные представления. Уже в XIX в. были люди, которые знали, что не всякая нация способна беспрепятственно воспринять либеральную политику, так, Уолтер Бейджуот в 1874 г. писал о Франции (его слова, впрочем, относятся к любой стране): «Парламентское правительство – это такая штука, которая не везде будет иметь успех; напротив, опыт учит, что эта правительственная форма очень редко подходит и часто не удается, так как сочетание ее составных элементов должно быть крайне сложным и очень редко встречается. Первое, что необходимо для парламентской правительственной формы, – это то, чтобы нация располагала достаточными нервами для непрерывных дебатов и частой смены правительств»23.