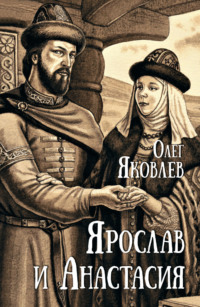Loe raamatut: «Ярослав и Анастасия»
© Яковлев О. И., 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025
* * *
Галицкий Осмомысл Ярослав!
Высоко сидишь ты на своём златокованом престоле,
подпёр горы Венгерские своими железными полками,
заступив королю путь, затворив Дунаю ворота,
меча тяжести через облака, суды рядя до Дуная.
Слово о полку Игореве. Перевод Д. С. Лихачёва
Глава 1
В лето 1162
Вложены в ножны смертоносные мечи, спрятаны в налучья тугие луки, убраны в колчаны калёные стрелы. Мир настал на многострадальной Червонной Руси1, минула, схлынула горькая пора лихолетья. Устрашены или погублены враги, заключены и укреплены договоры и союзы с владетелями порубежных и более дальних земель. Самое время пришло возводить храмы, открывать школы, восстанавливать и устанавливать на земле порядок. Благо пашни были обильными, людин2 не бедствовал, а ремественниками знатными и тороватыми купцами Галичина славилась издревле.
Получив весть о кончине в Фессалониках князя-изгоя Ивана Берладника, своего двухродного брата и соперника, князь Ярослав Осмомысл, более десяти лет вынужденный защищать свой стол3 от посягательств беспокойных родичей, как-то враз, в единый миг понял вдруг: ушла в небытие, в прошлое часть жизни. Жизни и самого его, властителя Галича, и всей Руси Червонной. Он победил, пускай и горек был вкус этой победы. Теперь, он знал, грядут совершенно иные дела, и ждут его годы покоя и разочарований, тяжких потерь и великих радостей. Это будет, должно быть, ибо таков мир вокруг, жестокий, но прекрасный, жуткий и неповторимый в своём многообразии.
Раскрыв в очередной раз книгу пророка Екклесиаста, прочитал там князь: «Всему своё время, и время всякой вещи под небом… Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать…»
Воистину, после бурь и войн прежних, после потерь и поисков настало для него, владетеля Галича, время сберегать обретённое – власть, землю свою, Русь Червонную, княжество Галицкое, что раскинулось ныне от польских границ и истоков обоих Бугов4, Западного и Южного, почти до берегов Эвксинского Понта5. О былых же ратных делах напоминали Ярославу два застарелых шрама. Один проходил по лицу, тянулся под правым глазом от резко выступающего носа с родовой горбинкой к виску, второй белел на деснице6 между средним и безымянным перстами и пересекал вдоль всю ладонь.
С недавних пор по утрам Ярослав стал подолгу бывать на забороле7 крепостной стены. Во всякую погоду: в снег ли, в дождь, в жару – непременно простаивал он какое-то время у зубцов или в стрельнице, окидывал взором дальние дали, любовался раскинувшимся внизу собором Успения, смотрел на гладь Днестра и заречные холмы, густо поросшие лесом. Вдыхая полной грудью чистый воздух, словно набирался князь сил для грядущих дел.
Вот вроде всё он сделал, всего достиг в свои тридцать семь лет, его уважают, его боятся, но вставали перед ним новые и новые заботы. Нелёгок путь правителя, тяжко оно, бремя власти над землёй. Это он ощутил в полной мере. Лишь иногда, на короткое время позволял он себе отвлечься от дел и выехать куда-нибудь за город, на ловы8. Но и там его настигали вести, и там подступали к нему бояре, просили волости в держание, подходили, улучив мгновение, смерды9 и закупы10, падали в ноги, молили о княжеском суде.
Такова была жизнь. Власть – она забирала его, Ярослава, целиком, без остатка, заставляла погружаться в дела, как в омут с головой. А тут ещё и в доме собственном не было никакого покоя и порядка.
Был Ярослав женат на дочери покойного Юрия Долгорукого, Ольге, – женщине грубой, неотёсанной, громогласной, с годами располневшей непомерно. Супруги не любили друг друга, и неприязнь эту порой едва сдерживали. Скрадывали их извечное взаимное недовольство ночные совокупления, но и они становились с годами всё реже. В браке с Ольгой имел Осмомысл двоих детей – сына Владимира и дочь Евфросинью. К дочери привязался, с дочерью возился, когда позволяло время, Владимира же недолюбливал, ибо полагал, что не его то сын и что была уже Ольга беременна, когда двенадцать лет назад ударили их отцы по рукам, заключая выгодный союз между Суздалем и Галичем…
Князь радовался тем немногим дням и часам, когда мог отбросить в сторону докучливые заботы и забыть о судах, волостях и обо всём, что творится в своём тереме. Вот почему улыбнулся Ярослав, когда подошёл к нему в очередной раз с предложением поохотиться в своих лесных угодьях боярин Чагр, сын перешедшего на службу ещё к его деду, Володарю, половецкого11 бея12.
– Говоришь, зверья много? – переспросил Осмомысл, лукаво щуря свои глубоко посаженные глаза цвета речного ила. – А хоромы там у тебя как, добры ли, просторны?
– На всех места хватит, княже. Так поедем?
– Поедем, боярин. Уважу тебя.
…Соловый13 иноходец под седлом вышагивал важно, степенно, выбрасывал вперёд длинные ноги, иногда мотал светлой гривой, отгоняя назойливых мух.
Намедни14 Ярослав самолично вычистил и помыл своего любимца. Добрый конь чуял руку хозяина, шёл спокойно, твёрдо. На голове у него красовался пышный султан из белых перьев.
Лицо галицкого князя загорело под августовским солнцем, русые волосы, спускающиеся на чело и на затылок из-под войлочной шапки, выгорели, посветлели, равно как и долгая узкая борода, придававшая Ярославу вид скорее учёного мужа, нежели правителя.
По правую руку от него скакал боярин Чагр, по левую – Шварн Милятич, чуть позади держался Зеремей Глебович. За ними следом растянулся отряд молодшей дружины15. Здесь же ехали и боярские родичи и слуги. На крытых рядном возах везли добро и доспехи.
Лёгкое алое корзно16 струилось за плечами Ярослава, жемчужная застёжка, фибула17, сверкала на плече, рукава синего кафтана, шитого из лунского18 сукна, перехватывали обручи. Бояре тоже были одеты в богатые одежды – на каждом был плащ-мятелия, на выях19 блестели золотые и серебряные гривны20.
По приглашению Чагра держали они путь на берега стекающей с Горбов быстрой речки Ломницы. На самом крутом яру над рекой находились двухъярусные Чагровы хоромы, а окрест21 обнесённого высоченным тыном двора простирались по обоим берегам пенистой речки обширные охотничьи угодья. В хоромах решено было на короткое время остановиться и поутру заняться ловитвою. Хоть ненадолго, но хотел Осмомысл отвлечься от державных хлопот.
А хлопоты предстояли немалые. Едва вздохнул князь облегчённо, сведав о гибели Берладника, как смуты охватили соседнюю с Галичиной землю угров22.
На исходе мая в Эстергоме23 в королевской резиденции в одночасье внезапно скончался прежний лютый враг Ярославова отца, а в последние годы его союзник, король Геза. Власть в Венгрии взял совет из «лучших и достойных лиц», во главе которых встали вдовая королева Фружина и епископ Лука. На престол был возведён один из сыновей покойного, пятнадцатилетний Иштван. Этому воспротивился брат умершего Гезы, Владислав, до недавнего времени – правитель Боснии. В угорские свары тотчас вмешался ромейский базилевс24 Мануил, решивший поддержать Владислава в борьбе за трон. Угорская знать раскололась надвое, в ряде городов вспыхнул мятеж против Иштвана и его матери.
Как следовало сейчас поступить ему, Ярославу? Недавно он разорвал былое соглашение отца с империей ромеев, в котором покойный князь Владимирко признавал себя вассалом Мануила. И теперь приходилось кусать уста и мучительно размышлять: а не поспешил ли он? Но разве мог он предвидеть столь неожиданный поворот событий?!
В одном был Осмомысл уверен – в прочности своего союза с Волынью. Тамошний владетель, князь Мстислав Изяславич, его братья и родичи непременно помогут ему ратью, если только Мануил и Владислав осмелятся… Но об этом пока не было и речи. Слишком тугой узел противостояний завязывался в Эстергоме, в самом центре Европы. Он, Ярослав, не торопился, старался взвесить все «за» и «против». И он не решил покуда, чью принять сторону.
…Из-за поворота дороги вынырнули просторные хоромы. На широком увале раскинулся двор с приземистыми мазанками челяди25, с псарней и конюшней, с одноглавой часовенкой, сложенной из белого галицкого камня.
Угорский иноходец величественно вплыл в ворота. Тотчас обступила вершников26 толпа челяди. Князю кланялись до земли, помогли сойти с коня, проводили к терему. Ярослав приветливо кивнул сыновьям хозяина, Матфею и Луке, узнал племянника Чагра Акиндина, скромно стоящего в стороне от ворот, знаком поманил его к себе, сказал:
– Ну вот, друже. Просился ты на службу, и настал наконец-то, пробил твой час.
Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никто их не слышит, князь добавил вполголоса:
– После ловов приходи. Будет к тебе одно дело хитрое.
Смуглое лицо молодого половчанина просияло, он слёзно благодарил князя и кланялся ему в пояс.
«Поглядим, как управишься с первым порученьем. И способен ли будешь не токмо27 мечом махать, но и многотрудное проворить», – думал князь. На Акиндина он надеялся.
Навстречу ему в малиновом летнике с широкими рукавами, с венчиком в белокурых волосах выступала павою совсем ещё юная девушка, столь красивая, что глаза захотелось зажмурить. Не бывает такой красоты на земле, только ангелы могут быть столь прекрасны. Как сказочное видение, проскользнула, неслышно ступая по траве, молодица через расступившуюся толпу слуг, поднесла Ярославу на рушнике хлеб-соль, поклонилась ему, чуть присев и склонив голову. Глазки серые с раскосинкой смотрели пытливо, без робости и смущения.
«Неужели она?! Та самая девочка Настя, дочь Чагра?! Ну да, конечно! Выросла, во красу писаную превратилась! Сколько ей лет? Пятнадцать, должно быть. И глазки те же, и уста пунцовые, и носик тоненький! И глядит-то как! Словно ждёт, что я ей скажу».
С трудом, одолевая наваждение, оторвал князь взор от красавицы-девушки.
– Спасибо за хлеб-соль, боярышня, – коротко поблагодарил он её и, переглянувшись с Чагром, пошёл ко всходу28 с мраморными ступенями.
– Всегда тебе услужить готова дщерь моя, – осторожно заметил Чагр.
Молвил тихо, так, чтобы ни Зеремей, ни Шварн не услыхали.
В горнице допоздна шумел весёлый пир. Ярослав сидел вместе со всеми, поднимал чару, а думал только о ней – об Анастасии. Глухими толчками билось в груди сердце. Пил одно красное вино, ол29 и мёд не принимал, по прежним пиршествам зная, как после смешения напитков болит чрево. Вообще, выпил вроде он в тот вечер немного, но голова кружилась, по телу растекалась какая-то необычная лёгкость.
Боярский челядин отвёл его в ложницу, слуга – старый верный Стефан – стянул с ног тимовые30 сапоги, помог снять рубаху. Повалился Ярослав на пуховую постель, мягкую и широкую, забылся сном.
Проснулся он ещё затемно, словно от толчка какого-то. Перекрестился недоумённо и даже немного испуганно, огляделся по сторонам. Ложница, как ложница. Вокруг – никого. Стефан посапывает тихо на ларе у двери.
Князь поднялся с ложа, набросил на плечи рубаху, прислушался, уловил едва различимый короткий стук в дверь.
Странно, что старик Стефан не проснулся. Он всегда спит чутко и слышит каждый шорох в ночи. Или… Бог весть, чем угостили его на поварне боярские слуги.
Ярослав, неслышно ступая, подошёл к двери и медленно отодвинул засов.
Чья-то маленькая рука ухватила его за запястье.
– Пойдём, княже. Ступай за мной, – прошелестели милым шёпотом слова.
Яко тать31, крался он по переходам, поднимался по лестницам, спускался вниз, потом снова поднимался.
Возле одной из дверей спутница его остановилась. Звякнул в замке ключ. Вспыхнула зажжённая свеча. Огонь выхватил из темноты лицо Анастасии, улыбка проступала на её пунцовых устах.
Она потянула его к себе, втащила в камору и решительно закрыла дверь.
Ярослав стоял очарованный, глядел на неё и не мог налюбоваться. Не передать словами всей открывшейся ему в одночасье юной красы.
Девушка села на край скамьи, со светлой улыбкой глянула на него, оробевшего, застывшего возле дверей, залилась тоненьким журчащим смехом.
– Испугался меня, что ль? Я думала, все князья – люди отважные и смелые. Да не русалка я, не вила лесная. Не погублю, не бойся. Просто… Хорошо нам с тобою будет. Вижу, по тебе вижу: несчастен ты. Никто тебя не приголубит, никто не пожалеет. А я… я для того и пришла.
Откуда столько смелости взялось у юной Анастасии? Зарделась девица, вспыхнули багрянцем её нежные гладкие ланиты. Задрожали трепетные уста. Чуть не разрыдалась боярышня, но Ярослав порывисто обхватил её сильными своими дланями, впился устами в багрянец щеки, затем жарким поцелуем ожёг уста. Забыта была в этот миг обоими робость, забыл Ярослав, что он – князь, что у него жена и дети, а Анастасия не помнила, что есть у неё строгий отец и братья. Всё осталось где-то в стороне, вдали, были в целом мире сейчас только они двое – мужчина и женщина, и было охватившее их обоих всепоглощающее чувство, такое чистое, светлое, обжигающее, как летнее солнце, яркое, как вспышка костра в чёрной ночи.
До утра они лежали на широком ложе в светлице. Утомлённая ласками, Настя заснула, князь с умилением и нежностью смотрел на её лицо, слушал её тихое дыхание. Он осторожно провёл ладонью по её волосам, долго любовался её маленьким розовым ушком, её тонким носиком, словно из мрамора выточенным, лебединой шеей, на которой чуть заметно билась голубоватая жилка.
«Экая прелесть!» – только одно и сидело в голове.
В оконце, прорубленное наверху в стене, упал луч восходящего солнца. Ярослав спохватился, стал наскоро надевать порты, натянул на плечи рубаху. Девичья нежная длань обхватила его, легла на живот.
– Давай ещё полежим, – шепнула Настя.
– После, лада моя. Сейчас мне идти надо. Челядь, бояре. – Ярослав обернулся, крепко расцеловал её и с улыбкой добавил, разведя руками: – Князья – люди несвободные. Всегда на виду, все на них смотрят. Хочешь стать княгиней – пойми это. Часто приходится идти наперекор своим желаниям. Ну, до встречи. Не в последний раз, чай, видимся. Жалимая моя!
– Погоди. Не уходи покуда! Всё одно дороги не отыщешь в лабиринтах наших. Провожу. – Анастасия засмеялась. – Гость дорогой! Заплутаешь в переходах. Да тем и отбрешешься, еже32 что. Вышел, мол, по нужде, да обратной дороги не сыскал.
– Князю оправдываться не перед кем, – усмехнулся Ярослав, понимая, впрочем, что возлюбленная права.
Не замеченные вроде бы никем, покинули они бабинец33 и расстались в переходе на лестнице. Ярослав узнал дверь своего покоя.
– Ночью приходи. Или я приду. Челядинца своего отошли куда, – шёпотом предложила на прощанье девица. Лукаво светились её серенькие глазки. – Да, – поспешно добавила она, – и на ловах себя береги. На зверя не лезь. Пущай бояре тешатся.
В сенях34 послышался шум. Настя тотчас исчезла в переходе, словно растворилась. Будто и не было её вовсе, а был один сон, одна марь какая-то. Виски сдавила лёгкая боль. Ярослав юркнул в свой покой и растолкал старика Стефана.
– Вставать пора! Солнце на дворе, – объявил он, нарочито хмурясь.
…«Хочешь стать княгиней», – так сказал Насте Ярослав. Застучало сердечко девичье, забилось, когда шла Настя по переходу и вспоминала эти слова. Ещё бы, не хотела она быть княгиней! Всюду и всегда жаждала она быть первой, встать мечтала выше прочих, вознестись так, чтоб голова кружилась. Напрасно старая бабка-ворожея остерегала, говорила ей, качая головой:
– Падать, чадо моё, больно с высоты высокой! Не лезь в гору крутую! Беда тамо тя35 ждёт!
Вечно боялась за неё бабка. Да вот сама не убереглась, в прошлую зиму перебиралась по льду через Ломницу, провалилась в воду и утопла. Оставила после себя она Насте каморку на верхнем жиле36, на чердаке хором, старую книгу чародейскую в дощатом окладе и кое-какие знания ведовские.
Разумела Настя толк в травах, собирала их на лужайках и в лесу, каждую травку в строго означенное время: одну – на закате, другую – на рассвете, третью – в полдень.
После из сухих сборов готовила дочь Чагра разноличные зелья. Никого не лечила, никого не травила, никому доднесь37 в питьё ничего не подливала. Просто по нраву была сия знахарская наука. Когда же заметила Настасья внимание к себе князя, решила тайное знанье своё применить. Незаметно подсыпала старому Стефану в чару сонной травы, Ярославу же добавила в вино немного приворотного зелья. И, кажется, возымело и то, и другое действие. Вот так и обратилась прежняя нелепая забава в важное для юной боярышни дело.
Идя по переходу и вспоминая Ярославовы ласки, Настя довольно хихикала, прикрывая ладонью рот.
– Мой будешь, княже! Никуда не денешься! Всё от тебя получу! – беззвучно шептали уста.
Молодость, красота, неуёмная энергия били из дочери Чагра могучей струёй. Она клялась самой себе, что ни за что не остановится, покуда не взберётся на самую крутую вершину. А дальше? Да пусть и вниз, пусть – падение! Пусть – вдребезги! Она рискнула раз, рискнёт снова. И будь, что будет! Лучше один день провести на высоте, в короне золотой на голове, чем век вековать в безвестности и ходить в убрусе38 чёрном!
Начала бедовая лукавая девка свою игру, и ничто на свете не могло теперь её удержать: ни доводы разума, ни наставления отца, ни опасения покойной бабки.
Глава 2
Утренний лес наполняло звонкое пение птиц. Воздух напоён был свежестью, запахами листвы и хвои. Меж дерев промелькнула небольшая полянка, вся сплошь покрытая сухой выжженной солнцем травой. Вершники вереницей проскакали по её краю, унырнув затем в тенистую прохладу под раскидистые дубы и грабы.
Вдали раздался громкий лай собак.
– Зверя гонят! – радостно крикнул, предвкушая лихую забаву, Матфей Чагрович.
Всадники, нещадно хлеща коней, растеклись по лесу широкой лавой.
Ловчий, холоп39 Чагра, показался из поросшего орешником оврага.
– Боярин, медведя стронули! Не медведь – медведище! Огромадный, лохматый. Отродясь таковых не видывал!
Загорелись глаза у удатных40 молодцев, рванулись они вперёд, туда, куда указывал ловчий.
Вспенив воду в ручье на дне оврага, вершники взмыли на увал, вытянулись в линию, помчались в сторону Ломницы, откуда доносились крики и лай.
Ярослав держался сзади. Слава Христу, о его присутствии, кажется, все забыли. Он остановил скакуна, неторопливо спешился, напился из ручья ледяной ключевой воды. Права Настя: пусть тешатся ловами бояре. У него, Ярослава, к охоте душа не лежала.
Он достиг, ведя коня в поводу, берега Ломницы. Крики и лай удалялись, затихали, уходили куда-то вдаль, в сторону лесистого гребня Горбов.
Красивы здешние места, очаровывают путника, особенно в конце лета или в начале осени, когда одеваются деревья в золотой сказочный наряд. Глаз не оторвать от скал на противоположном берегу, от речки, которая громко шумит на перекатах и раз за разом круто меняет направление своего течения. Потому, верно, и прозвали её Ломницей, русло её – словно ломаная линия. Кое-где проступают посреди реки белые спины крупных валунов.
Засмотрелся Ярослав, качая заворожённо головой, залюбовался видом с высокого берега и не заметил сразу, как подъехал к нему на вороном жеребце и остановился рядом некий всадник в синем плаще. Когда же обернулся на шум, хмуря чело от того, что оторвали его от созерцания величественной природной красоты, то внезапно вздрогнул. Лукавые серые глазки Настасьины встретили его, улыбка ласковая играла на устах. Вся светилась от радости девушка. И опять не выдержало истосковавшееся по любви сердце, шагнул Ярослав навстречу красавице, стянул её с седла, прижал к груди. Нежно опустил на траву, впился устами в белую лебединую шею, прошептал:
– Радость моя! Жизнь моя! Кажется, давно тебя ждал! Ждал и верил!
– Княже мой! И я, как тебя увидала, почуяла: вот оно. Захолонуло сердечко! Никого и ничего боле не надобно! Токмо ты, ты! Люб ты мне!
Забытые кони жевали траву. Охотники и ловчие ушли куда-то далеко и не мешали влюблённым. На берегу было пустынно и тихо. Забравшись под ветви могучего дуба, скрытые от посторонних очей, наслаждались Ярослав и Настасья друг другом.
Быстро, незаметно пролетели часы неземного счастья. Ярослав первым словно очнулся от забытья, услышав громкие голоса гридней41, зовущих его.
– Мне пора, – прошептал он, на прощание целуя Настасью в губы. Наскоро натянув порты, рубаху и плащ, обув ноги в тимовые сапоги, он свистом подозвал коня, впрыгнул в седло и помчался на голоса, крикнув в ответ:
– Здесь аз!
…Как ни хоронились влюблённые средь густой листвы, а не укрыл их дуб от людских недобрых глаз.
Вскоре в один из поздних вечеров постучался в дом боярина Коснятина Серославича шурин его, Зеремей. Ввалился в сени, бросил на руки холопу кожух42, шумно сопя, расположился на крытой алым бархатом лавке напротив мрачного хозяина.
– Слово имею к тебе, зятюшко. – Он смахнул ладонью с чела крупные капли пота.
– Говори, Зеремей. – Коснятин через силу натянуто улыбнулся. – Вижу, не попусту пришёл. Есть что молвить.
– Помнишь, на прошлой седьмице43 ездили мы на ловы? Боярин Чагр пригласил. Дак вот… Заметил я, князь-от наш, Ярослав, с дочки Чагровой очей не сводил. Спору нет, красна девка сия.
– Настасья, кажется. Так ведь её звать? – перебил Зеремея сразу заметно оживившийся Серославич. – И что? Мало кто там кому приглянуться может? Посмотрит князь – да позабудет тотчас.
– Эге! Как бы не так! – Зеремей рассмеялся. – Поутру выехали мы на зверя. Медведь матёрый попался, едва управились. Дак вот, гляжу я, что все бояре тут, на ловах, а князя-то и несть нигде. Ну, покуда Чагр тамо с сынами своими да со боярами с добычею управлялись, отъехал я посторонь. С коня сошёл, веду в поводу. Любуюсь, значит, берегами Ломницы. Баско вельми окрест. Красота – дух захватывает. Вдруг вижу: две лошади у брега пасутся. Признал в одном княжьего скакуна. Ну, подобрался я поближе и вижу: под дубом раскидистым, под ветвями зелёными Ярослав со дщерью Чагровой греху предаются. Лежат в чём мать родила на шелковых мятелиях и срамным делом занимаются, значит. Ну, я в сторонку, подалее. А потом слышу, гридни князя кличут. Тотчас отозвался он, вышел к ним. А Настасьи более не видывал. Верно, другой дорогой к дому уехала.
– То точно Чагровна была?
– Точно, Коснятин. У мя глаз на баб намётан. – Зеремей снова расхохотался.
– Уймись. Не к месту смех твой, – зло пресёк веселье Серославич. – Вот оно, стало быть, как. Чую, не случайно Чагр всё вокруг князя отирается. Сынов пристроил, племянничка. Топерича44 и дочку, выходит, в княжью постель толкает. Хитёр, белый куман!45 Ну да и мы не из простых. Тако ведь? – Коснятин лукаво подмигнул собеседнику. – Вот что, Зеремей. Никому о том, что видал, ни слова не сказывай. Со временем узнаем, всерьёз ли увлечётся князь Чагровной, али позабудет сию забаву пустую. А покуда молчи. Не вздумай княгине Ольге чего ляпнуть.
– Да чего я ляпну? Ко княгине ты мя и близко не подпустишь. Окружил её псами своими.
– Тако нать. Княгиня, чую, когда и поможет. А когда, наоборот, мы ей. Вот сынок у тебя, Глеб. Сколь годов ему ныне?
– Ну, двадцатый идёт. А чего?
– А Настасье, верно, пятнадцать, не более. И вон сколь ловка девка!
– Не уразумел. К чему тут сына моего приплетать? – нахмурился Зеремей.
– Да к тому, что красавец он у тебя. Заглядываются, чай, на добра молодца и посадские46 бабы, и дщери боярские. И у княгини, чай, сердце не каменное. И ей ласк хочется.
– Дак ты что ж?!
– Да я ничего. Думаю вслух просто. И полагаю, что мы с тобою – не глупее Чагра. А у княгини на Руси – связи широкие. Братья у неё, Юрьевичи, – вона какие князи. Что Андрей, что Глеб. И потом, сынок у неё… Одиннадцать лет парню. В его лета уже и столы в иных землях княжичи получают. А слуги верные любому князю надобны, тем паче молодому. Когда что подсказать, когда направить думы и дела по пути верному. А кто, как не бояре ближние – самые слуги надёжные. В общем, пораскинь мозгами, Зеремеюшко. И о сыне своём, и о княгине с княжичем, и обо всех нас, боярах галицких.
Замолчал Коснятин, кривая ухмылка пробежала по его устам. Зеремей, полный, огромный, напоминавший со своей толстой мощной шеей и выступающим вперёд лбом быка, хмурился, вороватыми карими глазами окидывал светлую богато украшенную майоликой47 горницу.
Наконец отмолвил хрипло:
– Ладно. Глеба в хоромы ко княгине приведу. Ты его тамо представь как подобает да ко княжичу приставь. Пущай окрест княжича отирается.
– Вижу, разумом тебя Господь не обделил. Хвалю. Ну, а топерича… – Коснятин поднялся со скамьи. – Дозволь, отобедай у меня. Щи знатные да ушица из голавля, да пироги, какие Гликерья стряпает, – персты оближешь. Ну и вина у меня вдоволь. Из угров привезено, белое.
…Попировали, и в самом деле, бояре в тот день славно. Когда же отправился Зеремей восвояси, поздно ночью явилась к мужу в покой Гликерия Глебовна.
– Слыхала я весь разговор ваш. На что толкаешь ты брата, Коснятин? – потребовала она ответа. – Али супротив князя что мыслишь?
– Да что тебе… – начал было Серославич, но внезапно осёкся. – Ты, выходит, подслушивала, дрянь! Да как ты посмела?!
– Да будто я и без того не ведаю, что ненавидишь ты князя нашего. Вот почто ненавидишь, не пойму никак. – Гликерия грустно усмехнулась и пожала плечами. – Одно ведаю: из за сей ненависти твоей и деток у нас более нету. И Пелагея умом повреждена.
– Экая глупость! – злобно рявкнул Коснятин. – А что не по любу мне Ярославка, дак оно верно. Вопрошаешь, почто?! Да он тогда под Теребовлей отца моего в чело поставил, на гибель верную, а сам сзади укрылся! Батюшка мой сгинул, а Ярославка с ворогами нашими, со Мстиславом Изяславичем союзиться вздумал! И ещё. Вот ты подслушиваешь под дверью толковню48 нашу. И что разумеешь? Ответь: в чём сила земли Галицкой?.. Молчишь? А я тебе отвечу: в нас, в боярах, в единодушии нашем! Мы, бояре – сердцевина земли, мы – опора её! Без нас не будет ни князя, ни попов, ничего не будет! А Ярославка – он нас, родовитых бояр, не держится, таких, как Семьюнко безродный или как Шварн, чужой нам, на наши места в думе выдвигает. Хочет пригнуть бояр к земле, навязать им свою волю, узду на шею повесить. Да не получится у него! Слышишь ты?! Не получится! Вон как в Новом городе, тако и у нас будет! Князя сами себе выбирать станем мы, бояре!
Боярыня сокрушённо замотала головой в тёмном убрусе.
– Экие мысли у тя страшные! Бес в тебе сидит, Коснятинушко! Ты б во храм сходил, покаялся! Иначе… Сердцем чую, лихо нам всем будет. Не получится у нас, яко в Новом городе. Не собрать тебе бояр. Розно они живут. У кажного – свои помыслы, своя стёжка-дорожка. И кажен другому путь перебежать хочет.
Ничего толкового не ответил ей Коснятин, не возразил, отмахнулся лишь, промолвил скупо:
– Тамо поглядим. Ясно дело, голову в пасть львиную класть не стану. Но батюшкину смерть ему не прощу. Николи49 не прощу! Тако и ведай!
Жена, взяв в руку свечу, со вздохом удалилась, а Серославич долго ещё вышагивал взад-вперёд по покою и тихо повторял:
– Чагровна, стало быть. Что ж, поглядим, поглядим!