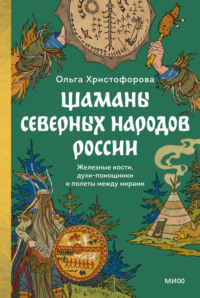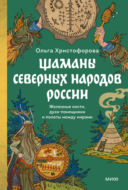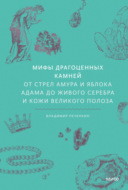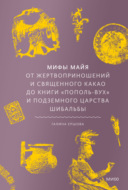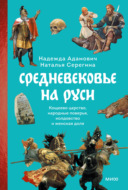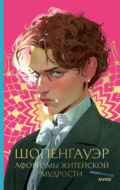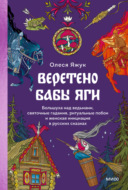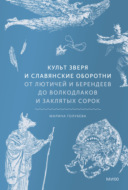Loe raamatut: «Шаманы северных народов России. Железные кости, духи-помощники и полеты между мирами», lehekülg 3
Piotr Milewski / Shutterstock
Также мировая вертикаль может выступать в виде космического человека – такие изображения мы часто встречаем на сибирских бубнах: и на рукоятках, и на обтяжке. Это обычно и есть первый шаман, основатель шаманства и покровитель всех последующих поколений ритуальных специалистов.
А в камланиях таким космическим человеком, воплощением первого шамана и «версией» мировой вертикали, посредником между мирами, выступает сам шаман, главный распорядитель и исполнитель ритуала. О том, как устроено камлание и что во время него происходит, мы поговорим в четвертой главе книги, а пока выскажем одну важную мысль: каждый шаман – наследник и «версия» первого шамана, основателя ремесла, культурного героя и мифологического сироты, подобного кетскому Бангдэхыпу, родившемуся из дерева, или нганасанским Дяйба-нгуо и Нейминьг, взявшимся вообще неизвестно откуда.
Из этого следуют три вывода. Первый: шаман камлает, то есть путешествует по символическому космосу, один, сопровождаемый лишь духами-помощниками. Он одиночка, выступающий от лица своего сообщества перед всей вселенной. Единственный раз, когда два шамана могут делать это вместе, – это посвящение начинающего шамана: старый, опытный шаман водит молодого по разным мирам, знакомя с его обитателями. Второй вывод: шаман имеет право, более того, должен видеть и понимать мир по-своему, так, как показывают ему его видения и ум; он должен верить себе и своим ощущениям. Даже у шаманов одного народа могут быть разные версии картины мира и его обитателей, не говоря уже об отличиях версий шамана и обычных людей. Так, А. А. Попов с удивлением замечал, что один нганасанский шаман считал духа Хора, одного из важнейших персонажей шаманского пантеона, мужчиной, а другой – женщиной. Соответственно, различались изображения духа, изготовленные этими шаманами26. Другой известный этнограф-северовед, Юрий Симченко, расспрашивал нганасан о том, что ему рассказывал о мире шаман Тубяку, но его собеседники лишь пожимали плечами – они никогда такого не слышали. Симченко сделал вывод: «Шаманское мифотворчество глубоко индивидуально»27. Наконец, третий вывод: шаман не только знаток мифологизированной вселенной и путешественник по ней, он также и ее творец, подобный культурному герою времен создания мира. Каждый шаман наследует знания первого шамана-основателя, своих шаманов-предков и развивает их на основе своего опыта, своего понимания мира и его законов.

Ось мира в виде человека, рисунок на алтайском бубне.
Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала ХХ в. М.; Л., 1954. С. 642, рис. 84
Но как шаман становится таким особенным человеком? Об этом мы поговорим в следующей главе.

Глава 2. Категории шаманов

Шаманы и шаманствующие
Понятно, что шаманы – особые люди, точнее даже – не вполне человеческие существа. Они избранники духов и посланники людей. Шаманы представляют интересы своих сообществ перед божествами и другими обитателями мифологизированного космоса, защищают сородичей, помогают им жить. Но как именно и что конкретно они делают? И еще – все ли шаманы одинаковы по своей деятельности и по силе?
Нет, шаманы не были одинаковыми даже у одного народа, в одной традиции. Они различались по тому, с какой сферой мироздания были связаны (с Верхним, Средним или Нижним миром), по своим функциям («специализации»), по своей силе, по главным атрибутам, по символике образа. Считалось, что все эти различия зависят не от желаний человека, а от духов, избравших его на роль шамана. Одни шаманы могли лечить больных, причем, какие именно болезни, тоже зависело от «профиля», другие – обеспечивать удачу в промысле, третьи умели искать пропажи, четвертые – предсказывать будущее по сновидениям и знамениям. Кто-то провожал умерших в загробный мир, кто-то принимал новых людей в этот мир. Самые сильные и опытные шаманы умели, пожалуй, почти все, но это было очень редко и далеко не во всех традициях – где-то возможность «профессионального роста» была (как у нганасан или кетов), а где-то шаманский дар был сразу определенным и неизменным (как у нанайцев или хакасов).

Шаман и шаманка.
Pauly Theodore, de. Description ethnographique des peuples de la Russie. Par T. de Pauly. Publie a I’occasion du jubile millenaire de I’Empire de Russie. Saint-Petersbourg, 1862. Vol. 1
Так, мы уже говорили, что бурятские и тувинские шаманы разделялись на белых, связанных с божествами Верхнего мира, приносящих им бескровные жертвы, и черных, камлающих в Нижний мир и приносящих его обитателям кровавые жертвы. «Шаманский корень» этих ритуальных специалистов был из соответствующего мира. Тюркские народы Южной Сибири имели похожую классификацию. По данным этнографа Андрея Анохина начала XX века, алтайские шаманы и шаманки разделяются на имеющих облачение и не имеющих. Все начинающие шаманы не имеют облачения, а затем его приобретают те, кто служит всем тёсям (духам), в том числе владыке Нижнего мира Эрлику. Они называются кара кам – «черные шаманы» – и маньякту йок кам – «облачение имеющие шаманы». Другие, не общающиеся с духами Нижнего мира, назывались ак кам – «белые шаманы».
Похоже было и у эвенков: по данным этнографа Глафиры Василевич, их шаманы делились на угиник тэкэчи, происходящих из Верхнего мира, и хэрчиник тэкэчи – из Нижнего. Облачение первых делалось из шкуры лося или дикого оленя, а вторых – из медвежьей шкуры.
У ненцев, по материалам Людмилы Хомич, шаманы также разделялись по сферам мироздания. Шаманы выдутана общались с божествами Верхнего мира, поэтому вторым их названием было нув’нянгы – «связанный с небом». Они занимались лечением, гаданием, совершали ритуалы начала года – осенью и весной (у ненцев, как и у некоторых других народов Северной Азии, год делился на два самостоятельных периода – зимний и летний годы). Во время таких календарных камланий шаман благодарил божеств за помощь, просил о поддержке в дальнейшем, приносил им дары, предсказывал, каким будет для его сообщества следующий год. Шаманы категории я’нянгы («к земле относящийся») лечили больных, разыскивали пропавших людей и оленей, помогали при сложных родах. Они могли камлать только ночью при свете костра. Наконец, шаманы самбана общались с духами Нижнего мира, их задачей было провожать туда души умерших. Вообще у народов Сибири наиболее сильными обычно считались шаманы Нижнего мира: чтобы общаться с тамошними зловредными духами, нужно было обладать большим опытом, дипломатическими способностями и боевыми навыками. Но у ненцев самыми сильными считались шаманы категории выдутана. Похожая классификация была и у энцев.
Кроме того, была у ненцев и классификация шаманов по степени их становления. Молодой шаман, еще не имеющий бубна, назывался мал тадебя. Он мог гадать по костям животных, на лезвии ножа или топора. Только через семь лет ему делали первый бубен, еще без подвесок, и колотушку. Такой шаман уже звался си’мя или нгадимя – «появившийся». Среди си’мя различались такие разновидности: пензретна – «умеющий видеть будущее» (а также общаться с верховным богом Нумом); ял’тана – «вызывающий злых духов»; мутратна – «чудотворец»; тэм’сорта – «фокусник». Через несколько лет по указанию старого опытного шамана делались подвески, и лишь через десять лет после этого шаман становился янумпой или инутана – «выучившимся».
У нганасан шаманы не различались по функциям – один и тот же шаман мог камлать и в Верхний, и в Нижний миры, лишь надевая разные облачения. Так, у знаменитого шамана Дюхадие, которого мы уже упоминали, было, по данным этнографа Андрея Попова, три ритуальных комплекта (костюм, обувь, рукавицы, головной убор): один – для путешествий в Верхний мир, второй – для походов в Нижний мир, а третий – для камлания над роженицей, он использовался в случае тяжелых родов. У нганасан, как и у ненцев, было представление, что шаманская сила увеличивается в ходе становления. Вначале человек, которого избрали духи, считается «маленьким шаманом» – алыгаку нгадянку. Примерно через год у начинающего шамана нгадемтате появляется помощник – туоптуси. Потом шаман получает головной убор, нагрудник, перчатки, обувь, бубен с колотушкой и наконец парку – верхнюю одежду, куртку. Соответственно менялось и место в чуме, на котором он мог камлать. Сначала он шаманит на левой половине чума, постепенно, по мере возрастания силы, перемещаясь к священному месту – сыноние («напротив входа», «за очагом»). Лишь шаман с полным облачением мог камлать на этом месте.
У селькупов были две категории шаманов: сымпытыль куп и камытырыль куп. Первые имели облачение, бубен, могли общаться с духами и Верхнего, и Нижнего мира. Вторые не имели полного облачения, а лишь нагрудник и головной убор, они камлали в темном чуме, сидя на медвежьей шкуре, – это означало путешествие в Нижний мир.

Хакасский шаман в церемониальной одежде, с закрытым лицом, с бубном в руках. Минусинск, около 1920 года.
Wellcome Collection
Чукотские шаманы, по данным известного этнографа Владимира Богораза, в конце XIX века разделялись на три категории по исполняемым функциям и по своим умениям: духовидцы келеткулит (от келе – «дух») считались способными видеть духов и говорить от их имени; предсказатели геталатилит занимались гаданиями с помощью предметов и «внутреннего голоса»; заклинатели эвгаовитколит знали заговоры и в основном занимались лечением. Иногда все три функции мог выполнять один шаман.
Шаманы нанайцев и ульчей, по материалам этнографа Анны Смоляк, разделялись на три категории по своей силе и соответствующим ее уровню функциям. Так, мэпи-сама – «себя лечащие» (ульч. хойракачи) – считались слабыми шаманами. Они имели духов-помощников, но не проходили обряда посвящения. Бубна у них не было, и они камлали с помощью палочки, которой отбивали ритм по полу или топору в процессе пения. Они могли лечить только себя. Средние по силе шаманы таочини-сама или сиуринку-сама – «лечащие» (ульч. сулмэ или сиулмэ-сама) – проходили посвящение, имели костюм, бубен и другие шаманские атрибуты и могли лечить других. Самые сильные шаманы касаты могли также совершать большие поминки каса, в ходе которых увозили души умерших в загробный мир Буни (вспомним нанайские мифы о возникновении шаманства и первого шамана Ходая – именно такой способностью наделили его божества). У нанайцев и ульчей женщины могли быть шаманами первых двух категорий, но касаты-шаманами могли быть только мужчины.
Сила шамана не всегда зависела от его природных способностей или от категории, к которой он принадлежал. Она могла означать лишь степень овладения ремеслом: молодой шаман был еще слабым, а старый, опытный – максимально сильным. Как и в любой профессии. Так, кетские шаманы, по материалам Василия Анучина начала XX века, различались по своей силе, и эта сила могла расти вместе с практикой. Хынысенинг, «малый шаман», – это статус сразу после посвящения. Примерно через год начинающий шаман получал новые атрибуты: колотушку для бубна, нагрудник и повязку на голову, комплект подвесок – и становился шаманом сенинг. По мере практики и получения опыта шаман по указанию духов обновлял свои атрибуты и получал новые – свидетельства его увеличивающейся силы. Каждые три года шаман получал новый бубен вместо старого, всего их могло быть семь. По завершении двадцатиоднолетнего цикла, также раз в три года, весь шаманский комплект обновлялся, дополнялся новыми подвесками и деталями – знаками его возрастающей силы. Самые сильные шаманы кетов назывались касенинг, «великие шаманы», и имели два бубна и шаманский посох, но такие были редкостью.

Шаманский костюм кетов.
КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей»
У кетов также была очень интересная классификация шаманов по символике костюма и головного убора, чего не наблюдалось у других народов Сибири. По данным Евгении Алексеенко, они подразделялись на несколько символических категорий, в основном это были анималистические (животные) символы: кадукс’ – «олень», коj – «медведь», кандэл’ок – «мифическое существо, похожее на медведя», дун’д – «стрекоза», даh – «мифическая птица». Впрочем, это различение в сжатой форме указывало и на силу шамана, и на сферу вселенной, с которой он был связан, и на «специализацию». Так, шаманы категорий кадукс’, кандэл’ок, дун’д и даh были связаны с Верхним миром, причем «олень» считался самым слабым шаманом, а «стрекоза» – самым сильным. Шаманы кандэл’ок встречались редко, специализировались на лечении тяжелых болезней и управлении погодой. У шамана коj главным духом-помощником был «медвежий бог», живший на земле, и такой шаман считался специалистом по сфере промысла, а также по лечению.
В якутской шаманской мифологии была идея, это мы знаем из записей Гавриила Ксенофонтова 1920-х годов, что души шаманов воспитываются в дуплах или в гнездах на ветвях особого шаманского дерева Ыймык мас, и сила шамана зависела от того, где проходило воспитание: у сильных – на верхушке дерева, у средних – на середине, а у малых шаманов – у нижних ветвей. При сравнении силы шаманов якуты говорили: «Биир мутук урдук ойун» («Шаман выше другого на один сук»). Также якуты различали шаманов и шаманок, связанных с божествами Верхнего мира (айыы ойун / удаган) и Нижнего мира (абаасы ойун / удаган).
По материалам Андрея Попова, собранным в 1930-х годах, у долган, родственных якутам, шаманы делились на три разряда: мёкю ойун – «слабый шаман», орто ойун – «средний шаман», улакан ойун – «большой, знаменитый шаман». При этом долганы рассказали этнографу, что в прошлом категорий шаманов было больше, семь, и были такие великие шаманы, что даже могли воскрешать умерших, они назывались хир тюннюге ойун – «окно земли шаман».
Интересна классификация хакасских шаманов. По данным Виктора Бутанаева, они разделялись на три категории: чаланчиков, пулгосов и пугдуров. Чаланчики (от чаланча – «быть пешим») составляли низшую и самую многочисленную категорию. Они не проходили посвящения, у них не было шаманского костюма и бубна, но они имели нескольких духов-помощников и занимались гаданием и целительством. Атрибутами им служили черный платок, черная мужская одежда или ветвь березы с лентами чалама – этими предметами обмахивали больного в процессе лечения. Пудгуры и пулгосы назывались аттыг хамнар – «конные шаманы» (то есть «имеющие бубны», так как бубен символически воспринимался в том числе как ездовое животное шамана). Пулгосы считались средними шаманами, у них были бубен и простой костюм, занимались они также целительством. Пудгуры относились к категории великих шаманов, имели одновременно до девяти бубнов, особый костюм и огромную армию духов. Пудгуры добывали души детей для бездетных пар у самой богини Умай, предотвращали эпизоотии, провожали души умерших в загробный мир.

Хакасский шаман.
КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей»
У хантов, по материалам Владислава Кулемзина, выделялись шаманы ëлта-ку (от йол – «ворожить»), они имели бубен с колотушкой и облачение. Были также ысылта-ку (ысылта – «плакать»), которые назначались на служение верховным богом Торумом. Ысылта-ку лечили болезни и даже якобы могли воскресить преждевременно умершего человека, отправившись в Нижний мир за его душой. У манси, по сведениям Зои Соколовой, различались категории мань-няйт – «малый шаман, камлавший при помощи ножа», саграп-няйт – «камлавший с топором», койпынг-няйт – «шаман с бубном».
Категории шаманствующих и близкие «профессии»
Как видим, у всех народов Сибири и Дальнего Востока было довольно много ритуальных специалистов, у каждого из которых – своя сфера ответственности, свои задачи, свои атрибуты и приемы. Достаточно непросто разобраться, кто из них был шаманом, а кто – нет, ведь так или иначе с духами взаимодействовали все, в том числе и самые обычные люди: они тоже проводили ритуалы, приносили жертвы, просили божеств о помощи. Только они это делали для себя и своей семьи, а шаманы и другие специалисты – для других людей (по заказу) и для всего сообщества.
Для выделения шаманов этнографы в XX веке пользовались теми критериями, которые мы описали во введении, – это ритуальный специалист, прошедший определенного типа болезненное состояние, проводящий ритуалы общения с духами – камлания, – в которых он занимает место основного деятеля и распорядителя и входит в транс, которым может управлять. Для других ритуальных специалистов, не входящих в транс и не проводящих камланий, но выполняющих важные общественные задачи, в советской и российской этнографии утвердилось понятие «шаманствующие».
Некоторые категории таких шаманствующих выделить довольно просто: их специализация имеет явную специфику, у них нет шаманских атрибутов и они не входят в транс. Скорее, это близкие к шаманству «профессии», где также требуются призвание, то есть избрание божествами и духами, особые умения, которые дают эти нечеловеческие агенты, и задачи служения сообществу. Такими были, например, лекари, предсказатели, музыканты, сказители, кузнецы.
Например, у кетов были особые лекари и – чаще – лекарки бангос (от банг – «земля»), они получали свой дар от духов земли бангоденг, видимым воплощением которых были крот, землеройка, змея, летучая мышь и подобные существа. Сферой действия бангос считался земной мир. Они лечили болезни, принимали роды, предсказывали погоду, способствовали удаче в промысле, но могли и вредить людям с помощью колдовства: насылать болезни, отнимать удачу. С шаманами бангос скорее соперничали. Специального облачения и атрибутов бангос не имели. Хакасские чаланчики и нанайские мэпи-сама, о которых шла речь выше, тоже могут быть названы скорее лекарями, чем шаманами.

Стрела-тамара шаманская. Без костяного наконечника, с тряпочками на конце.
КГАУК «Красноярский краевой краеведческий музей»
У нганасан были дючилы, предсказатели и толкователи снов. Похожи на них и нанайские, и орочские тудины.
У манси были особые ритуальные специалисты: пенынг-хум – прорицатель, гадатель на топоре, ноже; самнаев, вонсых хотпа – провидцы; весар ванг нэ – гадалки; потыртан-пупыг – «говорящий дух», гадавший с помощью священного ящика; валтахнен-пупыг – «вниз шаманящий дух», вызывающий духов с помощью музыкального инструмента сангвылтап.
У хантов известны такие специалисты: щарты-хо / щарты-ики – мужчины-гадатели; щарты-нэ – женщины-гадалки; сом-войян-хо – «видящий глазами человек», ясновидящие; чипäнǝн-ку – знахари; арехта-ку – исполнители былин, песен и легенд; мантьë-ку / манть-вэлвэл-ку – «сказку делающий человек», рассказчики сказок, иногда занимающиеся лечением; улом-верта-ку – «сон делающий человек», толкователи снов, предсказатели, немного лекари; панкал-ку – «мухомора человек», они выпивали настой мухомора и затем передавали окружающим содержание своих видений; мулте-ку – «произносящие заклинания во время жертвоприношений»; нюкульта-ку – «представление-человек», функцией которого была организация особого перформанса, заканчивающегося гаданием о предстоящем промысле. Этих специалистов так много потому, что данные собирались у разных локальных групп хантов и в разное время в XIX–XX веках.
У алтайцев, по материалам Василия Вербицкого, собранным в XIX веке, были разные категории предсказателей – он называет их «алтайские пифии». Тельгочи – просто гадатель, рымчи видит сокровенное во время припадков, ярынчи ворожит по лопатке животного, которую держит над огнем, и по получившимся линиям судит о будущем, колкуреэчи гадает по руке. А еще был особый человек ядачи, управляющий погодой с помощью камня яда-таш.
У телеутов, по данным Дмитрия Функа, выделяются такие категории шаманствующих: знатоки благопожеланий – алкышчы, специалисты по изгнанию злых духов – чымырчы, колдуны – арбышчы, «плевальщики» – тукурчи, ясновидящие – космокчи, знатоки лекарственных трав – эмчы, костоправы – сыйбучы.

Телеутская шаманка.
Les peuples de la Russie, ou Description des moeurs, usages et costumes des diverses nations de l’empire de Russie, Les peuples de la Russie. T. 2. Paris, 1813
У якутов, кроме шаманов ойунов, были ритуальные специалисты разных категорий: заклинатель – алгаччы, провидец – кёрбюёччю, знахарь – ичэн. У эвенков также был предсказатель и знахарь – ичэримни.
У чукчей выделялись такие категории: знахарь – гэтальатгыргын, чревовещатель – кальаткогыргын, благожелательный предвещатель – тэнчимнульыт, зловредный предвещатель – кургэнэнныльыт, насылающий и останавливающий порчу – уйвэльэнэныльыт, насылающий и останавливающий непогоду – еотватыльыт.
Чуть подробнее расскажем об исполнителях фольклора: сказок, песен, эпических сказаний. Этими умениями, как считалось, наделяли людей божества. Сказителям эпоса именно эпические герои сообщали содержание сказаний, приемы рассказывания и пения и давали невероятную память: одно сказание могло длиться не только часами, но и днями, с перерывами на короткий сон. Все это рассказывалось по памяти – не забудем, что речь идет о бесписьменных культурах! – и сказитель иногда находился в особом состоянии, немного похожем на шаманский транс.
Сказители даже сами могли прогонять духов болезни. У якутов и долган избранниками духов, кроме шаманов, считались ырыасыт – певцы-врачеватели. Их было намного меньше, чем шаманов, они не имели костюма и бубна, и их лечение заключалось в пении. Лечили они простуду и разные другие болезни, сумасшествие, а также болезни от «русских абаасы». Так было принято потому, что избирали певцов на эту роль «дочери облаков», которые, по мнению долган, считались русскими духами болезней. Якуты же считали, что певцов избирают духи трех русских сестер-колдуний, живших некогда на Аграфенкиной горе на реке Лене и потом вознесшихся на небо. Соответственно, певцы-врачеватели были незаменимы в случае эпидемий оспы, кори, туберкулеза и других инфекций, которых до контакта с русскими коренные народы не знали. Ырыасыт могли вытягивать болезни из тела больного губами, но главным «медицинским средством» было пение. Например, такую историю рассказал долганин Павел Яроцкий этнографу Андрею Попову в 1930 году на станке Крым на реке Пясине Таймырского AO Красноярского края.
«Духи оспы». Долганское сказание
В старину к человеку, живущему одиноко, вдруг вошли две женщины (в данном случае речь идет о духах-хозяйках оспы, явившихся в образе женщин). Увидев их, человек тут же сказал: «Внимайте, о чем я пою» – и, лежа ничком, стал петь; когда запел, открылась будто дорога. Закончив петь, он сказал: «Вы идите по этой дороге». Женщины сразу ушли по дороге, указанной им. Через несколько дней вернулись к тому же человеку. «Что за диво, куда ты нас посылаешь? Там только тени, чуть не погибли от голода», – сказали. Этот человек, оказывается, имел трех собак. Заклиная, пожертвовал им этих собак. «Вот этот мой дар вам, – говорит. – Примите благосклонно и уходите». Женщины сразу ушли. Вот так простой человек, не шаман, спас от «матушек» свой наслег (селение), говорят. Те женщины, оказывается, были духами оспы28.
Секрет «лечебного пения» в следующем. Если обычные люди в основном только слышат песни и эпические сказания, то сами сказители и певцы, а также духи и некоторые животные еще и видят то, о чем поется, и не просто так, как мы видим кино, и даже не как кино 5D, а как реальность, в которой можно участвовать.
Итак, когда речь идет о ритуальных специалистах с особой сферой деятельности, их отличить от шаманов не так сложно: у них нет шаманского посвящения, нет облачения и бубна, они не входят в транс и не проводят камланий.
Сложнее различить шаманов и нешаманов, если речь идет о «маленьких» шаманах, начинающих, еще только вступающих в эту сферу, тех, кто только «приручает» духов (или они его «приручают», тут как посмотреть). С одной стороны, это будущие шаманы, вроде ненецких мал тадебя и кетских хынысенинг. Они еще не прошли посвящения, у них нет костюма и атрибутов, но они, как считалось, видят и слышат то, что недоступно обычным людям, то есть уже могут общаться с духами. Поэтому они могут видеть вещие сны и предсказывать. По сути, они, как и некоторые шаманствующие, могут видеть, но почти ничего не могут сделать, в отличие от настоящего шамана, – в этом принципиальная разница. Вот, например, алтайский ясновидец кёспёкчи мог видеть сюнё – душу человека, но, в отличие от шамана, не был в состоянии вернуть отделившуюся сюнё (что вызывало болезни) на место. То же и кетские дангтонгс – единственным их отличием от простых людей было умение видеть ульвей, душу человека.
Обычно «маленькие» шаманы готовятся пройти ритуал посвящения, в какой-то момент они его пройдут, и далее их шаманская сила будет расти, они смогут путешествовать по символическому космосу все дальше и дальше и решать все более трудные задачи, устранять все более сложные проблемы своих сородичей.
С другой стороны, они могут и не пройти посвящение – по разным причинам. Например, не хотели, так как шаманская доля тяжела, или мешали религиозные убеждения (тем, кто крестился в православие, как часто было в XIX веке), или не было опытного шамана, или было стыдно перед окружающими – последние две причины были основными в советское время. Такой человек мог навсегда остаться в роли шаманствующего – предсказателя, толкователя снов, умеющего немного видеть и слышать духов, но не имеющего возможности договариваться с ними, принуждать их, а также не имеющего сил и прав путешествовать по вселенной.
Надо еще заметить, что современная антропология в вопросе проведения границы между шаманами и нешаманами исходит не из объективных критериев, а из мнения самих местных жителей – если они кого-то считают шаманом, то, значит, так и есть. И неважно, что человек не имеет костюма, бубна или не проходил посвящения, – в наши дни эта внешняя форма классического шаманизма практически везде исчезла, а вот мировоззрение, культурные модели, а также человеческая физиология (основа трансовых состояний) остались. Впрочем, в некоторых регионах Сибири в последние десятилетия происходит возрождение шаманизма в его прежних внешних формах, об этом мы с вами поговорим в последней главе.
Итак, подытоживая сказанное, еще раз подчеркнем, что шаманы различались по сферам мироздания, по видам деятельности, по «специализации», по силе, и эти различия зависели прежде всего от духов, избравших шамана на эту роль. А сама роль заключалась в том, чтобы быть посредниками между духами и людьми, удовлетворять желания первых и решать проблемы вторых, соблюдая законы мироздания и сохраняя вселенскую гармонию. Но прежде чем эту позицию занять, нужно было пройти суровый искус, тяжелые испытания – шаманскую болезнь.

Tasuta katkend on lõppenud.