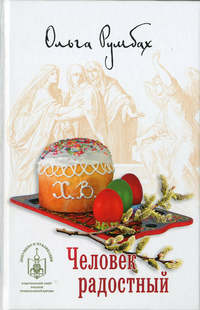Loe raamatut: «Человек радостный (сборник)»
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви (ИС Р17-703-0089)
© ООО «ГрифЪ», оформление, 2017.
© ООО «Издательство «Лепта Книга», текст, 2017.
© Румбах О., 2017.
Старики
Ночью был ураган. Качались и трещали деревья старого сада, ветер швырял в окна крупные капли дождя, грохотало на крыше железо – латка в прохудившемся шифере. К утру стихло. Птицы, сначала робко, вопросительно, а после в полную силу, радостно, ликующе загомонили, защебетали, запорхали с ветки на ветку, купаясь в изумрудных каплях ночного дождя.
Эрна не спала. Ей было страшно в эту ураганную ночь. Все казалось, что не выдержит, унесется крыша, что потоки дождя хлынут в ее спальню, зальют постель. Что гигантские ветви ореха, уже омертвевшие, сухие, рухнут на ветхую крышу… И что им, старикам одиноким да бездетным, делать? Как горю помочь?
Дождавшись утра, Эрна поднялась. Оделась, охая от суставной боли. Боязливо вышла во двор…
Все пело, радовалось, щебетало и славило Творца столь живо, мощно и радостно, что и в уставшее сердце пожилой женщины стала вливаться радость. Крыша была как будто на месте. Сухие ветви не рухнули – уже хорошо. Может, пару листов шифера и снесло, снизу не видать, – так это горе поправимое. Соседа можно попросить, чай не впервой.
Эрна брела в уборную, уже почти улыбаясь своим ночным страхам. Миновала опасно разбухшую от дождя стену глиняного сарая, сделала еще пару шагов… Остановилась как вкопанная, охнула и зашарила слепо рукой в поисках опоры. Закрыла глаза… Открыла…
Наваждение не исчезло. Уборная, старая, щелястая, заботливо обтянутая изнутри отжившей свое клеенкой, чтоб не дуло, лежала теперь на боку, зияя загаженной дыркой и подло обнажая срамную яму.
Утро померкло для старой женщины. Сердце глухо и неровно забилось, ноги сделались ватными.
Через час они вдвоем со стариком, хмурым спросонья и от внезапно свалившейся напасти, тужились с риском для жизни, пытаясь поднять уборную. Железобетонные полозья, на которые она опиралась, одним концом сползли в яму. Их пришлось вытаскивать, водворять на место. Раскисшие края ямы обрушивались, и полозья опять лезли вниз, и приходилось снова и снова вытягивать их из дерьма. Бедные старики уже не обращали внимания на то, что извозились по уши глиной ли дерьмом ли – не разобрать. Беда стояла над ними во весь рост, и они из последних сил пытались противостоять ей, нависшей, грозной, глумливой. Ведь снеси ветер крышу, или упади громадная ветка, проломи крышу – можно кинуться в сельсовет, попросить помощи. Не факт, что откликнутся, но надежда все-таки была бы. Но уборная…
«Оставь, оставь, Ваня, не держи», – отчаянно закричала Эрна. Огромный камень, который стоял на краю и служил опорой, пополз вдруг вниз, в яму. Старик вцепился в него жилистыми руками, впился ногтями и не пускал. Лицо его сделалось малиновым, толстые жилы вздулись на шее.
«Ваня!!!» – Эрна схватилась за сердце и зажмурилась.
Медленно, медленно, медленно – камень стал поддаваться, достиг твердой почвы. Старик не отнимая рук упал рядом с ним. Хватал ртом воздух. Сердце трепетало где-то в горле. Не чувствовал, что упал прямо в лужу, в жирную грязь.
«Ну на што, на што он тебе сдался?! Пусть бы полз себе в яму, к лешему. Жизни решиться из-за него?!» – ругнулась по вечной женской привычке и замолчала, осеклась, кинулась, насколько могла быстро, за водой.
Они сидели на узкой мокрой скамье привалившись друг к другу, мокрые, грязные, убитые. Хрипло дышали. Молодое утро звенело над ними, пело и набирало жаркую силу. А они не могли отвести глаз от задранного испода уборной, от черной дыры, высасывающей силы, от свалившегося на них горя.
Сил уже не было никаких, а меж тем главная работа еще впереди. Старик отдышался. Тяжело встал и побрел в сарай. Вернулся с бечевкой, с крючьями какими-то. Часа два возился, «впрягая» уборную в сложную эту сбрую. Примерился. «Ну, старуха, давай, помолясь… Я тянуть стану, а ты подсоби с той стороны… Да не надорвись мотри, возись потом с тобой…»
Это он зря. Это старуха обычно возилась с ним, непокорным, как с дитем малым: кормила вовремя, а еще лечила, кутала, – и все это, привычно преодолевая сопротивление и брань. Она вообще сдержанная, молчаливая. Недаром же эстонка. Смолчала и сейчас.
«Ну, взялись!..»
Уборная не поддавалась. Набухла от воды, тяжело и сыро лежала, все глубже врываясь в землю.
Потом, поддавшись для вида, раза два срывалась, бухалась оземь.
«Ну, еще раз!..»
Пошла, пошла, пошла родимая!
Вечером у старика поднялась температура. Его трясло и в груди пекло как огнем. Надо бы затопить печь. Старуха – двужильная она, что ли? – раздувала огонь. Тот не хотел жить, кис, исходя дымом, выедал глаза. Как только старик ее, заразу, топит, это ж сколько терпения надо!
Эрна вскипятила на газе травяной чай, укутала мужа старой шалью, когда-то пуховой, нашла, вооружившись лупой, аспирин.
Была напряженная какая-то, молчаливая больше обычного.
За окном стемнело. Чайник остывал, посипывая на плитке. Старик угрелся на продавленном своем диване.
И тут ее прорвало.
«Говоришь, рано еще рожать, давай поживем для себя?» – вдруг выкрикнула она незнакомым высоким голосом.
Старик вздрогнул, открыл глаза.
«Говоришь, нечего нищету плодить? А? Пеленки-распашонки пойдут?» Она стояла перед ним, маленькая, грозная, сверкая глазами. Морщинистые щеки раскраснелись. Мимолетно подумал он, что надо бы давление померить, не ровён час, удар старуху хватит. Но не задержался на этой летучей мысли.
Он знал, о чем она говорит. Удивился – тоже мимолетно.
Они никогда не говорили об этом. Никогда. Никаких упреков. Только долгая тянущая боль от невозможности что-то исправить, как-то оправдаться.
Сколько ж ей тогда было? Лет двадцать, наверное. Он на восемь лет ее старше. Оба еще студенты. Только поженились. И вот она понесла. Стыдясь и краснея, открыла ему, что беременна. А он… Да, так и сказал ей, именно этими словами. Пятьдесят лет назад. Надо же, вспомнила, слово в слово. И про нищету, и про пеленки-распашонки.
Ничего не ответил старик. Только голову со свалявшимися клочьями волос виновато втянул в плечи.
Долго молчали. Неестественно долго. Старуха, подперев дряблую щеку, сидела за столом. Смотрела невидяще куда-то в угол. Она не ждала ответа. О чем тут говорить…
Но он сказал совсем больным, отсыревшим голосом: «Ну ты же помнишь, как все было… У меня институт… И ты еще училась. Мама лежала больная… Ты же знаешь…» Сказал – и закашлялся надсадно. Схватился за грудь.
«Да, милый, знаю, знаю, – не сразу и как-то раздумчиво отозвалась Эрна. – Ничего. Ничего-о-о, как-нибудь дотянем. Господь милостив…»
Села рядом, поправила сползшую шаль, краешком прикрыла свою поясницу.
Они сидели, укутанные одним пуховым платком, одинаково старые, одинаково седые, касались друг друга острыми иссохшими плечами. И привычно смотрели в печку, которую у них так и не хватило сил растопить.
Вещи не таковы…
Воспоминание это относится ко времени, когда я работала в православном киоске большой городской больницы. Хорошее было время. Если, конечно, не принимать во внимание зарплату, если абстрагироваться от крошечной суммы, которую я там зарабатывала. И знаете, получалось. Абстрагироваться. Очень уж приятно было сидеть в новеньком, только с иголочки, киоске, теплом и уютном, среди икон, книг, свечей – милого сердцу мирка, общаться с редкими покупателями или посетителями моей крошечной, как и зарплата, библиотечки, наблюдать жизнь за окошком, которое выходило в больничное фойе, или просто читать. Фрэнсис Бэкон сказал: «Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». Он говорил о книгах вообще. А уж книги святых отцов – подлинная драгоценность. Сидишь, бывало, с книгой в руках, как на берегу шумливой реки. Киоск в больничном фойе стоял, там раздевалка, там страсти, ор непрерывный, а у меня хорошо, у меня лампада таинственно мерцает, на ней «паучок» металлический с тлеющим ладаном и – «драгоценный груз» в руках: Исаак Сирин, или Паисий Святогорец, или умница Андрей Ткачев, протоиерей…
Однажды, отработав положенные часы, зашла я в троллейбус, и дремавшая на переднем сиденье старушка встрепенулась вдруг и воскликнула: «Ой, как от нее приятно пахнет! Вы только посмотрите, как приятно от нее пахнет!» Ну да, запах ладана и восковых свечей следовал за мною повсюду. Но я не об этом.
Каждое утро, отперев киоск, я выносила и ставила перед окошком кружку для пожертвований, объемистую, литров на десять, на длинных жиденьких ножках. Она была заперта внушительным замком, ключ хранился у церковного старосты, так что доступа к ее недрам я не имела. Вот и в то хмурое зимнее утро я, тоже хмурая и какая-то сонно-зимняя, отперла киоск. Не положивши связку ключей, взялась тою же рукой, что ключи держала, за верхнее ушко кружки… да и уронила ключи в приветливо распахнутую щель.
Что делать? Заволокла обратно неуклюжую эту ногастую кружку, опрокинула ее и ну трясти. Обогнав бумажные купюры, с веселым звоном посыпались на бетонный пол монеты. И ключи было показались. Тогда я взяла линейку и…
«Здравствуйте, Ольга Петровна! Что это вы делаете?..» В окошке, ласково и понимающе улыбаясь, возникла сотрудница больницы, кастелянша – морщинистое лицо, желтоватые букли и ехидная улыбка – категорически не верующий человек, убежденная социалистка.
Что, ну что еще она могла подумать?..
Я подняла к ней красное от натуги лицо, пролепетала что-то об упавших ключах… Вышло не очень убедительно.
Вообще она хорошо ко мне относилась, эта старая женщина, всю жизнь проработавшая в больнице. Я подружилась с ее правнучкой, вместе, голова к голове, мастерили мы с девочкой картинки из засушенных цветов и листьев. Там у меня целый гербарий был с весны засушен меж кипами газет.
Кастелянша нарадоваться на нас не могла. Тихонько подходила к окошечку, подглядывала и радовалась. А мы, вздрогнув от неожиданности, но быстро оправившись, с гордостью показывали ей картинки, что смастерили.
В дни, когда Катя не могла прийти к прабабушке на работу, она передавала мне письма. «Здравствуй дарагая Ольга Петровна! Как чувствуешь? Как вообще? А я уже хожу в третий класс. Я болею и бабушка ставит мне компресс. Скоро к тебе приду. Жди…»
И я ей писала не очень длинные, но поучительные и нежные письма. Запечатывала в настоящий конверт. И кастелянша с удовольствием доставляла их маленькой адресатке.
И все было у нас хорошо. Но по-моему, в историю с упавшими в кружку ключами она так никогда и не поверила… А того не знала, что вещи порой (часто!) бывают не таковы, какими кажутся.
И еще был забавный случай. Я с торговлей чего бы то ни было дела не имела. Никогда. И с арифметикой у меня плохо. Поэтому когда предложили мне работать в киоске, я решительно отказалась. Но никто за такие деньги работать не шел. И меня уговорили, мол, и торговли-то там никакой нет, так, слезы одни, и ответственность не большая. А мне как раз исправляться надо. Смиряться. Вот все как-то и сошлось.
Девушка, что передавала мне материальные ценности, выходила замуж в другой город. Спешила очень. Оно и понятно – надо идти, пока зовут. Передавала ценности наспех, а я если и считала поначалу, хоть и с ошибками, но устав и проголодавшись, потеряла интерес к происходящему. Одно утешало: в православии всё на доверии. И никто никого нарочно подставить не стремится. В общем, девушка упорхнула замуж, а я осталась хозяйкой киоска. И было у меня, так сказать, на балансе серебро. Цепочки, крестики, кольца «Спаси и сохрани». Я все это богатство разместила на стендике, красным бархатом покрытом. Вышло красиво. В глаза сразу так и кидается. С одной стороны хорошо, а с другой – соблазн. Народ в фойе больницы всякий ходит. Вахтерши меня предупредили, что киоск этот и взламывать уже пытались, да что-то, видно, помешало. А замок там хлипенький, для честных людей разве что. Вот и стала я думать, куда спрятать серебро. Сейфа в киоске нет, шкафчики только по периметру устроены. В шкафчик ведь не положишь – сразу найдут. Так я под шкафчик решила подсунуть – подальше, сколько руки хватит. Подальше положишь – поближе возьмешь – бормочу. Встала с колен, наклонилась – не видать. Кивнула удовлетворенно. Оделась, заперла киоск и со спокойной душой устремилась к выходу. «Олечка Петровна, далеко ли собралась – кричит в спину вахтерша, – а это у тебя что?..» И тянет насмешливо из-под киоска красивый мой стендик с драгоценностями. Я и обомлела. Подсовывала-подсовывала подальше, а того не учла, что тонкие, мебельные, в общем-то, стенки киоска не доходят вплотную до пола. И стендик мой, алым бархатом покрытый, высунулся и до того в глаза кидается, что и не хочешь, а вытянешь. Такой вот конфуз.
С тех пор слух обо мне прошел промеж вахтерш как о тюте-матюте. И стали они меня, слегка презрительно, опекать. А кто и от души. Люди-то разные…
Впечатлительная
Глухая летняя ночь. Тихо, но прохлады нет – разогревшийся за день асфальт лишь отдает тепло. Петровна не спит. Думает. Новость переваривает. И уже злится на себя. Ну да, сотрудница разводится с мужем – что же теперь, не спать из-за этого? Да, они вместе всю жизнь, с детства, венчанные, сын у них подросток. Столько вместе пережито… Но ведь оба взрослые уже, знают что делают. И все же жалко. Претензий друг к другу всегда хватает, это понятно, ну так что, разводиться?
Наде уже за сорок. С какого-то момента (с какого?) стала она остервенело носиться по распродажам, наряжаться. Распустила свои роскошные, цвета спелой пшеницы волосы по веснушчатым плечам, юбки укоротила. А как принарядилась, глянула на себя – ахнула: раскрасавица! Ухаживания старого… м-м-м, как бы помягче… сослуживца принимать стала. Что он ни скажет, даже совсем плоское, она хохочет заливисто, голову назад запрокидывает, шею длинную показывает. А тот и рад стараться – и чайку ей принесет с кухни, и пироженку купит… А сам старый совсем. Ноги жиденькие, синими венами обвитые, а туда же. Он летом в офис в трусах ходит. Вроде как шорты – но ведь обыкновенные трусы семейные, только что в клеточку, тьфу! А она ничего, знай похохатывает. Смотреть тошно.
Петровна зашарила по прикроватной тумбочке, зашуршала аптечной облаткой. Свет не включала, незачем: треугольником отрезан глицин, а квадратная облатка с крупными таблетками – то тенотен, от нервов. Всё уж давно изучила, давно приноровилась к своим бессонницам.
И чего так разволновалась? Жизнь есть жизнь. Бывает, и разводятся люди. Что ж тут особенного… Но так больно стало, тревожно, зыбко, будто мир рушится…
Он и в самом деле рушится, мир. Вот и эти двое уходят друг от друга. Куда? Кто их где ждет? Это ведь кажется так, что за углом счастье неведомое притаилось, возможности разнообразные. Хлебнула Петровна в свое время этакого «счастья», врагу теперь не пожелает. Ее юный муж тоже сказал когда-то, что уходит. Такая же ночь была темная, душная. Они спать ложились. Сказал деланно-безразличным тоном и отвернулся от нее, от жены своей. А ее будто кипятком ошпарило – не ожидала совсем. Ну, ссорились, конечно, всяко бывало, за пять-то лет. Охлаждение какое-то в нем замечала, но чтоб разводиться… Нет, не ждала. И думала раньше, что это фигура речи такая – «кипятком ошпарило». А оно в самом деле так. Будто от затылка по шее и плечам горячее потекло. И руки пудовыми сделались, обвисли. Еле постель достелила. Помнит, лежала, смотрела ему в спину сухими горячими глазами. Сердце колотилось где-то у горла. Майка его едва белела в темноте. Ближе к лопатке, она знала, дырочка есть, отбеливатель проел. Все собиралась зашить, да, видно, уж не придется. Другая зашьет.
Понятно теперь, что это за командировки были…
Ни слова она не проронила в ответ. Он ждал слез, упреков. Какое-то время был напряжен, а после задышал сонно, засопел – уснул. А Петровна до утра куковала, долю свою безмужнюю осознавала, все думала, как им с дочкой теперь жить. Может, с тех самых пор и начались у нее тяжкие бессонницы.
Вот и теперь не спит, крутится в скрипучей своей постели, вздыхает да лекарства пьет. Задремлет – а тут они опять, супруги эти разнесчастные грезятся. Бредут понуро в разные стороны, а земля под ними вся иссохшая, потрескавшаяся. И жалко их – сердце так и заходится.
Муж у Нади действительно грубоватый, неласковый. Слова доброго от него не услышишь. И жадный. Надя так говорит. Но ведь детство у него было – не приведи Господь. Рассказывал, что мать его шлангом, бывало, лупцевала так, что шрамы оставались. Может, несчастье свое женское вымещала, как знать. Ведь все мы, как известно, жертвы жертв.
Конечно, Наде тяжело было с ним. Всё книжки на работе читала, психологов православных – о конфликтах в семье, о женском одиночестве. Пыталась, как учат психологи, больше разговаривать с мужем. Ужин вкусный, бывало, приготовит, сына быстренько накормит, выпроводит гулять. А сама стол на двоих сервирует, свечи высокие, как в американских фильмах, зажжет. И фраза эта, тоже американская: «Нам нужно поговорить». А муж с работы придет уставший, неловко ему, театр какой-то, честное слово. Он их терпеть не может, разговоров этих. Ну, нагрубит. Она – в слезы.
В последнее время Петровна заметила у Нади книгу «Как пережить расставание». Не обеспокоилась, знала, что та психологией интересуется. А оно вон к чему было… О-хо-хо, грехи наши тяжкие…
Петровна подушку свою горячую и влажную на другой бок перевернула. Подбила с двух сторон, чтобы удобно было. Простыню любимую фланелевую (умеют жить буржуи!) натянула до подбородка. Вздохнула протяжно: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную…»
А тут директор еще. В асфальт, говорит, закатаю тебя, никто и не узнает, если пить не бросишь, тварь. О как. Не ей, не Петровне, понятно, говорил, а родственнице своей пьющей. Но холодом могильным от слов этих так и потянуло. Так и видится Петровне асфальт, вероятно, в гараже, так в фильме каком-то было, и краешек платья шифонового торчит, не углядели – жуть.
Директор, что называется, человек с прошлым. Всякого в жизни навидался, пережил, особенно в девяностые, когда каждый крутился как мог. Но пришел в Церковь, в Бога уверовал, покаялся. Смог. И давно уж воюет с ней, с родственницей. Заставляет в церковь ходить, причащаться. Та повинуется грубой силе – не более того. И опять пьет. А он психует. Петровна ему как-то в хорошую минуту сказала, что вот вы же не можете перестать психовать, хоть и причащаетесь; я, к примеру, никак не избавлюсь от греха осуждения, а Тамара – от пьянства. И не надо требовать от нее немедленных результатов. Она же не владеет собой. Как говорит преподобный Паисий Святогорец, слишком большую власть над ней возымели темные силы, самой ей не справиться. Молиться за нее надо. Молиться, а не в асфальт закатывать.
Еще камеры эти везде понатыканы… Тоже мне, всевидящее око. Большая икона Троицы рублевской висит, а над ней аккурат глазок камеры. Петровна поднимается к себе, первым делом крестится перед иконой и поклон поясной кладет. А директор смотрит на свой монитор – и что? Млеет? Или веселится? И зачем они вообще, камеры эти? В каждом кабинете, на рабочие места нацелены. «Не обращайте, говорит, внимания». Ну да. А Петровна и домой приходит, взгляд сверлящий на затылке ощущает. Впечатлительная. Система у нее нервная.
Петровна думает обо всем об этом, о мире, стремящемся к погибели, о грехах своих и чужих, и так горько, так холодно и тоскливо становится на душе, что она рывком поднимается и, став босиком на холодные плиты пола, начинает класть земные поклоны. Колени скрипят, дыхание сбивается, но Петровна не обращает внимания. Не менее двадцати поклонов – уже по опыту знает, что меньше никак нельзя, иначе не уснуть.
Умаяв себя, к утру Петровна засыпает. Дыхание ее становится ровным, увядшие губы начинают выдувать сонное: «Пф-ф, пф-ф…», но складка меж бровей так и не хочет разгладиться.
А на следующий день, придя на работу и включив комп, Петровна читает в новостной ленте, что минувшей ночью была редкая по своей силе магнитная буря. И понимает Петровна, что это и было причиной ее ночных страданий. И что жизнь, в общем, вполне сносная штука, терпеть можно. И что сотрудница Надя, может, не насовсем разведется со своим мужем. А если и разведется, то что ж, дело житейское. И, главное, директор вряд ли закатает свою родственницу в асфальт. Вряд ли…