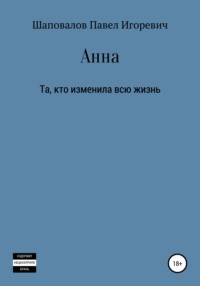Loe raamatut: «Анна»
Посвящается девушке,
наделённой самой светлой душой
той самой, что помогла мне
осмыслить что такое настоящая любовь
Я люблю тебя, Аня.
I
Множество жизней и судеб переплетаются между собой в течение каждого мгновения, где-то там, в совершенно разных, далёких и близких уголках нашего мира. Люди встречают друг друга, находят, в надежде сохранить себя, в надежде создать что-то большее: будь то отношения, будь то дружба или же любовь. А в ряде же случаев, жизнь готовит людям наиболее сложные испытания, от прохождения всех этих этапов с самого начала: с зарождения дружбы, которая в конечном счёте оборачивается взаимной симпатией друг к другу. Но порой бывают ситуации, когда человек на протяжение четверти, трети, а то и вовсе половины своей жизни скитается в этих поисках, но обрести счастье ему не придаётся возможным, по ряду определённых причин. И нет, он встречает на своём пути тех, кто смог бы заполнить эту пустоту, но взаимности же как правило не удаётся заполучить. Возможно, такие люди являются избранными и находятся в этом мире ради какой-то цели, быть может даже и высшей, чем чёрт не шутит. Но такой оптимистичный взгляд на жизнь нередко натыкается на скалы приливов глубокой пессимистичности, когда эти неудачи с ним случаются снова и снова, и снова. В такие моменты остаётся надеяться лишь на одного Бога, но и здесь всё бывает не так гладко, как того хотелось бы. Порой, в моменты самого сильнейшего отчаяния накатывает волна чувств, будто даже сам Бог покинул тебя, оставил на этой бренной земле просто про запас, бесцельно и бездумно. Но кто бы знал всех планов Бога? Это известно лишь ему одному, а все эти домыслы, догадки и придумки, лишь следствие своего собственного отчаяния, которое человек и гасит за всеми этими стенами.
По-настоящему осознавать свой жизненный путь и своё предназначение, если таковое и вовсе есть, человек начинает лишь оказавшись на распутье между жизнью и смертью. Ведь не зря же до создания всего живого мира было ничего, а что по сущности своей есть это ничего? Это хаос, тёмная материя, существующая в хаотичном порядке: в ней нет начала, нет конца, в ней нет света и солнца, но нет и тьмы, есть лишь субстанция, что не подчинена ни одному закону физики, мироздания и божественному слову, просто пустота. Но именно эта пустота и этот хаос есть прародитель всего. Поэтому именно находясь на распутье между жизнью и смертью человек оказывается в этом самом хаосе, своём собственном, персональном хаосе. Можно ли в такие моменты доверять лишь воле случая? Нет, а воле судьбы и своих собственных сил? Безусловно, под пониманием “судьба” и кроется то самое божественное начало, если для нас судьба, это случайное стечение обстоятельств, которое привело к тем или иным последствиям, либо же свело с теми или иными людьми, то для Бога же судьба есть сценарий, сценарий, которому человеку суждено узнать полностью лишь к концу его жизни. Да и конец этой жизни как правило людям не предрешён, так что его более чем заслуженно можно записывать в одни из звеньев той самой судьбы. Ведь именно по воле Божьей мы зародились, ведь именно по воле Божьей мы пришли в этот свет и по его же воле мы умираем, проходя каждый своё собственное, личное для каждого испытание. Но порой же эти испытания оказываются настолько тяжёлыми, что в один миг человечество целиком теряет какую-либо веру в Бога, даже казалось бы те, кто связал свою жизнь служению ему: кто-то воспринимает такие ситуации как отрешение Бога от человечества в целом, кто-то же как финальное и главное испытание, которое рассудит человечество и поставит вопрос: “Простить ли первородный грех Адама и Евы ему или же нет?” И именно так всё случилось с нами…
Мы были детьми послевоенного периода, хотя, это весьма и весьма громко сказано, потому что большая часть нас родилась сразу или несколько позднее после окончания Второй Мировой Войны, но годы, что застали мы в своё раннее детство в понимании маленького и неокрепшего ребёнка можно было трактовать именно так: нехватка еды, нехватка медицинского оснащения и разбомблённые вражескими истребителями дома, театры, госпитали – всё это для нас было единственной настоящей реальностью. И почести, что отдавались военным и засилье этих военных во всех, даже в самых маленьких городах и поселениях, было обыденностью для нас. И в годы, когда, казалось бы, мир отошёл, воспрял от эха прошлой войны, обновился и восстановился, Бог не оставил нас без новых, пожалуй, в разы тяжёлых испытаний…
Прошло меньше года, как я окончил профессиональную подготовку и стажировку в одном из крупнейших челюстно-лицевых госпиталей Колумбуса и стал носить гордый и благородный статус врача-челюстно-лицевого хирурга, как сразу же был распределён работать, а вернее было сказать даже служить, в один небольшой провинциальный военный госпиталь на самой окраине своего родного штата Огайо, в закрытом военном поселении, куда, как меня убеждали мои начальники “не сунется ни один чёрт”.
Это был 1970 год, мне было всего 25 лет, когда я окончил полный многоэтапный цикл обучения по своей специальности и уже в эти годы неумолимо и постоянной основе отбывал на десятках операций в неделю. То были и гнойные операции по вскрытию проклятых абсцессов и флегмон и чистые операции, что носили больше плановый характер, но оно и понятно. Меня звали Томас Корнуэлл и мой род происходил из каких-то глубоких и почётных слоёв Англии, но при этом родился и прожил всю свою сознательную жизнь я в Колумбусе, потому что, когда началась война мать отправили в Америку, где казалось бы было безопаснее всего, как нас пытались в этом уверять все. Прошло практически 30 лет после войны, но в Англии я так и не побывал, никто к нам не вернулся оттуда и речей о родине мы просто больше никогда не вели. В детстве я не понимал того почему мы об этом не говорим, но с взрослением я всё осознал и больше не задавал таких вопросов никогда. Отрадно, не правда ли? Что люди с взрослением становятся, более черствея и чёрствость эта есть ничто иное как жизненный опыт, а коли опыт приводит к такому, то и жизнь не такая простая и радужная, как это могло казаться в детстве. Поэтому с тех самых пор, я понял одну главную вещь: взросление – это потеря оптимизма и красок жизни.
Почему-то сложилось так, что в какой бы коллектив я не попадал, будь то университет, резидентура или же даже работа, все всегда называли меня Томом, лишь изредка обращались ко мне в полной форме – “Томас”, толи я выглядел так молодо или же эта форма обращения была привычна для доброй половины моих знакомых. Но, впрочем, меня это никак не задевало, мне было по большей части плевать, так что реагировал на это я более чем спокойно. К тому же, работал я в этом месте, можно сказать, всего пару месяцев, ещё толком не был адаптирован к нынешним порядкам, устоям и коллектив всё ещё для меня был новым и местами даже незнакомым. Мой начальник, который заведовал отделением, в котором я работал был каким-то именитым и великим врачом и хирургом, как мне удалось понять учился он в Лондоне и сразу по окончании приехал сюда, где доброе количество лет отработал в центральном госпитале Колумбуса, а после был переведён сюда, заведовать нашим отделением. По возрасту ему было чуть-чуть побольше сорока лет, но выглядел он на тридцать, а то и вовсе младше.
Мои дни и в целом моя жизнь в этом месте была точной копией предыдущего дня: ранние подъёмы, ранние уходы на работу и пребывание на работе в течение нескольких часов в гордом и смиренном одиночестве, но когда начинался непосредственный рабочий день, жизнь в отделении резко оживала, становилось крайне людно и светло и этот уютный мирок, что царил здесь, буквально, мгновение назад превращался в какую-то рутину, полную всяких дел, проблем и сильнейшей усталости.
Когда я впервые здесь оказался, я оказался по большей своей части никому здесь не нужен, как порой бывает, появляется новый сотрудник, его вводят в курс дела, посвящают в эту жизнь, в эту обстановку и устои, в моём же случае мои представления остались лишь представлениями, ибо по сущности своей никому не было дела, по всей видимости все любили довольствоваться принципом: “Научили в резидентуре и на стажировке, так значит справишься и тут сам”, что и вправду оказалось самой истинной сутью этого места. Хотя, быть может это не только здесь такие были порядки, но и во многих иных учреждениях, ведь, по сути, мне больше нигде не доводилось бывать, кроме этого места. Я своими силами и своими наблюдениями примерно ко второму месяцу работы здесь смог более-менее освоиться в этих стенах, даже до операций уже начали допускать, пусть пока ещё и не до самых сложных и в большей своей степени до гнойных. Но, с другой-то стороны, каким будет хирург, который не в силах вскрыть даже обычную флегмону или же абсцесс? Правильно, не самый лучший, именно поэтому мною лишь за один месяц было вскрыто их порядком больше десяти штук, с учётом того, что это местечко, вовсе не заселённое практически, это даже не город, а небольшое пригородное поселение. Но говорят, что пациентов доставляют к нам из каких-то отдалённых военных частей, а уж там-то даже в мирное время флегмон и абсцессов десятки будет у солдат. Поэтому научиться здесь можно многому, поистине.
II
Я уже давно не замечал разницу между сном и бодрствованием, или сны мои были столь реалистичны или же бессонница стала частью меня неотъемлемо, но вставая с кровати я ощущал, будто я не спал, хотя бывали такие дни, когда я чувствовал будто бы выспался, но при этом помнил многие события прошлой ночи, как я ворочался, как я ждал рассвета и как я ждал и размышлял о дне грядущем. Сегодняшняя ночь была одной из таких же, когда я встал с кровати я понял, что сегодня мне удалось хорошо выспаться, а значит есть шанс быть более живее на день грядущий, который готовил меня к очередной рутинной порции, что постепенно перейдёт в очередную такую же, такой, своего рода, замкнутый круг, в котором мне предстояло крутиться много лет, быть может до самой старости.
Отметая из своей головы поток утренних размышлений, который выводил меня и затормаживал мою реакцию я быстро умылся, оделся и попил чай, а затем выдвинулся на работу, ввиду того что это поселение было небольшим, здесь каждый знал друг друга и не было огромных площадей и большого количества улиц, мой госпиталь располагался всего в пятнадцати минутах ходьбы от моего дома, поэтому я ходил туда пешком и даже если я порой опаздывал немного от своих задуманных графиков, я всё равно приходил туда раньше всех и оказываясь в раздевалке, где мы переодевались из своей уличной одежды в медицинскую форму и халат, я всегда оказывался первым. Отчасти это было большим плюсом, в виду того, что раздевалка была общей для всех и разделяли людей здесь лишь выставленные “щитами” шкафчики для вещей. Мне повезло с этим больше всего, ибо около моего шкафчика здесь располагалась целая каморка, которая в качестве “кармана” была образована другими таким же железными серыми шкафчиками, поэтому даже если бы здесь было море людей, я мог бы переодеться спокойно и без каких-то посторонних глаз.
Войдя внутрь госпиталя я сразу же свернул на лестницу, что вела в подвал, где и располагалась та самая раздевалка, открыв её своим ключом я оказался внутри большого и очень тёмного помещения, где царила полнейшая тишина, включив свет здесь всё резко изменилось и передо мной предстали множество разных проходов, которые разделяли этими самыми серыми шкафчиками и с учётом того, что здесь было очень тихо и был выключен свет, значило то, что я вновь оказался здесь самым первым. Пройдя “лабиринты” из выставленных шкафчиков я наконец достиг своего, который открыл ключом, что достал из кармана и переоделся, аккуратно складывая свои уличные вещи в этот шкаф, а пиджак вешая на вешалку, а затем по той же самой лестницы, что привела меня сюда, в подвал, я поднялся на четвёртый этаж, где, собственно, и располагалось то самое отделение, где я работал вот уже несколько месяцев. Стремительно минуя пост медсестры и палаты пациентов, которые в это время или же спали, судя по храпу и сопению некоторых из них, кто-то же был таким же жаворонком и уже завтракал и пил чай. Оказавшись около поста, я заметил, что медсестры не было на месте, но в принципе это было и неудивительно, ибо было всего шесть утра и она скорее всего спала. Я же в свою очередь вошёл в ординаторскую и сел за свой рабочий стол, осматриваясь то по сторонам, то в окно, за которым уже во всю начинало играть солнце, переливаясь разными красками.
В ординаторской было довольно солнечно, в виду того что её окна выходили на самую солнечную сторону этого здания и плюсом ко всему окна были очень большими, я подошёл к своему столу и взором окинул большую кипу белых историй болезней, которые были сложены в ровную стопку. Стопка это, однако, была весьма большая и это значило лишь одно: после перевязок мне предстояло очень-очень много писать. Не желая думать о работе в такую рань, я приземлился на диван и удобно улёгся на него, поджав ноги, чтобы уместиться, так как диван здесь был весьма старый и короткий, никто на нём в полный рост не помещался. Закрыв глаза, я задумался о том, что уже наконец наступил четверг, а это значит, что через один день уже наступят долгожданные выходные, которых я очень ждал, чтобы полноценно отоспаться и отдохнуть от всех забот, что готовит мне этот стационар на каждый грядущий день. Размышляя обо всём этом, я вдруг подумал, что недели начали не просто течь, они стали словно утекать, даже будние дни пролетали как мгновение, хотя, казалось бы, во времена ранней молодости будни казались мне нескончаемым бременем, которое приходилось тянуть, чтобы хоть как-то дожить до субботы. Но видимо это следствие взросления – когда жизнь утекает как часы и не только из-за быстротечности выходных, но ещё и из-за скорого тока времени и в будних днях. И ежели всё настолько быстро утекает, хотя по сущности я, мы, да в целом человечество стоит на одной точке, ведь по сути вчера я приходил на работу и жил рутиной, позавчера всё было также, сегодня абсолютно такой же день, но с точки зрения времени прошло уже три дня, но я, говоря метафорически, не сдвинулся с места и не достиг каких-то изменений за эти три дня. Неужели и вправду жизнь настолько коротка, что сделать что-то великое за такой быстротечный период времени удаётся лишь единицам? Я лежал на диване, солнце светило мне в затылок, а лицо было в тени, а все мои мысли в этот момент концентрировались и генерировались в своей голове всё с большей и большей прогрессией. Я пытался найти ответ на этот вопрос и лишь позже я стал осознавать, что задаю себе вопрос, ответ на который не может дать человечество уже множество веков и тысячелетий: “В чём смысл жизни?”, ведь если подытожить всё сказанное мною сейчас, то в конечном счёте это приведёт как раз к этому самому вопросу, а познать его не суждено никому, а быть может суждено и ответ на это персональный для каждого. Ведь есть такое суждение, что каждый человек имеет свой путь, свою дорогу и сам создаёт своё будущее, именно от его решений и зависит этот завтрашний день: попасть в плохую компанию с наркотиками, преступлениями и прочими пакостями и не проснуться завтрашним утром, либо же продолжить работу на благо людей и вернуться утром в этот же самый мир, дабы продолжить свою миссию. По большому то счёту я сам себе не меняю ничего, но, когда я делаю операции людям, особенно тем, кто госпитализируется экстренно я даю билет в остаток жизни. Эти люди находятся на грани существования, увядания, осложнений, а порой даже и смерти, пусть это и редкое явление в моей специальности. Оказываясь перед операционным столом, я делаю выбор: спасти этого человека, тем самым дать ему новый день, который тоже будет казалось бы однообразным, завтрак, обед, ужин и перевязки на ближайшие две недели, либо же лишить этого человека его нового дня, усугубить его состояние, увеличить его мучения и боль и в конечном счёте лишить его жизни. И тогда-то я и понял эту простую истину: пусть в моей жизни за эти три дня по большому счёту не изменилось, как я и приходил в 6.30 утра на работу, как я лежал на этом диване до 8 утра, так я и прихожу сейчас, так я и лежу сейчас, но то что я даю в каждом новом дне, это именно этот шанс другим людям. Выходит, каждый человек проживая свою жизнь лишь частично меняет что-то в своей, по большей части он меняет жизни других, причём порой даже кардинально и за один единственный день, что даёт нам Бог.
Я мог бы лежать на этом диване и дальше, отдыхая, приходя себя в норму и даже высыпаясь, но моя гармония была нарушена хлопком двери в ординаторскую, что значило что теперь я здесь не один и значит начинается активный рабочий день. Именно всё так и оказалось, из-за шкафа, который разделял вход в ординаторскую от дивана и столов, стоял мужчина средних лет, довольно высокий и худой, его волосы были нестандартной длины для обитателей этих мест, но в то же время они и не были очень длинными, это был мистер Лаер, заведующий отделением, где я трудился, звали его Кевин, но как правило его имя эти стены слышали очень и очень редко, так как привычным обращением к нему было это самое “мистер Лаер”.
– Том? Приветствую, – увидев меня он слегка улыбнулся, а потом зашёл вглубь ординаторской и встал прямо передо мной, я же в свою очередь поднялся с дивана, чтобы не казаться ещё меньше и не смотреть на него настолько сильно снизу вверх.
– Здравствуйте, мистер Лаер, – ответил я, с той же улыбкой и взглянул на его кипу историй болезней, которую он держал в своей правой руке, историй, признаться, было действительно очень много и зачем он сюда принёс их все, было конечно большой загадкой, ведь свои документы он хранит в своём кабинете, а к нам в ординаторскую наведывается крайне и крайне редко, за все два месяца, сколько я тут работаю здесь он был всего два раза и то всего на пару минут, этот раз был третьим.
– Том, я хотел тебе напомнить о том, что ты сегодня дежуришь, принёс истории своих пациентов, которых будет необходимо посмотреть перед отбоем, где-то часов в десять вечера, там все назначения указаны. – сказал мне мужчина, пытаясь заинтересовать моё особое внимание, периодически размахивая этими историями перед моим лицом, а потом, когда его жестикуляция вместе со словами завершилась, он протянул мне эти истории. Как оказалось их было четыре, что весьма радовало, ибо это не такое и большое количество, а зная как щепетилен был Лаер к ведению своих пациентов, то к ним нужно было непросто обойти их, а полноценно осмотреть, а на утро предоставить полнейший отчёт буквально за каждый час пребывания их в нашем стационаре.
– Да, конечно, безусловно мистер Лаер, я проведаю ваших пациентов, спасибо – ответил я весьма подавленно, но я сомневаюсь что это подавление было замечено Лаером, ибо он был из тех самых людей, кого никаким образом не трогали другие люди совершенно, ему по большей части было на них плевать и за своих пациентов он так пёкся, вероятно, не из-за большого сострадания к ним, а из-за того что они были плодами его “творчества”, если под творчеством понимать хирургические манипуляции и хирургическое искусство.
– Замечательно, увидимся на обходе, – ответил он удовлетворённо и без малейшего замедления он покинул ординаторскую, оставив меня в гордом одиночестве вновь. Причём, стоит заметить, что такие короткие и весьма информативные беседы были его главным коньком и, я бы сказал, фишкой. Поэтому меня это совершенно никак уже не удивляло, за два месяца работы здесь, хотя по началу казалось, будто это какое-то неуважение или презрение, а может и вовсе высокомерие, хотя, без этого вероятно он и не обходился, ибо и вправду считался весьма и весьма уважаемым и признанным хирургом во всём штате и за его пределами.
Когда он ушёл, на мгновение откинув все прочие свои мысли, я вдруг задумался о дежурстве и понял, что совсем о нём забыл, не сказать что эта новость меня как-то огорчила или же обескуражила, я уже дежурил и мне, в принципе это понравилось, но факт того, что я был толком даже не готов к этому несколько огорчало, хотя с другой стороны я мог не спешить с выполнением своих дел и выполнить их по мере необходимости, спокойно и тихо, либо просто дождаться вечера и сделать всё в одиночестве, когда уже все уйдут домой.
Находиться долго в помещении одному мне так и не пришлось, буквально спустя 10 минут после того как Лаер ушёл, в ординаторской появился мой коллега, но более старший врач Уильям Джефферсон, который работал в этом стационаре уже более десяти лет, он не был стар, но и борода его не делала его молодым, ему было примерно около 35 лет, увидев меня он довольно улыбнулся и кивнул головой.
– Здравствуй, Том, как вижу ты снова раньше всех на работе? – всё с той же улыбкой спросил Джефферсон и протянул мне руку, которую я пожал в ответ и также улыбнулся.
– Да, всё как всегда стандартно и обыденно, к тому же я сегодня снова дежурю. поэтому забот на день немало. – отвечал я довольно спокойным и даже добродушным голосом, потому что Джефферсон и сам был весьма добродушен и спустя каждое слово широко улыбался. Стоит ещё заметить, что он был одним из тех, кто оставался на суточные дежурства по много раз за месяц, не знаю почему это было так, или желание обогатиться, ведь за дежурства платили приличные суммы, либо же какое-то отчаяние от одиночества, которое можно было гасить своей необходимостью людям здесь, в отделении, ведь он не так давно развёлся с женой и дочь тоже осталась с ней. Поэтому я более чем уверен, что второе наиболее вероятно и именно в этом причина его таких самопожертвований. И всё же кому бы что ни казалось, этот парень действительно хорош, ведь именно он меня ввёл в курс дела и рассказал, как проходят дежурства, когда я только пришёл сюда и это было первое моё дежурство, он всё доходчиво объяснил и даже показал.
Джефферсон задержался в ординаторской не долго, после небольшого разговора он отправился в свой кабинет, который находился в другом секторе нашего этажа, а я же в это время сел за свой стол и начал пролистывать историю одного из пациентов Лаера, пытаясь войти в курс дела и понять по поводу чего он был оперирован и когда, а попутно в это время было включено радио на посту, оно было включено не на всю громкость, конечно, но было доходчиво всё слышно через открытую дверь ординаторской. Ведущий местных новостей рассказывал о каком-то ужасающем массовом убийстве, на западе Колумбуса, что, якобы человек собственными зубами и руками порвал и изуродовал свою семью и соседей, а при попытке его задержания он покусал полицейских, словно был не в себе, словно был в каком-то бешенстве. В эти годы в стране происходило множество разных убийств, чаще краж, поэтому мало что могло хоть как-то заинтересовать людей, поэтому я и не стал вдаваться толком в подробности, а уже писал своей чёрной ручкой утренний дежурный дневник для первого пациента, левой рукой весьма коряво, но всё же понятно и отчётливо вырисовывая буквы, а попутно, лишь краем уха продолжал слушать новости. Стоило мне услышать короткую фразу, сказанную ведущим по радио: “Подобные инциденты происходят ещё в ряде штатов…” как вдруг звук ушёл на второй план и заглушился, потому что в ординаторскую вошёл кто-то и громко захлопнул за собой дверь, таким образом дослушать мне ничего и не удалось. Когда этот человек, что нарушил мой покой обошёл шкаф, я увидел угрюмого и недовольного Бернарда Майерса, это был высокий и худощавый молодой человек, он был по статусу ниже чем я, он был лишь стажёром, но взгляд его был чернее тучи и весьма серьёзный, словно он был каким-то членом правительства, что приехал проводить к нам проверку, которая должна была окончиться не самыми лучшими последствиями, судя по его угрюмому взгляду. Так я думал ранее, пока не понял, что это обычный его вид. Так уж сложилось, что он был таким всегда и приехал он к нам с самого северного штата Америки из Аляски, не имею понятия что он забыл в наших западных краях, но видимо Колумбус ему так понравился, что он решил ради этого оставить свой штат и поехал учиться сюда. Кстати, его внешний угрюмый вид не всегда говорил о его истинном настроении, этот человек мог ходить с лицом, словно убили его мать, а стоило начать с ним говорить, как он по голосу становился резко дружелюбным, а порой даже и смеялся, таков уж контраст его эмоций, это всегда меня поражало в нём.
– Здравствуйте, мистер Корнуэлл, – весьма и весьма спокойно и даже отчасти добро поприветствовал меня Бернард и протянул руку для рукопожатия, чем я ответил ему таким же жестом и пожал его руку.
– Приветствую, Бернард, скажи мне, ваш пациент с доктором Джейн пойдёт сегодня на операцию? Она просила меня помочь сегодня? – повернувшись в пол оборота задал вопрос я, обратив свой взор на Бернарда, который в этот момент уже сел за свой стол, который стоял прямо позади от меня.
– Да, мистер Корнуэлл, сегодня в первую смену операция будет, пациент идёт, – более сухо, но всё же спокойно и добро ответил он, также смотря на меня в пол оборота.
– Что же, прекрасно, в таком случае предупреди меня, когда пациента подадут, я подойду. – ответил я с лёгкой улыбкой, смотря на него, а он же в свою очередь просто кивнул мне головой, давая понять, что понял и предупредит. В этом плане этот парень был весьма ответственен и очень трудолюбив, он работал с доктором Лея Джейн, она была тоже молода, практически как я, но всё же на пять лет меня старше и имела больше опыта, благодаря тому что уже окончила аспирантуру и даже защитила кандидатскую, Лея нравилась мне как врач, в том плане что когда я только пришёл сюда работать, она одна из немногих кто чаще всего звал меня с собой на операции и даже давала самостоятельно выполнять какие-то манипуляции, чтобы на практике закрепить изученное. И в этот раз она позвала меня оперировать пациента с остеомиелитом, у которого был весьма обширный участок поражение, который затрагивал как правую половину тела нижней челюсти, угол и даже частично ветвь, нам предстояло произвести ревизию патологических очагов и удалить сформировавшиеся секвестры, обычно такие операции считаются у нас, да и во всей хирургии “грязными” и их проводят в самые последние смены, после всех “чистых” операций, но сегодня было весьма мало операций и одна из операционных была полностью свободной, поэтому нам так повезло. Хотя, повезло всё же больше Лея и Бернарду, я мог бы оперировать и даже поздней ночью, в виду своего дежурства.
Как только я отвлёкся и откинул свои мысли в сторону я продолжил выписывать свои корявые буквы по желтоватой бумаге истории болезни, делая последние утренние назначения пациенту доктора Лаера. Бернард же сидел молча, не проронив больше ни единого слова и занимался своими делами со спокойствием и непринужденностью, а потом в какой-то момент времени вдруг резко встал, как он это делает обычно, и вышел из ординаторской, оставив дверь открытой, тогда я услышал как стационарный телефон, что находился на посту разрывался от звонков: звонил истерично в течение минуты, умолкал на миг, потом снова раздавались звонки и так продолжалось до тех пор, пока в ординаторскую не вернулся Бернард и стоя около меня, обратился ко мне.
– Доктор Корнуэлл, пациента подали, мы можем подниматься. – бодро и очень живо ответил Бернард с улыбкой и дожидаясь моего ответа замер в паузе.
– Прекрасно, в таком случае идём, – ответил я с довольной улыбкой, отвлекая своё внимание от душераздирающего телефона и встал из-за стола, направляясь вслед за Майерсом в сторону лестницы, попутно проходя мимо поста я вдруг даже неожиданно и негаданно для себя громко вскрикнул “Медсестра, подойдите к телефону на посту”, но не надеясь получить какую-то реакцию, я последовал за пределы отделения, где звон телефона уже был не слышен и поднялся вместе с Бернардом на пятый этаж, где и располагались наши операционные.
Оказавшись в операционном блоке, в котором даже пахло особенно, этот запах я называл запахом кристальной чистоты, мы с Майерсом прошли в мужской санитарный пропускник, где переодевшись из своей хирургической формы, мы переоделись в операционную форму, которая была настолько мятой, что казалось бы разгладить её было совершенно нельзя, но это был такой особый и, пожалуй, самый типичный операционный стиль наверное не только в Америке, но и во всём мире и эти помятости придавали лишь больший шарм этой форме, как мне казалось. Переодевшись, я вышел через другую дверь, которая вела в непосредственно предоперационную область, где по обе стены, которые были выкрашены в едкий синий цвет, располагалось множество дверей, а сама предоперационная область представляла собой длинный коридор. Здесь с одной стороны была палата интенсивной терапии, где после операции в течение нескольких часов, а порой и суток, это зависело от вида операции и состояния пациента, находились прооперированные, а с другой же стороны находились ординаторская медсестёр, боксы для стерилизации и хранения инструментов, а какие-то двери были вовсе закрыты и что было за ними мне было совершенно неизвестно, но впрочем это было и не так уж и важно, я шёл в самую глубь этого коридора, до самого упора, где располагалась более крупная по ширине и высоте дверь, которая, собственно, и вела во все наши операционные. Отрадно было также заметить ещё то, что эта дверь даже по стилистике никак не вписывалась в операционный блок, потому что если стены были синими, то эта дверь и её косяки была зелёной и, по всей видимости, железная. С другой же стороны, это смотрелось как некий ориентир, центр, который был разделительной преградой между жизнью прошлой и будущей пациентов, входящих туда, а хирург в этой игре играл роль некого распорядителя и решал судьбы людей, что попадали туда.
Я шёл по этому длинному коридору сконцентрировано и сфокусировано на зелёной двери, а затем услышал шаги позади, это был Бернард, который уже тоже переоделся и направлялся в одно и тоже место, что и я. Сначала догнав меня, а потом и вовсе догнав меня высокий худощавый парень пропал где-то в глуби операционной и скрылся на зелёной дверью, по всей видимости он пошёл помогать интубировать пациента, так как обычно этим занимались стажёры вместе с анестезиологами. Когда я преодолел зелёную дверь, я оказался на распутье между двумя операционными, которые располагались друг напротив друг друга, а впереди от меня стояло две мойки для обработки рук, которые также стояли по обе стороны стен, соответственно каждой операционной. Я вошёл в операционную, что располагалась справа от меня и увидел скопление нескольких человек, среди которых был сам Бернард, который придерживал пациента за руки, а также там был анестезиолог и две медсестры.