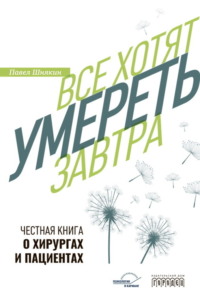Loe raamatut: «Все хотят умереть завтра. Честная книга о хирургах и пациентах»

© П. Шнякин, 2025
© ИД «Городец», 2025
@ Электронная версия книги подготовлена
ИД «Городец» (https://gorodets.ru/)
Стоило ли обо всем рассказывать?
– Вы, врачи, кичитесь уникальностью и чуть ли не избранностью. А по сути, это такая же профессия, как многие другие, – в сердцах сказал мне один приятель.
Я ему что-то ответил. А потом написал эту книгу.
Сначала я просто хотел рассказать о нашей профессии – может, и не уникальной, но точно особенной. Рассказать, что не всегда мы работаем в идеальных условиях, что бывает непросто принять правильное решение и иногда мы ошибаемся. Не все наши пациенты выздоравливают, после некоторых случаев опускаются руки, мы валимся без сил после бессонного дежурства или многочасовой операции. И все же каждый из нас уверен: лучшей профессии нет.
Мне хотелось рассказать, что такое быть врачом и особенно хирургом. А поскольку сам я нейрохирург, то приводил примеры из мира «мозговых катастроф».
И все же эта книга не про нейрохирургию.
Когда я написал несколько глав про врачей, поймал себя на том, что книга выйдет однобокой, если не рассказать и о пациентах. О том, как они боятся врачей и в то же время ждут от них невозможного. Какими медицинскими мифами руководствуются и как часто поспешно судят о врачах. Как падают духом и проявляют истинный героизм.
Я написал половину книги и понял, что пишу уже не только о пациентах и врачах, но и для врачей, в первую очередь для молодых коллег, только начинающих путь в медицине. Я спешил поделиться некоторыми хитростями и секретами, которыми меня самого когда-то научили. Мне хотелось рассказать о том, на что стоит ориентироваться и чего опасаться. Как можно научиться быстро оперировать, но так и не научиться врачевать.
Главы стали рождаться, как матрешки, – одна из другой, а я только поспевал записывать все, что вспоминалось и наболело. Когда же я поставил последнюю точку, задумался: а стоило ли обо всем этом рассказывать? Нужно ли было раскрывать секреты внутренней кухни?
То, что обсуждается в кругу врачей, не принято выносить на широкую публику. Это основа корпоративной этики. Но корпоративная этика не должна стать непроглядной завесой от простых смертных, если врачи хотят, чтобы им доверяли. Мы должны научиться говорить честно не только о своих победах и достижениях, но и о неудачах и проблемах, иначе они так и останутся в тени. А общество, которое любит осуждать промахи врачей, будет иметь неполную и недостоверную картину нашей работы.
Предвижу осуждение коллег: «Обычные люди книгу не воспримут, а то и просто ужаснутся. А мы и так обо всем знаем».
Не исключено.
Но я надеюсь, что адекватный взрослый человек все воспримет правильно и станет с большим пониманием и, может, даже с уважением относиться к докторам.
А коллеги пусть над чем-то посмеются, где-то нахмурят брови, в каких-то местах согласно закивают, в других скажут: «Ну, нет». И это будет хорошо, значит, книга удалась.
Итак.
Эта книга наблюдений и заметок о медицине, врачевании и хирургии.
Эта книга о том, что лучше профессии врача ничего нет.
Эта книга про то, как непросто быть врачом.
Эта книга о хирургах, которые и боги, и обычные люди.
Эта книга о пациентах, которые боятся врачей и ждут от них невозможного.
Эта книга о сложных решениях и непоправимых действиях.
Это книга-призыв: не спешите судить докторов.
Если совсем кратко.
Студентов и ординаторов – насторожить.
Врачей – поддержать.
Всем остальным – понять.
Часть I
Пациенты: страхи, надежды, вопросы
Бомба в голове
Когда вы умрете?
Скорее всего, вы даже не пытались об этом думать. И правильно – думать об этом неприятно. Тогда вместо прямого ответа попрошу пройти известный в психологии тест. Очень простой и страшный.

Прямая линия – это ваша жизнь. Точки А и Б – рождение и смерть. Задача простая: поставьте точку там, где сейчас находитесь вы. Нужно просто предположить.
Сложно? Все зависит от вашего возраста. Чем вы старше, тем менее ошибочно и более уверенно это сделаете.
В своем рассуждении, скорее всего, вы оттолкнетесь от средней продолжительности жизни. В России на 2024 год она составляет 75 лет. Поэтому если вам 40 лет и меньше, вы поставите точку где-то посередине или чуть правее.
Но кто доживает до 75 лет? В основном те, кто умирают от типичных болезней, ассоциированных с возрастом: инфаркт миокарда, инсульт, онкологические болезни, сахарный диабет и другие заболевания. Чтобы дожить до 75 лет, вы должны избежать не только тяжелых болезней, но и смерти от возможных внешних причин. В том числе, нужно не упасть с лошади. Неудачный пример? А в Тыве, например, это одна из частых причин смерти молодых мужчин.
Неприятная новость.
Даже если вам посчастливилось не упасть с лошади и избежать других травм, даже если вы занимаетесь спортом, не курите, правильно питаетесь и ваши мама-папа-бабушки-дедушки долгожители, оптимистический прогноз на жизнь в один миг может оборваться. Виной этому может быть маленькая бусинка, затаившаяся в глубине черепа. Эта красная бусинка покоится на основании мозга, в окружении сосудов и нервов, где-то в самом центре головы. Омываемая теплыми волнами спинномозговой жидкости, тихо дремлет она месяцами и годами. И как в страшной сказке: ее сон – это ваша жизнь. Лучше ей никогда не проснуться. Имя этой бусинки – аневризма.
По своей сути аневризма – выпячивание стенки артерии головного мозга. Только стенка аневризмы не такая прочная, как у самой артерии, на которой она сидит, а истонченная, иногда сквозь нее видно движение крови. Поскольку сейчас все автолюбители, самая простая аналогия с аневризмой – грыжа на колесе, тоже «слабое место». Если грыжа лопнет во время движения автомобиля, последствия представить может каждый.
Когда разрывается аневризма, 10–15 % людей умирают на месте до приезда скорой помощи из-за массивного кровоизлияния в мозг. Быстрая смерть, не мучительная. Человек теряет сознание и умирает без боли. Но для родных и близких тяжело. Слишком неожиданно. К примеру, до инфаркта миокарда люди обычно уже имеют жалобы на сердце, и можно в перспективе предполагать неблагоприятный исход. А аневризма не доставляет человеку проблем, не вызывает жалоб, ее существование безмолвно. Поэтому убитые горем близкие так часто повторяют: «Но она ни на что не жаловалась», «У него даже голова никогда не болела», «Она всегда следила за давлением», «Утром, уходя на работу, он чувствовал себя хорошо».
Еще 20–30 % пациентов с разрывом аневризм привозят в нейрохирургические отделения в тяжелом состоянии. (Нейрохирурги будут нередкими гостями последующих глав книги. Это они оперируют пациентов с аневризмами головного мозга.) Но если пациент поступает в очень тяжелом состоянии, операцию откладывают до стабилизации. И тогда близкие пациента повторяют другое: «Почему вы его не оперируете, чего ждете?», «Какой у него прогноз?», «Шансов нет совсем?»
Остальных пациентов скорая помощь доставляет в состоянии средней тяжести, обычно с выраженной головной болью. Такие пациенты оперируются «с колес» – так быстро, насколько возможно, пока не случился второй разрыв, который будет, скорее всего, фатальным. Большую часть таких пациентов удается спасти, однако после операции 10–20 % умирают от развившихся осложнений.
Если все сложить: умершие до приезда скорой помощи, плюс умершие из-за тяжелого состояния, без операции, плюс умершие после операции, получается, что около 40 % пациентов не переживут разрыв аневризмы. Весьма грустный показатель. Да и вообще нейрохирургия в целом не веселая. Но об этом позже.
Теперь о частоте и причинах возникновения коварных красных бусинок.
Аневризма сосудов головного мозга встречается примерно у трех человек из ста. Это в России. В Японии этот показатель в два раза выше, да и вообще среди азиатов. Но и три человека из ста – немало. Конечно, не русская рулетка, где шанс застрелиться после первого выстрела при барабане в шесть пуль – 16,6 %, но и мы не лихие гусары, а обычные люди, поэтому опасаемся попасть даже в 3 %. А это вполне реально. Аневризма может оказаться у меня, пишущего эти сроки, или у вас, их читающих. Но сплюнем и постучим по дереву: пусть только не у нас. Пусть, как икота, аневризма будет у Федота из поговорки.
Не буду нагонять жути. У большинства пациентов аневризмы очень маленькие и не представляют угрозы. В среднем они разрываются с частотой 10 случаев на 100 000 населения в год. Значит, в России с населением 146 млн человек в течение года аневризмы разрываются примерно у 1460. Не так и много. Для примера, в 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях погибло в десять раз больше россиян – 14 500.
Но цифры и сравнения хороши, когда ты сторонний наблюдатель. А если у человека обнаруживается аневризма, ему уже не важно, что у 97 из 100 их нет, его заботит, что он попал в 3 % неудачников. И он спрашивает нейрохирурга: «Отчего у меня аневризма?», «Это врожденное?», «Мог в детстве удар по голове ее спровоцировать?», «Может, это связано с тем, что мы долго жили около алюминиевого завода?», «Наверное, это из-за стресса». Человеку всегда нужно знать причину его недуга, желательно понятную и единственную. Прежде чем довериться доктору и согласиться на лечение, тем более на операцию, пациент должен быть уверен, что врач знает, отчего «это произошло».
Обычно пациент рассуждает так: доктор знает, отчего случилась болезнь, поэтому сможет ее вылечить. Логика верная, но не во всех случаях. Иногда доктор может вылечить пациента, не имея четких представлений о причине болезни. Вполне возможно умело удалить опухоль мозга без подлинного представления о причине ее возникновения. Но это понятно для медиков, пациенты же верят в «непрерывность» знаний врачей: и причина болезни, и методы лечения находятся в прочной связке. Никто не захочет услышать: «Понятия не имею, отчего это у вас, но с удовольствием прооперирую».
Ну, а если мы порой и правда понятия не имеем?
Причин образования аневризм много: и врожденная предрасположенность, и некоторые заболевания, в том числе гипертоническая болезнь. Иногда аневризмы встречаются у детей, но чаще во взрослом состоянии. Разрываются также – когда «захотят», но пик приходится на 50–60 лет – прекрасный возраст, когда человек уже многого добился, еще трудоспособен, дети подросли, а у кого-то есть внуки. Живи и радуйся. Но у аневризмы другие планы.
Кроме непосредственных причин болезни, почти у каждой есть факторы риска. Обычно факторы риска способствуют более быстрому развитию болезни. У аневризм есть два доказанных фактора риска образования и разрыва: женский пол и курение. Бедные женщины – мало у них проблем, так еще и аневризмы образуются и разрываются чаще, чем у мужчин. Кстати, отказ от курения – профилактика не только рака легкого, но и формирования аневризм. С этих позиций лучше быть некурящим мужчиной, чем курящей женщиной. Все бы хорошо, но и у некурящих мужчин аневризмы рвутся ненамного реже. Почти как в известной шутке: разорвавшейся аневризме будет все равно, что вы уже два года не курите.
Разрываются аневризмы при разных обстоятельствах, нередко на фоне повышения артериального давления, в том числе после физической нагрузки. У одного нашего пациента аневризма разорвалась во время коитуса и вызвала интенсивную головную боль. Врачам известно, что существует разновидность головной боли – «сексуально обусловленная», часто возникающая во время оргазма. Она имеет свои причины, но в целом неопасна, от нее не умирают. Поэтому, когда пациент обратился на следующий день к врачу, ему так и сказали: «Посткоитальная головная боль, ничего страшного».
Но головная боль не проходила, и через пару дней человек самостоятельно выполнил МРТ головного мозга, где выявили разрыв аневризмы. Нейрохирурги успели ему помочь: выполнили трепанацию черепа и закрыли аневризму. Перед выпиской пациент зашел попрощаться и уточнил: «В следующий раз во время секса у меня больше ничего не порвется?» Доктора уверили, что опасности больше нет и он может заниматься сексом совершенно спокойно и с удовольствием.
Дальнейшая судьба пациента неизвестна, но можно предположить, что случившийся эпизод, когда он мог умереть, как Рафаэль, на женщине, при определенной мнительности приведет к развитию психогенной эректильной дисфункции. Ведь что бы там доктора ни говорили, пациенту всегда видней, и он знает, что, порвавшись раз, может порваться и второй. Страх перед Танатосом побеждает Эрос.
У некоторых спортсменов аневризма разрывается на тренировке или во время соревнований – к нам привозили пациентов из спортзалов и стадионов.
Однажды к нам поступил мальчик 14 лет с сильной головной болью. Острая боль развилась на тренировке по вольной борьбе. Тренер вызвал скорую помощь. Приехавший врач заподозрил разрыв аневризмы и доставил мальчика в инсультный центр. Там врачу сказали, чтобы он не выдумывал ни про какую аневризму, мало ли от чего у мальчика голова заболела, переутомился, наверное. Но врач скорой помощи стоял на своем:
– Не уйду, пока не примете и не сделаете томограмму.
– Да кто ты такой, чтоб нам указывать? Ты просто врач скорой помощи, а мы тут великие специалисты-неврологи и лучше тебя знаем, отчего у детей болит голова, – не прямо, но по смыслу так говорили доктора инсультного центра.
Но врач скорой помощи был непреклонен. Чтобы наконец решился вопрос и не затягивался конфликт, ребенку все же сделали компьютерную томографию, предвкушая, как посадят в лужу этого выскочку со скорой помощи. Но оконфузить доктора не вышло: томография показала массивное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы сонной артерии. Мальчика срочно перевели в сосудистый центр, где нейрохирурги выключили аневризму из кровотока и спасли ему жизнь. Но первично спас ему жизнь врач скорой помощи своими знаниями и настойчивостью. Я восхищаюсь и вдохновляюсь такими докторами.
Мэтры нейрохирургии в глубине черепа могут сшить сосуды диаметром в миллиметр нитью тоньше, чем волос. Изумительно, невероятно, мы говорим в таком случае – очень круто! Но это все же технический навык, и он достижим. А есть качества, которые не натренируешь у взрослого человека: сочувствие, ответственность, принципиальность. Они по большей части врожденные, и отчасти определяемые воспитанием.
Как мог поступить доктор скорой помощи, когда мальчика отказывались принимать? Как сделали бы некоторые другие, к сожалению. Он мог сказать: – Хорошо, под вашу ответственность, делайте запись, что у него нет разрыва аневризмы, и я уйду.
В таком случае судьба мальчика была бы трагична, он бы умер в ближайшее время от повторного разрыва. Но доктор не отступил. Сейчас его пациенту должно быть уже 20 лет, надеюсь, он жив и здоров. Немного обидно, что парень никогда не узнает про простого врача скорой помощи, который спас ему жизнь.
Но и без физической нагрузки и повышения артериального давления аневризмы разрываются не реже. А еще учеными выявлено, что аневризмы чаще разрываются зимой, чем летом, и преимущественно в утренние часы.
За время своей работы нейрохирургом я видел не менее тысячи пациентов с разрывами аневризм. Молодые и глубокие старики, мужчины и женщины, безработные и директора заводов. Все эти случаи оставляли во мне след. Не только как пациенты, которым я должен был оказать помощь, а как напоминание о том, как хрупка жизнь и как «внезапно смертен человек».
Здоровый, молодой, жизнерадостный, успешный.
Семья, друзья, работа, планы.
Жить, любить, творить.
Но в самом тонком месте аневризмы величиной в миллиметр уже образовалась дыра, и через нее хлынула кровь, и залила весь мозг, все мечты, весь мир.
Можно погибнуть в автодорожной аварии или утонуть в море во время отпуска. Но еще страшней, когда «бомбу замедленного действия», свою смерть, носишь в голове.
Просыпаешься, чистишь зубы, смотришься в зеркало, выдергиваешь отросший за ночь на носу волос. Разглядываешь свое лицо. Но видишь не дальше кожи. А судьба затаилась позади нее, за слоем жировой клетчатки, мышц, костей, в самом центре мозга. Ты ее не видишь. Как странно, нелепо, обидно: глаза могут видеть звезды, находящиеся в миллионах километров от нас, но не могут обернуться, посмотреть внутрь и увидеть аневризму, притаившуюся в десяти сантиметрах на сосудистой веточке.
Однажды мне приснился сон, что у меня разорвалась аневризма. Это был один из самых страшных кошмаров. Во сне я не помнил, что я нейрохирург, знаю, как их лечить и к кому обратиться за помощью. Я был в ужасе и проснулся с колотящимся сердцем. Утром у меня даже возникло желание сделать МРТ головного мозга и убедиться, что никаких аневризм в моей голове нет. А если есть? Как и все врачи, я не верю в здоровых, а только в недообследованных.
У одного профессора-нейрохирурга каждый день болела голова. Коллеги говорили: «Да сделайте уже МРТ!» На что он всегда отвечал: «Никогда! Не дай Бог еще чего найдут там». Когда-то мне это казалось беспечностью, а сейчас в этих словах сквозит какая-то мудрость. В общем, и я МРТ делать не стал.
Однажды мне пришла в голову мысль: а почему бы не жить с представлением о том, что у меня в голове действительно есть аневризма, способная разорваться в любую секунду. Это ведь вполне вероятно – риск не менее 3 %. Кроме того, существует ненулевая вероятность того, что я не допишу это предложение, и она разорвется.
Фу… дописал.
Мысль эта меня не страшит, ну, разве что умеренно, а больше вдохновляет и настраивает на философский взгляд на жизнь (привет Марку Аврелию и всем стоикам). Это уже не абстрактное «memento mori», а что-то конкретное и мне хорошо известное. И это значит, пока не разорвалась вероятно существующая в моей голове аневризма, нужно поторопиться и успеть:
– дописать книгу,
– сказать родным, что люблю их,
– воплотить планы и мечты,
– не наделать глупостей,
– попытаться помочь всем обратившимся,
– стать достойным человеком,
– и, наконец, выучить английский.
Пока не разорвалась аневризма.
Бойся бесстрашных
Медицина страшна, больница страшна, врачи страшны.
Знак медицины – красный крест. Красный – цвет крови. Крест – недвусмысленный символ.
Больница – место, где боль. А за каждой больницей – морг. Пациент, попав в больницу, знает, что выхода у него всегда два.
Врачи носят белый халат. Белый в медицине – цвет чистоты. Но для пациента белый – это цвет пустоты, холода, смерти. «Белый, как смерть».
Врачей боятся дети и взрослые. От легкого волнения до панического ужаса. К врачу как к палачу. Интересно, влияет ли это на выбор профессии врача? Неосознанное желание, чтобы тебя боялись?
Дебри, дебри…
Медики боятся врачей не меньше, а часто – больше обычных людей. Если пациенты часто испытывают страх из-за незнания, то медики – из-за избытка знаний. Старая врачебная шутка: «Я очень боюсь врачей, особенно своих однокурсников». Но эта шутка основана на реальных событиях. Вспоминаю некоторых из своих однокурсников, как они учились, как проводили свободное время, и понимаю, что совсем не хотел бы оказаться их пациентом. Пусть уж лучше лечат другие, про которых я ничего не знаю. Правда, иногда из слабых студентов получаются хорошие доктора.
Со мной на курсе учился парень, балансировавший все шесть лет между двойкой и тройкой. На шестом курсе одногруппники над ним подтрунивали:
– Ну что, определился – ты прокариот (одноклеточный) или эукариот (многоклеточный)?
Он всегда путался и неизменно отвечал:
– Погодите, ну это… прокариот!
Прошло время, и мой сокурсник стал уважаемым доктором с хорошими отзывами от пациентов. Но такое случается не со всеми прокариотами.
Если в целом врачей боятся умеренно, то перед хирургами пациенты испытывают настоящий трепет и страх. Потому что они делают больно. Потому что имеют в арсенале всякие режущие и колющие штуковины. А еще потому, что хирургия связана с нарушением границ приватности. Хирурги видят то, что скрыто даже от самого пациента.
Все мы имеем богатый внутренний мир, мечты, фантазии, мысли и чувства, но видим себя только снаружи. Любой взрослый человек, конечно же, знает, что внутри у него есть органы и даже, возможно, не ошибется, укажет, какие расположены справа, а какие слева. Но никто из нас собственные внутренние органы воочию не наблюдал, и не дай бог наблюдать!
А все же интересно, какое оно на самом деле, это тревожное сердце? Как выглядит многострадальная печень? Какого цвета и консистенции мой мозг, который где-то там, сверху, над глазами, в недоступной темноте. Ни мы, ни наши близкие и любимые люди этого не видели и не знают. А хирург, которого вы вчера увидели в первый раз в жизни, завтра возьмет скальпель, рассечет кожу – и пред ним откроются все ваши внутренние сокровища. Уже не операция, а какой-то сакральный акт.
Ко мне, как к нейрохирургу, ежедневно на консультацию приходят пациенты. У кого-то на МРТ обнаружили опухоль, у кого-то аневризму. Мужчины и женщины, пожилые и молодые, профессора и простые работяги, и всех их объединяет одно – страх. Кто-то откровенно бледен и едва не дрожит, кто-то хмур, кто-то для виду храбрится и даже шутит, но в целом напуганы все. Некоторые сознаются, что накануне приема не спали всю ночь.
Возможно, еще неделю назад они не знали, кто такой нейрохирург и чем он занимается. Не видели в жизни ни одного нейрохирурга, не пили с ним на брудершафт и не играли в футбол. И вдруг этот невероятный нейрохирург сидит напротив и рассказывает, что для удаления опухоли нужно сделать трепанацию, и показывает на макете черепа, как все это будет выглядеть. Кошмарный сон, не иначе.
Обычно я начинаю разговор с вопроса о том, что беспокоит пациента в данный момент, затем уточняю, с чего началось заболевание, какие у него или у ближайших родственников есть другие болезни или проблемы со здоровьем. Настает момент, когда я прошу пациента показать мне снимки (МРТ или компьютерную томографию). Иногда это распечатанные снимки, но в последнее время чаще приносят компакт-диск с записью. В обоих случаях в этот момент я разворачиваю кресло спинкой к пациенту: в случае снимков – чтобы их рассмотреть в свете окна, в случае диска – чтобы вставить его в дисковод и просмотреть на мониторе. А еще я отворачиваюсь от пристального и нетерпеливого взгляда пациента, иногда это мешает сосредоточиться.
В некоторых случаях достаточно мельком взглянуть на снимок, и все становится ясно. Это крайние варианты: либо все хорошо, либо очень плохо. В остальных случаях требуется некоторое время, чтобы все взвесить и принять верное решение. Но даже когда все ясно с первого взгляда, я не спешу разворачиваться обратно к пациенту. Особенно если прогноз неутешителен. Тут не может быть спешки, последующая сокрушительная информация требует уважительной подготовительной паузы.
Если после секундного взгляда на снимок доктор сразу выносит неутешительное заключение, пациент всегда расценит это как неуважение к своей личности и своему горю. Куда он торопится? Выпить кофе? Проверить почту? Поболтать с коллегой? Через несколько минут врач выйдет из своего кабинета таким же, как раньше, и займется другими пациентами и другими делами, а потом поедет домой и вечером с женой будет обсуждать предстоящий отпуск. А пациент выйдет из кабинета уже совсем в другой мир и в другую жизнь. В таких случаях тактичность, чуткость и милосердие становятся не менее важными, чем профессионализм врача.
Несколько минут я рассматриваю снимки и вдруг ощущаю, что стало очень тихо, ни единого звука. Я не вижу пациента, но знаю, что он сидит позади меня совсем неподвижно, боясь пошевелиться и потревожить мою задумчивость и сосредоточенность. Он ожидает вердикт, приговор, диагноз. Каждый день я встречаюсь с такой тишиной: тишиной тревоги, тишиной ожидания, тишиной неизвестности. Гнетущей тишиной. И чем она дольше, тем мрачнее.
Я разворачиваюсь к пациенту. Молниеносный взгляд, попытка по моему лицу и глазам узнать все раньше, чем я начну говорить.
– Я внимательно посмотрел ваши снимки и, к сожалению, должен заключить, что у вас злокачественная опухоль мозга, которая проросла важные структуры и не подлежит радикальному удалению.
– Опухоль неоперабельная?
– Полностью ее удалить невозможно. Попытка радикального удаления приведет к тяжелой инвалидизации и даже, возможно, к смерти. Но мы можем взять биопсию, чтобы уточнить ее гистологический характер, после чего направить вас на лучевую и химиотерапию.
– То есть вылечить это нельзя?
– В вашей ситуации на полное излечение рассчитывать нельзя. Мы рассматриваем, как с помощью комбинированного лечения продлить вам жизнь, при этом не ухудшив ее качество.
Обычно после этого возникает пауза, пациенту нужно время, чтобы принять услышанное. Еще минуту назад была надежда, и вдруг все рухнуло. Кто-то понимающе кивает головой, кто-то молчит, уставившись в одну точку, кто-то нервно стучит пальцами по столу. Некоторые начинают плакать – не только женщины. Когда плачут мужчины, становится как-то особенно тяжело, и немного стыдно, что являешься свидетелем их слабости. Но без осуждения. Какие вообще тут могут быть осуждения. Никто из нас не знает, как себя поведет в подобной ситуации.
Через некоторое время, совладав с собой, пациенты начинают задавать уточняющие вопросы:
– Сколько я могу еще прожить?
– А если поехать лечиться за границу?
– Есть какие-то другие способы лечения?
– Я буду испытывать боль?
Когда пациенты выходят из кабинета после подобного разговора, всегда выглядят растерянными, глаза затуманиваются, все их движения становятся медленными, плечи опускаются под давлением груза постигнутого. Они путают, в какую сторону открывается дверь, поворачивать налево или направо по коридору. Они забывают, на каком находятся этаже. Они забывают свои вещи у меня в кабинете. А вместе с забытыми вещами в кабинете остается их прошлая жизнь, ведь за дверями их ждет новый, не дивный мир. И в этот момент я для них не просто доктор, не только тот, кто будет стараться им помочь. В эти мрачные минуты я тот, кто принес плохую весть.
Я разворачиваюсь к пациенту. Молниеносный взгляд, попытка по моему лицу и глазам узнать все раньше, чем я начну говорить.
– Я посмотрел снимки, у вас все в порядке, никакой операции не потребуется.
Короткая, весьма короткая пауза. А потом улыбка. У некоторых слезы – от счастья. Кто-то облегченно выдыхает, кто-то говорит: «Слава Богу!» Жизнь продолжается. Солнце снова светит. Счастливейший день. В эти минуты для них я не просто доктор, и даже не нейрохирург, а тот, кто принес радостную весть. Ежедневно врачи, как когда-то почтальоны, разносят адресатам радостные и печальные вести.
Вспоминается страх из детства – ночной звонок в дверь. Кто там? Почтальон. Ночной почтальон, как правило, об одном. Выдает телеграмму и просит расписаться. Когда отец расписывается, я вижу, что у него дрожит рука. Никаких праздников и дней рождений в ближайшие дни нет, а значит, в телеграмме дурная весть. Текст телеграммы короток, но отец уже несколько раз пробегает по ней глазами и вдруг улыбается, и, значит, все обошлось. Старый друг будет проездом в нашем городе, о чем и извещает. И почтальон из зловещего тут же становится приятным и милым человеком.
Сейчас никто не посылает телеграмм. И почтальоны уже не страшны. А врачи все так же изо дня в день продолжают разносить хорошие и плохие вести своим пациентам. Ну как их не бояться?
А не хочется, чтобы боялись. Страх пациентов не делает нас могущественными или важными, а только отдаляет и мешает установить контакт.
Недавно я стал замечать, что испытываю особый душевный подъем от радости пациента, которому сказал, что операция не нужна и все с ним будет хорошо. Бывает, что пациент уже вышел из кабинета, а мне все радостно. И это может продлиться на весь день. Я ничего особого не сделал – просто посмотрел снимки и донес до пациента добрую весть. Такой огромный подарок, который мне не стоил особого труда. Мне даже показалось странным, что я меньше радуюсь хорошо выполненной операции, которая помогла пациенту или даже спасла ему жизнь. Странно? Да нет, все верно, все как нас учили: лучшая операция – та, которой удалось избежать.
Медицина страшна, больница страшна, врачи страшны? – Нет, не слышал об этом.
Теперь поговорим о нечастой, но существующей категории пациентов, которые не только не боятся врачей, но, наоборот, – очень охотно выискивают у себя симптомы разных заболеваний, жаждут быть обследованными и даже прооперированными.
Речь не о тревожных и ипохондричных людях, у которых где что кольнет, и они уже бегут обследоваться. Эти тоже боятся врачей, но еще больше они боятся за свое здоровье. Один страх перебарывает другой.
Есть особая категория пациентов, у которых объективно нет серьезных проблем со здоровьем и даже жалоб, но есть какое-то необъяснимое влечение к обследованиям, лечению, операции. Они не боятся врачей, напротив, хотят, чтобы врачи их лечили, и иногда даже искусственно вызывают у себя те или иные симптомы. Это уже рассматривается как патология и в медицине называется «синдром Мюнхгаузена».
За свою профессиональную жизнь хирурги не раз встречают таких пациентов. Они прямо лезут под нож, убеждая врача, насколько страдают от тех или иных симптомов, поэтому на их теле можно увидеть немало послеоперационных рубцов. На самом деле, бывает не так просто понять, что у пациента не телесная болезнь, а психическая.
Врач в недоумении: по снимкам есть небольшие изменения, но страдания пациента такие невыносимые, что никак не вяжутся с ними. Первая мысль – пациент является симулянтом и разыгрывает спектакль, имея какие-то скрытые цели. Но вопрос о симуляции отпадает сразу, когда речь заходит об операции. Любой симулянт на этом этапе дает задний ход. А эти «мюнхгаузены», напротив, с радостью воспринимают весть об операции, счастливы возможности прооперироваться.
Как недобро иногда совпадают звезды: пациент с «синдромом Мюнхгаузена» находит «своего хирурга», у которого излишне чешутся руки. Хорошим это заканчивается редко.
Закон хирургии гласит: хирург должен бояться пациентов, которые не боятся операции. Страх – это адекватная реакция на хирургию. И с этой понятной реакцией врачу и пациенту нужно работать, чтобы понизить ее от первичного ужаса до легкого волнения. Если же после известия о необходимости операции пациент сияет от радости и счастья, то хирургу не стоит торопиться радоваться вместе с ним – реакция пациента неадекватна ситуации, и нужно еще раз хорошенько подумать: правильная ли выбрана тактика и не «мюнхгаузен» ли перед вами?