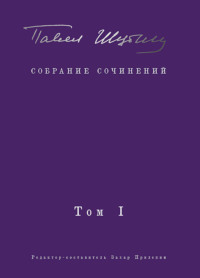Loe raamatut: «Собрание сочинений. Том I. Поэтические сборники»
© ООО "Лира", 2025
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Полмига Павла Шубина
Захар Прилепин
В его случае так можно сказать безо всяких натяжек: Шубин – поэт сталинской эпохи. Её порождение и её отражение.
Когда случилась революция, ему было три года, когда умер Ленин – 9 лет, а оттепели Шубин не застал.
Как настоящий поэт Шубин начался в 1933 году, и в тот же год Европа всерьёз захворала фашизмом. Дар его достиг пика в годы Великой Отечественной.
Поэтический его, в два неполных десятилетия, путь – это осмысление событий Гражданской, предчувствия новых сражений, сама война и, наконец, – память о войне.
Тема войны, конечно же, – не единственная.
Была тема детства и тема малой родины. Любовная тема. Тема странничества и великого строительства. И, вмещающая всё перечисленное, тема абсолютной любви к Отечеству.
Однако война в самом конкретном смысле неизменно становилась поперёк всякой темы, любой мелодии.
Это поколение, входя в жизнь, знало о грядущей войне наверняка, готовилось к ней и – во многом благодаря этому – преодолело напасть.
Всё равно нас не укараулить —
От волны, от пропасти, от пули…
(«Век», 7 июня 1936)
Более того, в кровавое и кромешное будущее то поколение вглядывалось жадно, как бы призывая грозу на себя. За что и расплатилось сполна. И тем не менее:
Я хочу себе такую долю,
Чтобы до последних дней боец,
В час, когда меня, как колос в поле,
Встречный ветер срежет под конец, —
Вспомнить горы в голубом покое,
Холод неизведанных высот,
Тропы, мной исхоженные, коих
Никогда никто не перечтёт.
(«Жадность», Николаю Островскому, 1937)
Хочешь себе такой доли – получишь.
Сформировавшийся целиком в советской, сталинской эпохе, Шубин был по-настоящему свободным творцом. До самых последних лет – никакого ощущения скованности, приверженности унизительным догмам, сдавленности голоса.
Напротив: наглядно независимый. Умеющий улыбаться; даже дерзить. Умеющий влюбляться и отстаивать любовь.
В стихах своих он был равен себе – человеку.
Каким запомнили Шубина?
Красивый: такой русской, простонародной, чуть хулиганистой красотой – хотя на иных фотографиях красота эта кажется почти декадентской.
Крепкий, широкоплечий. Мемуаристы настойчиво отмечают его явное, зримое, настойчивое телесное здоровье и буквально «косую сажень в плечах», которую сохранившиеся шубинские фотографии, увы, в полной мере не передают.
Походка, как подметит один его фронтовой товарищ, «с кавалерийской раскачкой».
И «лермонтовские» (многократно отмеченные мемуаристами) глаза – с печальной поволокой.
Надо сказать, что и по лермонтовским портретам часто создаётся ложное ощущение почти субтильности его фигуры. В то время как современники вспоминали, что Лермонтов был очень крепок и плечист: даже не вполне естественно для своего маленького роста.
Шубин был повыше Лермонтова, но это вот сочетание – лермонтовские глаза и наглядная, удивительная физическая сила – внешне этих двух поэтов роднит.
О внутреннем, поэтическом родстве мы скажем позже; пока же дорисуем портрет Шубина.
Смуглокожий. Сероглазый. Голос приятный, грудной.
Поэт Ярослав Смеляков в шутку (но и всерьёз) характеризовал любимого товарища Павла так: «Роковой красавец, брюнет».
Снимайся Шубин в кино – он был бы всенародной звездой. Располагающий к себе. Разговорчивый, весёлый, выпивоха. Долгие годы никогда не болевший даже сезонными простудами.
Несуетный, умевший себя держать.
«Нежный и снисходительный ко всему, что не касалось поэзии», – так о нём говорила последняя любимая женщина, жена Галя.
В поэзии при иных обстоятельствах он мог бы претендовать на звание первого поэта страны: на незримую, будто самим мирозданием утверждаемую должность Блока, Есенина, Маяковского, Твардовского… А почему так не случилось, мы, быть может, поймём, дойдя до финала.
Павел Николаевич Шубин родился 14 марта (по старому стилю – 27 февраля) 1914 года. В год столетия со дня рождения Лермонтова. Место рождения: Орловская губерния (сейчас – Липецкая область), Елецкий уезд, село Чернава (оно же – Чернавск).
О чём сказать? Как тёмное виденье,
На будущую Марну, на Стоход —
По всем полям прошёл мой год рожденья,
Тяжёлый год, четырнадцатый год.
(«Слово в защиту», 3 мая 1935)
Шубин имеет в виду два сражения Первой мировой: Марнское – между германскими войсками с одной стороны и войсками Великобритании и Франции с другой, состоявшееся в сентябре 1914 года, на реке Марне, и сражение на Стоходе – бои на подступах к Ковелю между Особой армией генерала Владимира Безобразова и австро-немецкими войсками в июле 1916-го, когда русские полки вброд под шквальным огнем противника форсировали болотистые рукава реки Стохода.
И по пятам – глухие дни, в них – слёзы,
Седая мать, холодный едкий дым,
Протезы брата, выбитая озимь,
Голодный страх над чугуном пустым.
И кто-то сгибший в пушечных колёсах,
Сто панихид в селе и бабий вой…
Глухие дни. Три года надо сбросить —
Их не было у детства моего.
(«Слово в защиту», 3 мая 1935)
Река Большая Чернава, на которой стоит родовое село Шубина, – левый приток реки Сосны. Река Сосна – правый приток Дона.
Я ходил речонкою Чернавкой —
Вся она в купавах и куге —
С жёрдочкой, проложенною навкось,
С тишью, красноватой, как багет.
(«Почему я думаю про это…», 11 августа 1934)
И хотя это верховья Дона – казачья тема для Шубина (не казака по происхождению) является одной из ключевых.
Сам он к роду казачьему не принадлежал, но на южных рубежах России встречаются такие, как у него, замечательно красивые мужские лица, словно бы с какой-то давней южной примесью в крови. Генеалогией, впрочем, уже неразличимые, потому что со всех сторон Шубин по роду был русский крестьянин – внук крестьян, правнук крестьян.
Если всё-таки копнуть на самую глубину, то обнаружится вот что.
Несмотря на то что село Чернава относилось к Елецкому уезду, старинный город Ливны, что в Орловской губернии, к Чернаве располагается ближе Ельца.
В перечне служилых ливенских людей 1682 года присутствует городовой сын боярский Самойла Климов сын Шубин.
Ещё в XVI веке в Ливнах жили всего несколько сотен семей; и почти наверняка этот Шубин – непосредственный предок поэта.
Поясним, что дети боярские – особое сословие, существовавшее с XIV до XVIII века. Боярские дети несли сторожевую службу по охране русских границ: а в те времена шубинская малая родина была самой что ни на есть окраиной. Командиры засечной стражи и сторожевых разъездов набирались, как правило, из детей боярских. Однако надеяться на придворную карьеру они не могли. Сословие детей боярских сложилось как из числа в самом прямом смысле потомков бояр, так и из числа боярских слуг, а также казаков. Имелась ли у Шубина боярская кровь – вопрос, в сущности, неважный: с XVII века она поистратилась, омужичилась.
Однако более чем вероятно, что потомки того Шубина были воинами и участвовали в походах.
Отец Павла – Николай Григорьевич Шубин – о тех временах не помнил и не знал. Он трудился слесарем и токарем на местной чернавской писчебумажной фабрике.
Семья жила в маленьком домике на берегу реки.
Будущий поэт был младшим, одиннадцатым, ребёнком в семье. Четверо детей к 1914 году умерло, шесть оставалось, а Павел – седьмой. Имелись старший брат Андрей и сестры: Анастасия, Клавдия, Анна, Елена, Софья.
В соседских рассказах упоминается также, что отец был кузнецом, что не вполне точно: кузни у них не было, но, видимо, кузнечным ремеслом в какой-то степени Николай Григорьевич владел.
Кроме того, со ссылкой на стихи Шубина утверждается, что отец был ещё и художником-самоучкой: как минимум печь в их доме отец расписал витиеватыми узорами. Ну, возможно, хотя больше нигде и никак эти данные его биографии не зафиксированы.
Что известно доподлинно, так это страсть отца к чтению. Шубины имели в доме свою собственную (хоть и не слишком большую) библиотеку, что для крестьянства начала века являлось фактом исключительным.
Первая книга, согласно семейной легенде, которую отец прочитал Павлу, была «Жизнь животных» Альфреда Брема.
Отца селяне запомнили как человека достойного и… атеиста. В церковь не ходил и детей к тому не приучал.
Отцовский атеизм на заре XX века являлся скорей приметой ищущей души и критичного рассудка. В разлад с казённой церковью вошли тогда многие русские люди, чьими именами нация горда по сей день, – от Льва Толстого и Максима Горького до Александра Блока и Сергея Есенина: что ж тут про шубинского отца говорить.
Чернавские жители помнили: местный батюшка, у которого Николай Григорьевич арендовал дом и огород, часто спорил с ним – притом находя в Шубине желанного собеседника и явно уважая этого вольнодумца. Верил, не верил – а поговорить с ним было о чём, да и детей Шубины воспитывали достойных. Старшие дочери (Анастасия и Клавдия) отучились на учительниц и уже преподавали.
Атеизм шубинского отца вызывает удивление скорей в силу некоторых иных причин.
В том же селе Чернава, в семье местного настоятеля родился в 1815 году богослов, епископ Русской православной церкви, прославленный в лике святителей Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров) – один из самых почитаемых в России религиозных мыслителей. В 1872 году в Вышенской пустыни Тамбовской епархии он ушёл в затвор и пребывал в нём до своей смерти в 1894 году.
То есть чернавский батюшка унаследовал тот же приход, в котором служил когда-то отец самого Феофана Затворника. И будущий святой бегал когда-то по тем же улочкам и в той же речке купался, что и будущий советский поэт Павел Шубин.
Более того, в соседнем Ельце в 1800 году родился другой знаменитейший проповедник, епископ Православной церкви, архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов), позднее причисленный к лику местночтимых святых.
А в недалёких Ливнах в 1871 году родился ещё один крупнейший русский богослов, православный священник Сергей (Сергий) Николаевич Булгаков, к моменту рождения Павла Шубина уже известный, в том числе, например, благодаря такой работе, как «О религии Льва Толстого».
Тем не менее, как мы видим, «гений места» никак не сказался ни на старшем Шубине, ни на его сыне, советском поэте: сколько в его стихах ни ищи – никакой, даже мимолётной, связи с трудами Феофана Затворника, архиепископа Иннокентия и Сергея Булгакова там не обнаружишь. Напротив, от отца он унаследовал иное:
И проклял я курные клетки,
И темь, где в вековую грусть
Мои неграмотные предки
Псалтырь учили наизусть…
(«Так входим в жизнь», 19 августа 1934)
С другой стороны, и святых, и религиозных мыслителей, и поэтов единила сама русская земля. Шубинское отношение к земле вполне можно определить как религиозное:
Санная дорога до Чернавска.
Вьётся,
Вьётся снежная пыльца;
Свист саней от самого Ельца,
Ветер – у лица. И – даль. И пляска
Тонкого поддужного кольца…
(«Санная дорога до Чернавска…»,23 декабря 1941)
Те же картины на той же дороге видели в своё время и Феофан, и Иннокентий, и Сергий.
А в снегах – без края, без конца —
Древняя, дремучая побаска,
Всё звенит, всё бредит детской лаской,
Лепетом младенца-бубенца;
До зари вечерней опояска
Где-то там, у отчего крыльца.
Дальнозоркой памятью увижу
За сто верст отсюда на закат
Низкую соломенную крышу,
Вровень с ней – сугробы, а повыше —
Дым над черепичною трубою:
Башенкой белёсо-голубою
В небо он уходит, языкат…
………………………………
Родина! В подробностях простых
Для меня открылась ты однажды,
И тебе я внял кровинкой каждой
И навек запомнил, словно стих.
(«Санная дорога до Чернавска…»,23 декабря 1941)
И видя ту зимнюю дорогу, и слыша зимний ветер у лица, и Феофан, и Иннокентий, и Сергий, быть может, испытывали те же самые, что здесь описаны, чувства, для которых просто не нашли столь же точных и сияющих слов, – да и не искали: предназначение их было иным.
Но если долго ехать по этой зимней дороге, вглядываясь в зимнее небо, можно однажды догадаться, что молитвы и этих священнослужителей, и святых, и стихи этого маловера были на самом деле об одном и том же. О любви, переполняющей человека.
Мать Павла Шубина звали Ольга Андриановна.
Она была неграмотной, но при том помнила наизусть не только народные, казачьи, малороссийские песни, но и классические стихи русских поэтов. Причём, помимо хрестоматийных Пушкина и Лермонтова, она знала живых классиков – Блока и Есенина.
Слышала – и на слух запоминала.
Удивительная, безразмерная память поэта Шубина, о которой мы не раз ещё вспомним, унаследована от матери. И его выносливость, его работоспособность – тоже.
Соседка, А.М. Подколзина, вспоминает: «Ольга Андриановна была очень трудолюбивой женщиной, никогда не знающей усталости. Она была искусной ткачихой, великолепно плела кружева. Она работала беспрестанно, даже в праздники». Время от времени, когда беременность позволяла (их в ее жизни было одиннадцать), мать трудилась на той же фабрике, что и отец Шубина, браковщицей.
Крестьянского хозяйства у Шубиных не было.
Гражданская война ту местность не миновала: в 1919 году кавалерийские части генерал-лейтенанта Константина Константиновича Мамонтова заняли Чернаву. Некоторое время жили под белыми – хотя пятилетний Павел едва ли сохранил с тех пор хоть сколько-нибудь осознанные воспоминания.
Рос, как и все сельские мальчишки в ту пору.
Одежду донашивал за старшими. Разница со старшим братом была слишком большая, а дальше шли сёстры, так что всё на маленького Пашку приходилось перешивать. Но это если у матери руки доходили: в младенчестве бегал в девчачьих распашонках.
Рассказывал потом, что в день, когда надел первые в своей жизни штаны – с лямкой через плечо, – горд был до невозможности.
Было ему в ту пору лет шесть, и, раз уж теперь на нём штаны, пацанёнок решил подтвердить мужскую свою природу, забравшись на сельскую колокольню. На самый верх. Естественно, безо всяких верёвок.
Мальчик подверг себя очевидной смертельной опасности.
Все селяне собрались, крестясь и ожидая, что младший Николая Григорьевича сынишка рухнет – и убьётся.
Но он не сорвался, хотя с какой-то минуты почувствовал неладное, и спускаться ему было, пожалуй, даже страшней, чем забираться.
Ожидания оправдались: дома отец его нещадно выпорол, что, вообще говоря, в доме Шубиных практиковалось нечасто.
В те же шесть лет он самовольно, на попутной подводе, что твой Ломоносов, сбежал учиться. В неблизкое, но той же губернии село Никольское, где школьными преподавателями трудились сёстры.
Мальчишку вернули домой, но он упёрся: отпустите учиться, а то опять убегу.
Отец махнул рукой: ладно, мол, учись, раз ты такой настырный.
В школе стали проверять, а он программу первого класса уже знает назубок.
Так младший Шубин пошёл сразу во второй класс школы. В шесть лет!
Учился там с 1920 по 1924 год.
Одноклассница вспоминала: «Лицом своим он скорее был похож на девочку. А по его открытому и светлому взгляду казалось, что всё для него ясно и понятно. Он пришёл уже умеючи хорошо читать и писать. Из нас тогда никто так не читал, как он: очень быстро и чётко, совсем как взрослый человек. Был он сообразительнее и умнее нас: умел хорошо и быстро решать задачи. Помню, что он сидел впереди, на первой парте, так как был меньше нас, потому что был моложе всех».
То есть весь класс был его на два-три года старше, но Шубин всё равно был первым учеником по всем предметам.
Далее из воспоминаний одноклассницы: «Павел любил книги: он приносил их в класс, читал на переменах и давал нам читать».
Вообще его могли бы обижать, такого мелкого, и к тому же – вечно читающего книжки. Однако ничего такого одноклассники не припоминают.
Объяснение тому на самом деле простое: он был не только самый умный в классе, но и самый сильный.
Из начальной Павел был переведён в среднюю семилетнюю школу в город Орёл, это 170 километров от села Чернава. Совсем далеко от дома! Выживал теперь самостоятельно. Родители навещали редко. Домой – только на каникулы.
Вспоминают: на любых спортивных соревнованиях он – в числе лучших, если не лучший. Тогда были в моде физкультурные пирамиды – он неизменно в центре, а не на самом верху, потому что у этого ещё мелкого пацана – железные руки.
Рассказывают соседи: «Однажды заспорили братья Чичурины с Павлом о том, кто из них самый сильный. Какие только выкрутасы не придумывали братья, а Шубин на это только сказал: “А я к вашему дому огромный голыш прикачу с речки!..”»
На реке лежал тот самый камень, который и взрослые парни не могли сдвинуть. Павла засмеяли.
Утром огромный камень лежал возле дома братьев Чичуриных. Как этот камень туда попал – бог весть.
В городки и в крокет он играл тоже лучше всех ребят на селе.
Периодически встречаются упоминания, что в юности поэт беспризорничал. Легенду эту он запустил сам, и кто-то принял стихотворную шубинскую мифологию на веру.
Впрочем, настоящих малолетних бродяг он повидал немало – это было в те годы неизбежным. Само его детство совпало с лавинообразным ростом беспризорности, охватившей Россию после Первой мировой и Гражданской войн, а также после эпидемии голода 1921–1922 годов, случившейся на территории по меньшей мере 30 губерний с населением до 90 миллионов человек. На первые десять лет жизни Шубина пришлись две страшные войны и один мор. Отсюда в стихах:
Я вспомню всё: ночлежки и приюты,
Мякинный хлеб, приво́ды и моих
Товарищей – раздетых и разутых,
Изломанных в притонах воровских;
Я вспомню всё: тифозные вокзалы
И пожелтевший протокольный лист —
Где слово «малолетний» не смывало
Проклятого клейма «рецидивист».
(«Слово в защиту», 3 мая 1935)
Всё это было социальной географией его детства и самостоятельного проживания в Орле в пору ученичества: явно драматизируя, он всё равно не слишком выдумывал. Даже если описанное коснулось его не в полной мере, это происходило рядом, вокруг.
Как минимум в форме коротких побегов и мальчишеских, лихой компанией, загулов на несколько дней он подобный опыт имел. Для чуткого и внимательного сердца будущего поэта подобных впечатлений оказалось достаточно.
И отмечаемая современниками дерзостная смелость Шубина, и даже, быть может, склонность его к розыгрышам – наследство тех лет.
Детство – это кони и повозки,
Десять цинков стреляных патронов,
Заменивших бабки и игрушки;
Облачка шрапнелей по-над Доном.
Это берег одноцветный, плоский,
Свежие окопы, ругань, розги,
Голод, шлях и, наконец, теплушки
И асфальт заплёванных перронов.
Это выучка у хитрованцев
Воровать спокойно и без риска.
И ещё – чужой язык жаргона,
Почему-то ставший самым близким;
Потный страх от первых операций
Над вещами по чужим вагонам,
Осторожность,
Чтоб в конце концов,
На ходу под насыпь оборваться
И лежать за дальним перегоном
С тёмным запрокинутым лицом.
Вот и всё здесь, многословья кроме.
С первою любовью по соседству
Юность начинается в детдоме.
И за нею – тенью по следам —
Ненависть и злоба против детства —
Тяжкая.
Большая.
Навсегда.
(«Всё детство», декабрь 1935)
Строго говоря, жизненная реальность перечисленных в этих стихах атрибутов детства спорна: всё-таки общежитие при школе – не детдом. Но здесь можно сослаться на то, что слова эти произносит лирический герой, который не обязан быть идентичен автору.
Говоря о малой родине, Шубин будет в своих стихах упоминать в первую очередь Орёл.
Ока, разогнавшись, ударит о ряжи,
Но поезд пройдёт по мосту невредим,
И снова орловская родина ляжет
Развёрнутым платом за следом моим.
(«Возвращение», 29 декабря 1934)
Или вспомним ещё целое признание в любви всё тому же городу, интонационно, кстати, противоположное стихам о ненавистном детстве:
Городок – он о́тдал нашей силе
Всё, что стало на ветру грубей:
Рыбоводы пескарей ловили,
Лётчики гоняли голубей.
И от пустырей его просторных
В мир – поющий, выпуклый, цветной —
Сто дорог легло прямых и торных
Для мальчишек с улицы одной.
Но и всё измерив новой мерой,
Не отдам тебя во власть годов,
Первая моя любовь и вера,
Светлый город яровых садов!
(«Орёл», 1936)
Впрочем, упоминая как малую родину и Липецк, Шубин снова говорит о погубленном детстве:
Чтоб садов твоих надречных свежесть
Здесь не увядала никогда,
Чтобы шли по синему безбрежью
С яровой пшеницей поезда,
Чтобы там, где навсегда бездомным
Сгибло детство горькое моё,
Выносили липецкие домны
Золотое, тяжкое литьё.
(«Кажется, и двух-то слов не скажешь…»,6 апреля 1935)
Поэт – не бухгалтерская книга, он имеет право на непоследовательность и противоречивость.
И с этого места – чуть подробнее.
За год до окончания школы, в 1927 году, 13-летний, рано возмужавший Павел Шубин на летние каникулы не отправляется домой, а совершает путешествие с целью, судя по всему, подзаработать.
Фабрика, на которой работали отец и время от времени мать, была закрыта ещё в 1919 году, родители получили землю – но едва сводили концы с концами.
В автобиографии, написанной 5 ноября 1939 года, Шубин коротко сообщает: «Самостоятельно начал работать в 1928 г. Работал грузчиком в порту до 1929».
В каком именно порту, не уточняет. В Орловской губернии никакого порта не было.
11 сентября 1941 года, заполняя так называемый личный листок по учёту кадров, Шубин, отвечая на вопрос «Был ли за границей», пишет «да». На вопрос «В какой стране (указать город, место, цель поездки)», отвечает: «В качестве моряка был во многих портах Европы, Америки, а также Китая и Японии. Всё это в период с 1927 по 192…» – последняя цифра в анкете переправлена до неузнаваемости: не поймёшь, 8 там или 9.
На следующей странице уточняется, где именно он работал: «город Одесса. Одесская пароходная контора», а следом – кем: «юнга, потом матрос». Далее он пишет, что работал в Одесской конторе до 1930 года.
Это, сразу скажем, неправда.
Правдой, однако, могло быть то, что он возвращался в Одессу в летние каникулы 1928 и 1929 года.
В автобиографии, написанной 15 ноября 1943 года, Шубин снова сообщал: «Был воспитанником судового комитета парохода Одесской конторы “Дзержинский”, на котором 4 года плавал».
Про четыре года Шубин снова преувеличивал, но Одесса была в тот момент под немцами, и отправить запрос в контору «Дзержинского» возможности не имелось.
Тем не менее настойчивость, с которой Шубин говорил об этом своём опыте, позволяет предположить, что он действительно был в Одессе, действительно работал там грузчиком и, вероятно, юнгой, совершив в этом качестве некоторое количество плаваний. Но до Китая и Америки он точно бы не доплыл – ему ж в школу возвращаться.
Косвенно факт плаваний Шубина подтверждает тот факт, что он хорошо владел английским и немецким и более-менее мог изъясняться на французском. Такой вот орловский крестьянин из многодетной семьи, проведший юность, в сущности, без родительского пригляда.
Достоверно известно другое: в 1929 году, пятнадцатилетним, Павел переезжает в Ленинград, чтобы продолжить учёбу.
В Ленинграде уже обжилась вышедшая замуж старшая сестра Анна, у неё он поначалу и поселился.
Шубин поступает в ФЗУ (школу фабрично-заводского ученичества) металлургического завода им. Сталина. Муж сестры Анны сразу же устраивает Павла на этот завод. Шубин пошёл по стопам отца – начал трудиться слесарем. Работа у него ладится – вскоре он становится ударником. Будущий поэт с лермонтовскими глазами был способен к мужицкой работе.
Павел добросовестно проучится и проработает на заводе с 1929 по 1931 год.
Как обычно, он много читает и пробует писать стихи.
Любимым писателем пошедшего в люди Шубина был в те годы не, как можно было бы предположить, Максим Горький, а не самый знаменитый – Александр Грин.
В 1930-м, шестнадцатилетним, Павел Шубин отправился в Крым – познакомиться с Грином, показать ему свои стихи.
Грин жил в Старом Крыму – это город в восточной части полуострова.
Апокриф гласит, что Грин Шубина принял, стихи прочитал и посоветовал юноше получить хорошее образование.
Никаких других свидетельств о том путешествии нет. Даже в шубинских стихах никаких подробностей той крымской поездки не найти. Всеволод Азаров, шубинский товарищ в 1930-х годах, вспоминал: «Он был великим выдумщиком. Мыс Горна, мыс Доброй Надежды, где он якобы проходил со своим кораблём, повторялись в его рассказах часто».
Реакция была самой разной – от «Да ладно тебе, Пашка, заливаешь ты!» до попытки поймать его на неточностях, раскусить, но всякий раз выяснялось, что Шубин действительно хорошо знаком с материалом.
Обладавший отличной памятью и прочитавший всё, что только возможно о тех или иных путешествиях, он держал в голове огромный набор фактов, деталей, заставлявших уняться даже самых суровых скептиков: может, и правда ходил в далёкие плавания? Вон какой крепкий, загорелый, походка враскачку – как у бывалого моряка; а глаза какие честные.
На фоне повествований о посещении мыса Доброй Надежды упоминание про краткий визит к Грину кажется вполне невинным, тем более что Шубин будет про ту встречу время от времени вспоминать до самого конца жизни, причём в разговорах с самыми близкими людьми.
Возьмём на веру: был, виделся, получил напутствие. И решил учиться литературе.
В 1932 году Шубин приходит в литературную группу при ленинградском журнале «Резец».
Несмотря на своё нарочито пролетарское название, это было литературно-художественное, весьма достойное, два раза в месяц выходившее издание со вполне себе весомой по тем временам молодой и деятельной редколлегией. Редакторствовал в том 1932-м году в «Резце» 28-летний критик Анатолий Горелов, в редколлегию входили знаменитый тогда писатель Юрий Либединский и Пётр Чагин – ценитель литературы и партийный деятель, в своё время опекавший Есенина.
Литгруппа «Резец» состояла примерно из сорока человек и включала прозаическую, поэтическую, критическую секции и киносекцию. В Ленинградской ассоциации пролетарских писателей «Резец» был представлен своей группой.
Литгруппа эта могла похвастаться тем, что выпустила в жизнь замечательного поэта Александра Прокофьева. В 1931 году у того вышла первая поэтическая книга. Участник Гражданской и бывший сотрудник ВЧК-ОГПУ, Прокофьев вскоре займёт одну из ведущих позиций в советской поэзии.
Наряду с Шубиным занимались в «Резце» ещё два поэта, которые получат определённую известность. Бронислав Кежун (ровесник Шубина, тоже с 1914 года, родом – петроградский, из поляков) и Борис Костров (на два года старше, с 1912-го и опять же петроградец). Все они попадут на Великую Отечественную. Кежун проживёт долгую жизнь, выпустит десятки поэтических книг; Костров погибнет в марте 1945-го, меньше чем за месяц до победы, успев издать одну книгу стихов.
Руководил группой литературовед Валерий Друзин – впоследствии профессор и большой литературный начальник.
Поэтическое мастерство в «Резце» преподавал Михаил Троицкий – 1904 года рождения, петроградец, автор на тот момент шести сборников стихов, переводчик; основной темой его стихов была армейская служба и предстоящая война. Троицкий окажет на Шубина большое влияние.
В том же году у Шубина получаются первые настоящие стихи. Что характерно – о путешествии во Владивосток.
Будто уж если ветер не хлёсткий
И заводские будни просты, —
Так далеко я от владивостокской
Необычайной двадцатой версты.
А не нынче ли лёгкой походкой
Через вечер и тень пронесло
Круторёбрые абрисы лодки
Просолённое морем весло.
И растаяла звёздная высыпь
С тихим шумом расколотых льдин,
Натолкнувшись волною на пристань,
Охранявшую мыс Басаргин.
(«Эскиз», 1932)
Голос поэта оживал, пробуждался.
Можно вообразить себе его радость, его счастье: я умею! Бродя по ленинградским улицам, шептал свои стихи, пьянея от слов, которые ещё вчера были чужими, а сегодня стали – его.
Жил Шубин по адресу: Полюстровская набережная (сейчас Свердловская) – через Неву от Смольного – дом 25, строение 2, квартира 41. Маршруты его прогулок – в самом центре, вдоль Невы.
«Эскиз» Павла Шубина был опубликован в 14-м номере журнала «Резец» за 1933 год.
Это первые его, но не последние стихи о Владивостоке.
Владивосток в шубинской поэзии станет главным соперником Ленинграда и оставит далеко позади родной Орёл.
Уроженец Владивостока, современный писатель Василий Авченко подметил в шубинских стихах несколько ошибок, которые мог бы разглядеть только коренной житель.
В своей работе, посвящённой Шубину, Авченко пишет: «Вызывают недоумение “фиорды” – никаких фиордов и близко нет, “губа” – во Владивостоке нет заливов, именуемых губой, а также то обстоятельство, что до Русского острова – “верных полста” вёрст (ширина пролива Босфор-Восточный, отделяющего город от Русского, – всего около километра)».
Далекоидущих выводов Авченко тактично не делает: может, был, Шубин во Владивостоке в 1932 году, а может, и не был.
И здесь снова, как и в случае с мысом Доброй Надежды, возникают вопросы.
Может, он и Владивосток придумал?
Молодой, влюблённый в прозу Грина Шубин мог считать проблемой отсутствие романтической фактуры в его поэзии. Талант, как выяснилось, имеется, но не про Чернаву же всё время писать.
Газета «Молодой рабочий» в том же 1933 году дала любопытную справку: «Шубин Павел – член литгруппы “Резец”. Родился в 1911 г. Комсомолец (бывший беспризорный). Печатается с 1933 года».
Информация эта, во-первых, явно предоставлена самим Шубиным, а во-вторых, она, конечно же, не верна.
«Бывший беспризорный», родившийся, как мы помним, в 1914 году, накинул себе три года (тем более что стихи, процитированные нами выше про «тяжёлый год, четырнадцатый год» своего рождения, Шубин ещё к тому времени не написал).
Зачем ему было нужно увеличивать свой возраст?
В эти три года помещалось всё то, что ему было необходимо для достойного поэтического старта. Если ему всего 19 (как и было на самом деле) – и к этому времени ухитрился закончить школу, побывать в Одессе, отучиться в ФЗУ, следом поступить на вечернее отделение конструкторского техникума им. Калинина, одновременно став ударником на заводе, – когда бы он успел всерьёз побеспризорничать, походить по морю, а после ещё и во Владивосток съездить? Причём съездить до того, как он пришёл в литературную группу «Резец», потому что с тех пор, как он там занимался, Шубин вроде бы никуда надолго не уезжал.
Въедливые наблюдатели, узнав, что он родился в 1914 году, сразу бы сосчитали: Паша, в 1920 году тебе было шесть лет, в 1922 – восемь, в 1924 – десять, а дальше началась такая активная борьба за бездомных детей, что за несколько лет проблему беспризорности свели на нет.
В те годы люди подобные вещи считывали легко, и Шубин тоже про это знал. «Где же прячется твоя беспризорная биография?» – спросили бы строгие товарищи, недобро ухмыляясь.