Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена политбюро ЦК КПСС
Tekst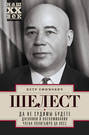


Mine üle audioraamatule
- Maht: 900 lk.
- Žanr: Biograafiad ja memuaarid, Lähiajalugu
Откровенно говоря, 75–80 % моего рабочего времени уходило на вопросы сельского хозяйства, надо было найти формы и методы поднятия трудовой, производственной дисциплины среди работников сельского хозяйства. Без поднятия партийной, государственной дисциплины среди руководителей районов, областных звеньев, специалистов сельского хозяйства, без поднятия общей дисциплины и ответственности за порученное дело дальше двигаться было невозможно. Поэтому часто приходилось выступления, обязательства, заверения по срокам исполнения стенографировать, записывать на магнитную пленку, а затем при проверке сроков зачитывать стенограмму и прослушивать голос оратора, дававшего обещания. Это кое на кого подействовало довольно отрезвляюще.
Чтобы коренным образом решить вопросы развития сельского хозяйства, надо было вложить немало средств, времени, а далеко не все зависело от руководства области. И все же мы не отступали от намеченной цели – вывести Киевскую область в число передовых областей республики по производству сельскохозяйственной продукции.
Промышленными предприятиями было широко организовано реальное, практическое шефство над колхозами и совхозами. Ремонт тракторов, сельхозмашин, строительство животноводческих ферм и их минимальная механизация, переброска механизаторов и техники из города на село, строительство навозохранилищ – все это делалось, как правило, силами шефов и из их материала и часто за их средства. Материальная заинтересованность колхозника была самой трудной задачей. Ведь его можно было заинтересовать только натуральной оплатой – выдачей ему зерна и продуктов животноводства, все это было на строгом государственном учете. Зерно учитывалось еще в биологическом виде, строгий контроль был за поголовьем скота и сдачей продуктов животноводства колхозами государству. Вот и приходилось с большим риском идти на неприятности, на отступления от центральных директив и циркуляров ради спасения дела, заинтересованности и закрепления кадров на селе.
Мне не один раз приходилось выступать в защиту хозяйственников, которые неформально относились ко всем «инструкциям», а по делу смотрели, что надо предпринять, чтобы поднять заинтересованность тружеников села. Были не единожды жестокие схватки с «архизаконниками», которые пытались привлечь к ответственности хозяйственника, который добросовестно выполнял свои шефские обязанности. Их часто обвиняли в разбазаривании государственных ресурсов, говорили, что колхоз не государственное предприятие, а кооперативное хозяйство, и получалось так: когда ему надо что-то сделать, то оно кооперативное, а когда взять от него, то оно становилось государственным. Все обходилось хорошо, если вовремя оказывалась поддержка и защита, но были и такие случаи, что страдали люди ни за что.
Мы хотели вывести область в передовые. И мы понимали, что берем на себя большие обязательства, а ответственность перед страной и народом еще большую. Это все происходило тогда, когда был брошен лозунг-призыв: «Догоним и перегоним Америку по производству продуктов животноводства на душу населения». Эти призывы были везде на щитах, и находились такие остряки, которые на обратной стороне такого дорожного щита писали: «Не уверен – не обгоняй» – это, правда, относилось к водителям автомашин, но было символично. Ведь еще в 1957 году было ска зано от имени партии: «Создать в стране изобилие сельскохозяйственных продуктов». С тех пор прошло много лет, а что мы имеем в настоящее время? Положение с продуктами животноводства на том же уровне, если не хуже. В чем же дело? Дело в том, что сельским хозяйством никто серьезно и глубоко не занимается, а командуют все. Инициатива работников сельского хозяйства зажата и запланирована, зацентрализована до предела.
1958 год. Несмотря на большие трудности, область свои обязательства выполнила и была награждена орденом Ленина – эту высокую награду в Киеве в Театре имени Т. Г. Шевченко вручал Н. С. Хрущев. Хорошо помню, он тогда призывал нас добиться по области в среднем стопудового урожая зерновых с гектара. Задача на то время нелегкая, но вполне реальная, ибо в области были еще резервы. Их только надо было использовать.
Надо было «выравнивать» работу области, резко подымать урожайность зерновых, кормовых и других культур в полесских районах, подтягивать среднюю зону до уровня южной зоны, а последней не упускать достигнутого и идти вперед. Все это надо делать только на основе комплексного внедрения в сельское хозяйство высокой культуры земледелия. Не везде были хорошо подобраны руководители колхозов и совхозов, допускался и порочный стиль и метод подбора председателей колхозов. Причем часто это делалось против воли самих колхозников. Припоминается один из многих эпизодов. В поездке по области вечером, проезжая через село Заречье Белоцерковского района, мы несколько сбились с дороги, и ГАЗ-69 поехал прямо на огонек, так как была уже кромешная темнота и непролазная грязь. Мы случайно попали на животноводческую ферму, поговорили с дежурными по ферме. Они нас спросили, не на собрание ли мы приехали? Я спросил: «А какое у вас собрание?» Последовал ответ, что вот уже вторые сутки проходит собрание – выбирают председателя колхоза. Я заинтересовался этим «событием» и попросил, чтобы нас проводили к школе, где проходит собрание. На собрании народу было много – человек триста – пятьсот. В помещении стояла неимоверная духота, накурено так, что из зала еле виден президиум, который тоже «упрел». Мое появление для всех было неожиданным, в том числе и для секретаря райкома партии, которому было поручено провести «мероприятие». Ознакомившись с обстановкой, я спросил, почему же собрание идет второй день. Тут в зале поднялся невообразимый шум, трудно было что-то понять и разобрать. Я попросил успокоиться и толком рассказать, в чем все же дело. Когда установилась тишина, я выслушал нескольких колхозников и понял, что райком партии против их воли хочет заменить председателя колхоза, мотивируя тем, что «он очень строптивый и самостоятельный в решениях колхозных вопросов вопреки линии райкома и болеет только за свой колхоз и его людей». Райком «рекомендовал» колхозникам другую кандидатуру, «привозную», а колхозники с этим не были согласны. При голосовании, чтобы освободить старого председателя, никто не голосовал, а только говорили: «Он для нас хороший председатель, и другого мы не хотим». Когда предлагали кандидатуру нового председателя, тоже не голосовали, а просто молчали. Вот так колхозников и брали измором, а они не сдавались, и уже назревал явный скандал. Разобравшись с делами в колхозе и желаниями колхозников, я принял решение оставить старого председателя. Какой был восторг колхозников! Позже я несколько раз заезжал в этот колхоз. Дела там шли отлично, и каждый раз народ вспоминал злополучное собрание и благодарил за то, что с их мнением посчитались и оставили старого председателя.
В Венгрию направляется партийно-правительственная делегация Советского Союза, возглавляемая Н. С. Хрущевым. В составе делегации: Козлов Ф. Р., Громыко А. А.[34], Шелест П. Е. и посол СССР в Венгрии Андропов Ю. В.[35] Поездка эта была нелегкой и даже сложной в политическом плане – ведь не прошло и года, как в Венгрии был разгул контрреволюции. Коммунистов вешали, расстреливали, наша печать пестрила фотографиями зверских расправ с партийным активом Венгрии. Для подавления контрреволюционных очагов нам пришлось применить силу оружия, даже танки и орудия – все это выполнила Южная группа наших войск. Обстановка в Венгрии того времени была особо сложная и настороженная. Впервые на политическую арену начал выходить Янош Кадар[36].
Помню, что переговоры Н. С. Хрущев с венгерскими товарищами вел с особым умением, прямотой, вместе с тем и определенным тактом. Наша делегация посетила несколько городов и предприятий. Он откровенно и прямо выступал перед рабочими-машиностроителями, шахтерами. Н. С. Хрущев неизменно при каждой встрече, на собраниях, митингах представлял, причем поименно, с краткой характеристикой, каждого члена делегации, и это, казалось, еще больше повышало вес, значимость и представительность делегации нашей страны. На встречах, митингах приходилось выступать и мне от имени нашей делегации. Посетили мы колхоз, конный завод, где Н. С. Хрущеву подарили отличную тройку белых лошадей в упряжке. Их, конечно, Хрущев передал на сельскохозяйственную выставку. Посетили хорошо организованную птицефабрику, откормочный совхоз крупного рогатого скота. У нас в то время еще не было таких организованных хозяйств и с такими высокими агротехническими и технико-экономическими показателями. Да и общая культура земледелия у венгров стояла в целом выше нашей. Я лично у венгров позаимствовал многое.
Была ли какая в то время опасность для главы нашей делегации и в целом для всей делегации? Безусловно, была. Недаром нас усиленно опекала охрана каждого в отдельности члена делегации. Наша делегация была размещена в особняках на Буде. Вечерами, поздно, мне часто приходилось по многу часов прогуливаться и разговаривать с Н. С. Хрущевым на разные темы. Он страшно не любил и даже ругался, когда в часы отдыха и прогулок за ним буквально по пятам следовала охрана. Это было именно в Венгрии, когда Н. С. Хрущев просто рассвирепел и прогнал охрану, затем вызвал полковника Литовченко, главного «телохранителя», и при мне сказал ему: «Вы что не даете свободно отдохнуть и поговорить? Что вы за мной шпионите?» После этого случая охрана не уменьшилась, но охраняемым они старались просто не попадаться на глаза.
Всем составом делегации посетили штаб и командование, а также воинскую часть нашей Южной группы войск. Командующий группой генерал Казаков выстроил почетный караул войск. Его обошел Н. С. Хрущев вместе с Яношем Кадаром, затем состоялся митинг, на котором с речами выступили Хрущев и Кадар – все прошло на большом подъеме.
После проведенных переговоров Н. С. Хрущевым и Яношем Кадаром был подписан советско-венгерский договор, в котором предусматривалось развитие экономических, культурных, научных и военных взаимоотношений. Никаких разногласий не возникало, при подписании присутствовали все члены делегации.
В честь нашей делегации в знаменитом здании венгерского парламента над Дунаем венгры устроили грандиозный прием на тысячу человек. Когда закончилась официальная часть, были произнесены соответствующие речи и провозглашены тосты и пожелания, Н. С. Хрущев решил пройтись среди присутствующих на приеме по всем залам. Присутствующими это было встречено необычайно хорошо, но это и создало толчею, беспорядочное скопление огромной массы людей, и в случае какой-либо враждебной акции охрана оставалась совершенно беспомощной. Я помню, что только три человека были рядом с Н. С. Хрущевым: Литовченко, Казаков и я. На мой взгляд, это был опасный и не совсем обдуманный «рейс» в массы.
Подробно ознакомились с достопримечательностями Будапешта, с его богатой архитектурой, замечательными памятниками, красивыми парками, набережными Дуная. Пришлось нам побывать в тех местах и помещениях, где контрреволюция в 1956 году расстреливала и вешала коммунистов. Побывали мы на озере Балатон, посмотрели виноградники и посетили знаменитые винные подвалы. Для меня поездка в Венгрию, встречи и разговоры с Н. С. Хрущевым были интересными и очень поучительными.
Чрезвычайно много вопросов и забот возникает у первого секретаря обкома партии, и за него никто возникших вопросов и трудностей не решит. А чтобы решать вопросы, надо брать на себя всю полноту ответственности за свои поступки и действия. Иногда приходится примирять непримиримое, а это все равно что перейти через пропасть. Кругом жизнь шла своим чередом, но я из-за этой работы, по существу, не имел личной жизни. В семье появлялся как «запоздалый ночлежник», а подчас из-за командировок по нескольку дней не бывал дома. Как рос и воспитывался младший сын Витасик, я, по существу, мало знал, уже не говоря о том, что этими вопросами мне заниматься совершенно не было времени. Все заботы по дому, уход за больным сыном, его учебой и воспитанием – все это полностью легло на плечи Иринки, и ей тоже далеко не легко. У меня нагрузка невероятная, и, несмотря на хорошее здоровье, я временами устаю до невероятности.
Жизнь идет по-прежнему, своим чередом. Играют свадьбы, рождаются дети, происходят семейные и личные трагедии, подрывы на минах и снарядах детей и взрослых – все еще издержки прошлой войны, убийства, грабежи, изнасилования, воровство и растраты, пожары, неурожаи и сильные градобои. Обо всем этом приходилось почти ежедневно читать сводки и донесения органов КГБ, МВД и других административных инстанций. Нелегко было все это перечитывать и переживать, было грустно и обидно, доходило до сердечной боли, но такова настоящая жизнь без прикрас и лакировки.
В одном полесском селе Иванковского района у меня был знакомый дед Филипп – завхоз колхоза. Я как-то был на охоте в тех краях, там с ним и познакомился. Он нашу охотничью компанию угощал отменным жарким из мяса дикого кабана, когда мы у него остановились на ночлег. Как-то дед Филипп приехал по колхозным делам в Киев и попросился ко мне на прием. Я его как старого знакомого принял – помог ему раздобыть кровлю для колхозных ферм. Затем зашел разговор о делах в колхозе, что делается на селе, как живут люди. Из разговоров выяснилась далеко не отрадная картина. Я поинтересовался, как дела на селе обстоят с самогоноварением. Дед Филипп откровенно сказал: «А как же, мы в этом вопросе навели порядок, теперь если кто хочет выгнать самогону, то идет в сельсовет и берет напрокат аппарат». Я об этом как-то рассказал на областной партийной конференции – даже в присутствии руководства ЦК КПУ, – это вызвало большой смех, но это была правда жизни.
Все, что я пишу, – истинная правда, да еще самая маленькая ее частица, каким-то чудом пробившаяся наружу.
В 1958 году вообще произошло много событий, имеющих для меня большое значение. При подготовке к выборам в Верховный Совет СССР я был утвержден членом Центральной избирательной комиссии. Мне приходилось несколько раз быть на заседании комиссии. В предпоследний раз я был в Москве на заседании комиссии 12 февраля. Мне по «секрету» А. Н. Шелепин[37], он тогда был тоже в составе комиссии от ЦК КПСС как секретарь ЦК, сказал, что подготовлено решение ЦК КПСС о награждении меня орденом Ленина в связи с моим 50-летием. Откровенно говоря, для меня это было неожиданностью, да я об этом и не думал. 14 февраля был опубликован в центральной печати Указ Президиума Верховного Совета СССР. Не скрою, я был очень рад этой высокой награде и получил много поздравлений, а саму награду в кругу друзей и приятелей хорошо «обмыли».
В марте были выборы в Верховный Совет СССР. От Богуславского избирательного округа я избран депутатом Верховного Совета пятого созыва. Мой депутатский билет № 469. Таким образом, в начале 1958 года у меня было три больших события в моей жизни: награждение меня орденом Ленина, мне исполнилось 50 лет, я избран депутатом Верховного Совета СССР. Все это обязывало меня еще к большей энергии в работе. А работы было, как говорят, невпроворот, непочатый край.
У меня еще в 1957 году возникла мысль – построить новое, современное село со всеми городскими удобствами, которое бы послужило прообразом проектирования и застройки сел области. Было решено: у трассы Киев – Одесса построить новое село Ксаверовка. Был объявлен конкурс на проектирование застройки села, представлено несколько проектов, но колхозники отвергли многоэтажную и многоквартирную застройку, а приняли проект застройки двухэтажными постройками. И провели совет: часть денег дает колхоз и колхозники, большую же часть надо брать в банке как кредит. С начала 1958 года развернулись работы по строительству Ксаверовки.
В ЦК КПУ и Совмине к затеваемому мной делу относились снисходительно, но помощи, по существу, не оказывали никакой. Однажды в ЦК на одном из заседаний меня пытались обвинить в том, что для строительства колхозной деревни я отвлекаю государственные ресурсы, металл, трубы, кирпич, железобетон, асфальт, электропровода и другой строительный материал. Больше всего в этом вопросе проявил ретивость Щербицкий, который тогда был секретарем ЦК и опекал тяжелую промышленность. Разговор принял крутой характер. Я тогда сказал президиуму, что селу надо помогать делом, а не словами, резко оборвал активность Щербицкого и заявил, что если они считают, что не стоит заниматься перестройкой сел, то мы прекратим строительство. При этом я заявил, что сам поеду к колхозникам и скажу, что строить село не будем, хотя в строительство села уже вложено более 1,5 млн рублей. Тон сбавили, тут же сказали, что строить, мол, нужно, однако надо быть более осторожным с расходованием материалов, тем более фондируемых. А они все фондируемые! Вот и выходит, что, если не возьмешь на себя ответственность, ничего крупного, даже мелкого не сделаешь.
И все же, хотя и с большими трудностями, новое село Ксаверовка было отстроено. О нем в то время много писали в газетах, передавали по телевидению, снимали в кино, в журналах «Огонек», «Советский Союз» помещали фотографии. Ксаверовку показывали многочисленным делегациям, как нашим, так и зарубежным. В один из приездов Н. С. Хрущева в Киев он посетил Ксаверовку, осмотрел хозяйство, встретился и имел обстоятельную беседу с колхозниками, побывал в коттеджах и поговорил с их хозяевами. В коттеджах были все удобства: водопровод, санузлы, газ, ванная. Н. С. Хрущев одобрительно отозвался о застройке села, ему тут все понравилось.
Я рассказал Н. С. Хрущеву о всех трудностях, с которыми мы сталкивались при застройке села, и о критике в мой адрес за расходование фондируемых материалов на кооперативное строительство. Он одобрил все мои действия. После посещения Ксаверовки, выступая на совещаниях, он не один раз приводил в пример, как на деле надо заниматься перестройкой сел, имея в виду застройку Ксаверовки. После его выступлений от меня отстали все критиканы и «блюстители» государственных интересов. Я же начал продумывать планы застройки по-новому, с учетом недоработок в Ксаверовке, нового села Кодаки. И еще при мне это село начало застраиваться по новым, более усовершенствованным проектам, и получилось просто хорошим селом городского типа.
Всем детям известно, что их родители когда-нибудь уходят из жизни и уже никогда их не увидеть, но о них часто вспоминаешь и даже часто видишь их во сне. Но я не думал, что будет так тягостна после потери отца потеря матери. Хотя когда она ушла из жизни, ей было уже за восемьдесят лет. Но я, когда не видел ее подолгу, представлял молодой, красивой. Очевидно, все это осталось еще от детства и юношества. Не один раз я приглашал мать переехать ко мне на постоянное жительство, она частенько к нам приезжала, но оторваться от своего очага и земли не решалась, да и не хотела этого делать. И вот я получил телеграмму о кончине матери. А что может быть роднее и ближе этого человека?! Я лежу – болен, прикован к постели, врачи категорически не разрешают ехать на похороны. Поехала Иринка. Она сама изъявила это желание, хотя ей это сделать было нелегко, ведь миссия тяжелая. На похороны матери поехал и мой младший брат Митя, он к этому времени уже был в Киеве, работал в школе, преподавая математику и физику в старших классах. Мне Ирина и Митя рассказывали, что похоронили мать хорошо, было много людей, сделали все, как она завещала. Но мне было все же не по себе, что я не смог отдать матери последний долг.
После болезни да и от переутомления мне врачи порекомендовали отдохнуть. Я попросил отпуск, его разрешили и предложили в порядке обмена между партийными работниками поехать отдыхать в Албанию. Предложение было заманчивым. Несмотря на то что в то время у нас с Албанией и ее руководством были самые теплые и дружественные отношения как по партийной, так и по государственной линии, но об Албании мы все же мало знали.
На отдых в Албанию я поехал с Иринкой. Нас встретили и разместили хорошо в небольших домиках на самом берегу Адриатического моря. Условия для отдыха албанцы создали отличные, отношение к нам было больше чем хорошее, просто братское, мы много путешествовали по стране. Были на чудесном, по существу, девственном озере, там же посмотрели раскопки древнего города. Побывали в горах, на родине Энвера Ходжи[38], встречались с крестьянами, рабочими, и везде нас радушно принимали и приветствовали как представителей советских людей.
Пригласили нас на большое народное гулянье по случаю Дня урожая. На этот праздник съехались представители со всех концов этой маленькой, но интересной экзотической горной страны. Все были в своих национальных костюмах. Празднество проходило на большой живописной лесной поляне у самой границы с Югославией, динамики были установлены в сторону югославов, и ораторы говорили самые острые речи в адрес «югославских ревизионистов»[39]. Пришлось и мне выступать на этом митинге. Я тоже клеймил «югославских ревизионистов». Я сказал, что союз Албании и Советского Союза вечен – так в то время говорила вся наша пропаганда, идеологи доказывали давно сложившиеся исторические связи, ссылаясь на труды марксизма-ленинизма. В своей речи я сказал, что албанцев не один миллион двести тысяч человек, а 251 миллион вместе с советским народом. Албанцами это было воспринято с огромным восторгом и подъемом.
По возвращении в Киев под свежим впечатлением мной была написана статья для газеты «Правда Украины» о моей поездке в Албанию. Помогал мне писать эту статью А. Осадчий, корреспондент газеты «Правда Украины».
У меня остались самые теплые чувства от этой маленькой красивой страны и ее гордого, независимого народа.
Работать становится все тяжелее и тяжелее, народ почти открыто высказывает свое недовольство, все это «фиксируется». Все зацентрализовано до предела, до глупого. Из колхозов хлеб забирают почти подчистую, иногда не щадят даже семенной фонд. «Председатель колхоза» и «колхозник» стали чуть ли не нарицательными ругательными именами. Если председатель оказывает какое-то разумное «сопротивление», его пытаются убрать с работы, наказывают в партийном порядке. Если этой меры не принимаешь, тебя обвиняют в мягкотелости и либерализме. Из многих случаев расскажу об одном.
Как-то поздно вечером я приехал в Бышевский район и попал в райком, когда там шло заседание бюро. Шел разговор о хлебозаготовках – «доводили дополнительные планы и задания». На бюро вызвали и председателя колхоза «Рассвет» Бариловича – это крепкий хозяин, урожаи зерновых и технических культур у него самые высокие в районе. Он уже сдал два плана хлебозаготовок. Ему «доводят» третий. Барилович заявил, что он это сделать не может – надо засыпать семена, предусмотреть страховой фонд, оставить зерно на фуражные нужды, выдать на трудодень хотя бы по 500 граммов. Райкомовцы все разумные и хозяйские доводы Бариловича не принимают в расчет, обвиняют его в «антигосударственных» позициях. Он-де антимеханизатор, у него кулацкие замашки: почему он дает колхозникам по 500 граммов на трудодень, тогда как по району приходится по 150 граммов? Вносится предложение: «С работы снять, объявить строгий выговор с занесением в личное дело». Пришлось мне вмешаться в этот «конфликт» – сбить горячечность райкомовцев, с работы не снимать и никакого взыскания не выносить. Тут же Барилович сам заявил, что он еще сдаст государству немного зерна. Я долго наблюдал за работой этого председателя, хорошего хозяина, его образцового хозяйства. Не будь моего вмешательства, по «строптивости» райкомовцев могли потерять хорошего принципиального работника, действительно болеющего за колхозное дело, а следовательно, за государство и народ.
Кириченко А. И. ушел работать в Москву – секретарем ЦК КПСС. Первым секретарем ЦК КПУ избирается Н. В. Подгорный. Откровенно говоря, работать стало несколько легче, меньше стало ненужного шума, трескотни, беспредметности, шарахания из стороны в сторону. Устанавливается какая-то стабильность и уверенность в своих действиях. С Подгорным Н. В. сложились деловые взаимоотношения, меня часто приглашают на заседания Президиума ЦК КПУ, на разного рода мероприятия, я становлюсь ближе к работе всего президиума. В Киев часто приезжает Н. С. Хрущев, я каждый его приезд с ним встречаюсь, он все ближе знакомится со мной.
Как-то при очередной встрече я рассказал Хрущеву, что на Мироновской селекционной станции тогда еще совершенно неизвестным селекционером Ремесло выведен хороший высокоурожайный сорт озимой пшеницы-808. Но ее не внедряют, мол, она не прошла «сортоиспытания», которое длится уже около шести лет. Я высказал свою мысль: испытать этот сорт озимой пшеницы прямо в производственных условиях. Никита Сергеевич к моему предложению отнесся благосклонно, при этом сказал: «А что? Возьмитесь, только проводите осторожно, сильно не увлекайтесь, пока не получите хорошие результаты. О вашем эксперименте меня проинформируйте».
Осенью 1958 года в колхозах Бузницкого и Кабанца, а также Батуры было посеяно 250 гектаров нового сорта озимой пшеницы-808, они смело пошли на этот эксперимент и не ошиблись: получили урожай выше районированной, апробированной семенным надзором, на 5–6 центнеров с гектара. Семенной надзор шумел, грозился, но нами было дело сделано, и этим, по существу, была проложена дорога прекрасной озимой пшенице-808 – о ней заговорили по всей стране, а имя Ремесло стало известно и за кордоном.
Пошел третий год, как я работаю в качестве первого секретаря обкома. Работа сложная, беспокойная, подчас дурная. По-прежнему 75–80 % рабочего времени занято сельским хозяйством: в этой отрасли народного хозяйства, как нигде, много неразберихи, хаоса, волюнтаризма. Вопросы сельского хозяйства сложные, много разных наслоений, идет поток директив довольно противоречивого порядка и содержания, все руководители стали «специалистами» по сельскому хозяйству. Из опыта работы, откровенных и доверительных разговоров с некоторыми председателями колхозов и директорами совхозов становится ясно, что сельское хозяйство вздохнуло бы, если бы с него была снята мелкая, не нужная никому опека. Надо дать больше прав председателям колхозов и директорам совхозов в вопросах планирования и материальной заинтересованности специалистов и работников сельского хозяйства, самостоятельного ведения хозяйства, а следовательно, и ответственности за него.
Мне кажется, что я уже освоил объем работы, но работать очень тяжело. Я часто мысленно возвращаюсь к работе на заводе, а иногда мне заводская работа снится по ночам, и я с огромным удовольствием возвратился бы работать в промышленность. В то же время по области много намечено перспективных планов, и хотелось бы довести все это до логического конца, жалко оставлять начатое дело. Да и, откровенно говоря, я уже в какой-то степени «приобщился» к власти, а она ведь соблазнительна и «засасывает» сильно. И все же человек обязан знать, чего он хочет. Я хочу настоящей творческой свободной работы, а ее в нынешнем положении не может быть. Но и возврата к работе в промышленности для меня тоже нет.
* * *
Подготовка в партии и стране к XXI съезду КПСС[40] началась еще в середине 1958 года. Взятие дополнительных и встречных планов в честь съезда, право подписать рапорт съезду, подарки съезду. Все это немало времени занимает в практической работе. Прошла областная партийная конференция, на которой избрали делегатов на съезд. От нашей областной партийной организации избран делегатом А. И. Кириченко – теперь уже секретарь ЦК КПСС. Избран делегатом и я. 25 января 1959 года всем составом делегатов XXI съезда прибыли в Москву. Я разместился в гостинице «Москва».
26 января регистрация делегатов съезда и в Свердловском зале Кремля совещание руководителей делегаций, на котором рассмотрели повестку дня, регламент и выборы руководящих органов съезда. В этот же день меня принял А. И. Кириченко, я ему вручил мандат об избрании его делегатом XXI съезда КПСС от Киевской областной организации. Он поблагодарил за избрание, поинтересовался работой. В разговоре дал понять мне, что не исключена возможность моего выступления на съезде. Хотя я и сам готовился к этому и мне хотелось выступить, но, когда мне об этом напомнил Алексей Илларионович, я с еще большим волнением стал готовиться к выступлению.
27 января 1959 года открылся XXI съезд КПСС. Его открыл Н. С. Хрущев. На съезде присутствуют 72 делегации коммунистических и рабочих партий мира. Весь день продолжался доклад Н. С. Хрущева, доклад был хороший – эмоций хоть отбавляй, как всегда это бывает у Хрущева. Но все по-разумному, подход к делам реальный, вскрытие ошибок и критика недостатков острые. Хорошо, что обнажаются, а не лакируются и скрываются недостатки – при этом веришь в то, что руководство знает, что делается в стране.
28–30 января я болел, температура была 38,5°, на съезде не присутствовал, болезнь перенес тяжело, очевидно простудился. На вечернем заседании 4 февраля объявили, что завтра, 5 февраля, на утреннем заседании я выступаю первым. Готовился до поздней ночи, спал плохо, волновался, ведь ответственность большая, да и первый раз выступаю на съезде партии. Говорили мне, что мое выступление было хорошим, но я чувствовал, как я волновался, хоть и доволен был, что выступил. Этому в немалой мере способствовал Кириченко А. И. Речь моя с портретом была помещена в газете «Правда». На XXI съезде меня избрали членом ЦК КПСС, это огромное доверие и ответственность. На утреннем заседании 6 февраля съезд закончил свою работу. Он длился почти одиннадцать дней, конечно, очень много, но ведь, кроме выступлений делегатов съезда от каждой республики, края, области, профессии, категории работников, надо было предоставить слово 72 главам делегаций, прибывших на съезд. Съезд прошел на большом политическом и организационном подъеме.
Подгорный, Кальченко, Коротченко, я, Синица и Давыдов едем на завод п/я 11 ознакомиться с обстановкой, чтобы предложить Н. С. Хрущеву посетить его. Также посещаем колхозы «Коммунист», «Украина», «Червонный хлебороб». Я настаиваю на том, чтобы остановиться на показе Н. С. Хрущеву завода п/я 11 – там хороший коллектив, да и само производство интересное, хотелось бы о нем знать мнение Никиты Сергеевича. Колхоз «Червонный хлебороб» – хорошее хозяйство, отличные технико-экономические показатели, высокая культура земледелия, председатель колхоза Иван Федорович Кабанец, умный человек, имеет свое мнение и скажет все откровенно и прямо, а Хрущев любит таких людей. Со мной согласились, для посещения оставили авиационный завод и колхоз «Червонный хлебороб».
