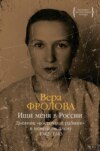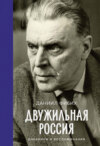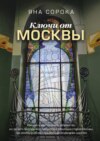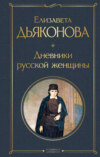Loe raamatut: «Дневник русской женщины»
Тексты писем из раздела «Дневник русской женщины 1900–1902. Париж» частично переведены с французского.
© М. А. Нестеренко, статья, 2025
© Перевод. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство КоЛибри®
Елизавета Дьяконова: одна из многих?
I
В истории русской, да и мировой общественной мысли есть произведения, которые крайне трудно отделить от биографии их создателя. Более того, некоторые авторы творили свою жизнь как текст, бесстрашно выстраивая собственный миф, рискуя порой абсолютно всем. «Пропасть между словами и делами художника исчезла для нас, когда оказалось, что творчество лишь отражение жизни, и ничего более»1, – писал Валерий Брюсов. Этот феномен, ставший известным благодаря символистам, получил название «жизнетворчество»2. Но он отнюдь не был их открытием:
И реальные критики 1860-х годов, и русские романтики, которым они пришли на смену, и символисты, разработавшие теорию жизнетворчества, и современные семиотики были движимы идеей слияния искусства и жизни – за счет активной экспансии литературы в область «действительности»3.
Жизнь Елизаветы Александровны Дьяконовой (1874–1902), автора знаменитого «Дневника русской женщины» как раз тот случай, когда биографический миф буквально затмевает сам текст. «Правда жизненная для автора уже подчинена художественному вымыслу», – напишет ее брат и публикатор Александр Александрович Дьяконов в 1911 году в статье к четвертому изданию «Дневника».
Уроженка Костромской губернии, Елизавета Дьяконова родилась в небогатой купеческой семье, рано научилась читать, с одиннадцати лет вела дневник и делала это непрерывно до самой смерти. После окончания гимназии была зачислена на Бестужевские женские курсы; вскоре прониклась идеями женского движения и в будущем мечтала посвятить себя именно женской эмансипации. В 1900 году Дьяконова поступила на юридический факультет Сорбонны, с тем чтобы ни много ни мало, «возвратившись в Россию, пробить женщинам открытую дорогу в адвокатуру». Однако этим планам было не суждено сбыться. Два года спустя, намереваясь отправиться на каникулы в Киев, Елизавета приехала в австрийский Тироль, чтобы встретиться там с теткой, а заодно попросить у той денег на дорогу. «Из разговора с нею я узнала, что экзамены она отложила до осени, едет теперь в Киев к сестре, а потом в Нерехту заниматься. Денег на дорогу до Киева у нее не хватает, „собственно, я к вам, тетя, за этим больше и приехала“», – вспоминала впоследствии тетка Елизаветы, Евпраксия Георгиевна Оловянишникова. События следующего дня так и просятся стать сюжетом триллера. Лиза ушла в горы на прогулку, с которой больше не вернулась. Обстоятельства ее гибели до сих пор не прояснены. Тело Дьяконовой было найдено без одежды, которая лежала невдалеке, связанная в узел. О причинах и подробностях трагического происшествия выдвигались разные предположения: подозревали и самоубийство, и неосторожность. Брат Елизаветы и публикатор дневников Александр Дьяконов версию о самоубийстве отвергал. «Е. А. от природы обладала великим даром любви к жизни», – настаивал он.
Современный биограф Елизаветы Дьяконовой, писатель Павел Басинский, задается вопросом, имел бы «Дневник русской женщины» такую популярность, если бы не таинственные обстоятельства гибели автора: «Что было бы, если бы Дьяконова не погибла в Тироле, благополучно доехала бы до России и попыталась сама опубликовать свой дневник? Что, если бы „Дневник русской женщины“ 〈…〉 был принесен в редакцию „Всемирного вестника“ не братом русской девушки, погибшей в горах Тироля и найденной совершенно голой на краю уступа водопада, а самой студенткой Сорбонны Елизаветой Дьяконовой?»4 Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но есть в этих рассуждениях важное зерно: загадочная смерть Дьяконовой безусловно содействовала популярности книги.
II
Дневники Дьяконовой делятся на три части, соответствующие этапам ее жизни: «Дневник одной из многих. 1886–1895»; «На высших женских курсах. 1895–1899», «Дневник русской женщины. 1900–1902». Ведение дневника – практика, которой Дьяконова была верна на протяжении всей своей жизни. «Вся ее личность непосредственно слита не только с „Дневником русской женщины“, но и – в огромной части – с „Дневником на Высших женских курсах“», – пишет Александр Дьяконов. Он же проницательно подчеркивает перемену авторской интенции, отмечая, что его сестра разделяла дневники, написанные для себя (более ранние), и дневники, рассчитанные на читателя. «Дневник русской женщины» назван автором «повестью», а его героиня время от времени фигурирует под фамилией Попова. Сама Дьяконова дает понять будущему читателю: перед ним не вполне эго-документ и не художественная проза, а нечто третье – смесь автобиографического повествования и вымысла. Такой подход делает «Дневник» удивительно современным текстом. Это не только сочинение, написанное «первой русской феминисткой»5 (в действительности она не была первой, да и понятие «феминизм» в то время использовалось крайне редко), это сочинение, которое, пожалуй, с великой осторожностью можно назвать прото-автофикциональным, поскольку оно обладает характерными признаками этого жанра, заявившего о себе позднее. Современный термин «автофикшн» (от фр. auto – само-, fiction – вымысел) появился в конце 60-х во Франции для обозначения текстов, представляющих собой смесь автобиографии и вымысла; описание событий, которые действительно происходили с автором (или он их так позиционирует), дополненное некоторой долей фантазии. Автор подобного текста немного «подстраховывает» себя, прикрываясь тем, что это не совсем правда, то есть написанное им не мемуары или дневниковая запись. Согласно наблюдениям, высказанным Александром Дьяконовым, подобное определение вполне применимо к «Дневнику» его сестры:
Стремясь достичь наибольшей художественной выразительности, Е. А. пишет этот «Дневник» от начала и до конца в двух рукописях, неоднократно изменяет и дополняет повествование, переделывает заново многочисленные его эпизоды и пишет к ним варианты…
Ярким доказательством «художественного вымысла» могут быть все те страницы, где Е. А. описывает свой приезд из Парижа на родину. По достоверному свидетельству тех лиц, о которых говорит автор в этом большом отрывке, – некоторые сцены не соответствуют действительности, а характеристики действующих лиц даны иногда крайне преувеличенными. Все это, очевидно, сделано автором с заранее обдуманным намерением.
О «фикциональной» природе в особенности последней части дневника свидетельствует и наличие четкого плана будущей «повести».
В дневниках можно выделить ряд мотивов, которые позволяют говорить об их универсальном характере. В нем затрагиваются проблемы, которые будут знакомы многим: сложные отношения с матерью (к слову, одна из ключевых тем современного автофикшна); недовольство собственной внешностью и как следствие неуверенность в отношениях с мужчинами («…Вот почему я никогда не думаю о мужчинах, – влюбленный урод смешон и жалок…», «Как приятно теперь жить с сознанием собственного безнадежного уродства! И мне хотелось разбить все зеркала в мире – чтобы не видеть в них своего отражения…»); размышления о положении женщин в России («Я уверена, что в будущем в России роль женщины будет интересна: в стране утвердится мысль о высшем женском образовании и явится целый ряд женщин, способных к участию в управлении страной»; «Как он не понимает того, что если женщина в среднем умственном уровне ниже мужчины, то это уж никак не вследствие природной неспособности, а вследствие того, что ее образование и развитие, как физическое, так и духовное, веками пренебрегалось?»); и – что кажется чрезвычайно значимым в контексте именно этого дневника, отразившего историю трагически и загадочно завершившейся жизни, – размышления о смерти и стремление к ней. Такова последняя запись в дневнике Лизы, сделанная 18 января 1902 года, и именно эти настроения последней части дневника наводили на мысль, что причиной смерти Дьяконовой стало самоубийство:
Страшно… Чего я боюсь? Боюсь перешагнуть эту грань, которая отделяет мир живых от того неизвестного, откуда нет возврата… Если бы он мог быть моим, моя измученная душа воскресла бы к новой жизни, но этого быть не может, следовательно, незачем и жить больше… Но если выбирать между этой жизнью, которая вся обратилась для меня в одну страшную темную ночь, и этим неизвестным… Жить? Нет, нет и тысячу раз нет! По крайней мере, покой и забвение… Их надо мне. А долг? А обязанности по отношению к родине? Все это пустые слова для тех, кто более не в силах быть полезным человеком… Родина, милая, прости…
Как бы то ни было, Елизавета Дьяконова умерла в возрасте двадцати семи лет, оставив после себя миф, превзошедший написанное ею. «Дневник русской женщины» составил невольную конкуренцию дневникам Марии Башкирцевой. Обстоятельства жизни авторов этих двух документов действительно подталкивают к сравнению: Башкирцева – одаренная молодая художница, также ведшая дневники с детского возраста (но на французском языке), также рано умершая (от чахотки). С легкой руки Василия Розанова современники стали сравнивать два дневника, часто в пользу Дьяконовой, в то время как Башкирцева зачастую казалась читателям «порочной»: «Покойная Елизавета Дьяконова задалась тою же целью, что и Мария Башкирцева, – написать „дневник“, который послужил бы „фотографиею женщины“, но у Башкирцевой получились негативы, несколько драматизированных, театральных поз, тогда как Дьяконова верна правде и реальна до последнего штриха». Розанов же писал в 1904-м в «Новом времени»:
Прочитайте два тома интереснейшего «Дневника» г-жи Дьяконовой! Во-первых, до чего все это русское, «Русью пахнет», если сравнить этот непритязательный «Дневник» с гениально-порочным «Дневником» полуфранцуженки Башкирцевой. Сколько здесь разлито души, дела, задумчивости, какие прекрасные страницы посвящены размышлениям о смерти. Сколько заботы о народе, детях, семье, – заботы не фактической (по бессилью), но, по крайней мере, в душе.
Читателей, без сомнения, подкупали обаяние и искренность Дьяконовой, ее мучительная обращенность к своей внутренней жизни. «Типичность» с легкой руки самого автора («одна из многих») тоже импонировала аудитории. Здесь нет блистательной светскости Башкирцевой. Революционер и писатель Анатолий Фаресов писал в «Историческом вестнике»: «…Дневники г-жи Дьяконовой, независимо от фактического материала об умственной жизни русской молодежи, знакомят нас с оригинальной, идеалистически настроенной женской душой, полной мудрости и страданий…» В этом смысле Дьяконова действительно была «одной из многих» женщин поколения, желавшего перемен в общественной жизни, но ее яркая индивидуальность все же не позволит «Дневнику русской женщины» слиться с фоном эпохи. Прошло достаточно времени, чтобы заново перечитать и осмыслить дневники Елизаветы Александровны Дьяконовой.
Мария Нестеренко
Дневник одной из многих
1886–1895
1886 год
Мой маленький дневник
Нерехта, 31 мая
О боже мой! Что за день был сегодня! Этот день для меня важный, потому что я получила хороший аттестат – плод моих трудов за два года. Мне всего только одиннадцать лет, я поступила во второй класс Нерехтской Мариинской женской прогимназии. Итак, сегодня, в субботу, должна была решиться судьба 16 человек! Немногие из этого числа остались, всего пять-шесть, остальные вышли. После раздачи наград и аттестатов наступило время расстаться. Я живо помню, как мы собрались в умывальной и все заплакали. Только учителя и начальница смотрели на это расставанье равнодушно, а некоторые из публики насмехались над нами. Я была подругой Мани, и, прощаясь, мы так разрыдались, что, кажется, только каменный человек равнодушно смотрел бы на эту картину. Не такие мы девочки, чтобы не плакать о подругах, как думают учителя! Да, много слез было пролито, много было обниманий и целований – «Никогда я тебя не забуду, пиши, ради бога, чаще», – слышалось сквозь слезы и рыдания Мани. Классные дамы чуть не плакали, глядя на нас. Милые подруги, все мы друг друга любим, но, может быть, никогда не увидимся!
Мама говорит, что меня отдадут учиться в Сиротский дом в Ярославль. Там живет моя бабушка, мне будет хорошо.
15 августа
Долго, очень долго я не говорила с тобой, мой миленький дневник. Целых 21/2 месяца. Такое время для меня очень долгое, а между тем я не могла писать, потому что боялась, чтобы не увидала мама или гувернантка. Если они увидят, то будет плохо. Ведь я пишу скверно, будут смеяться. Но надо писать. Сегодня мое рождение, с этих пор я буду писать аккуратно каждый день или каждую неделю. Мамочка завтра повезет меня в гимназию, я уже все уложила и готова в дорогу. Может быть, я вернусь домой, не знаю. Если не вернусь, – прощай, милая Нерехта, сестры и мама, дом, сад и река Солоница!
N. В. Как бы не забыть сделать себе для дневника новую тетрадь и очинить карандаш…
12 лет!!!
Ярославль, 18 августа
Милый дневник, меня приняли в 4-й класс! Мама рада, а я не знаю – радоваться ли мне или нет. Сегодня утром меня привезли сюда, в гимназию. Как скучно без мамы и без бабушки! Сестры, братья далеко. Я не испугалась множества девочек; напротив, мне стало легче, но все-таки без мамы жить трудно и скучно.
21 сентября
Познакомилась с одной воспитанницей 6-го класса, Маней Л. У нее есть большой секрет, который знала только Маня Б., а сегодня и я узнала, что она любит Маню Д. Милая Маруся, измучили мы ее совсем. На меня сейчас рассердилась, и я убежала сюда писать.
22 октября
Опять, опять я долго не писала, милый дневник! Самое название «дневник» происходит от слова «ежедневно», а я разве каждый день пишу? Много бы, очень, очень много надо написать сюда, но некогда. Все эти дни были полны сомнений, тревоги за себя и за других и радости, которой, впрочем, было немного… Зачем подруги скрывают от меня все, все? С тобой, мой милый дневник, с одним тобой могу я говорить! И знаю, что хоть от этого мне легче. Ты – тайна для всех, даже и для мамы…
1887 год
Нерехта, 4 января
Новый год. Мы его не встречали, мама за последнее время то довольна, то нет… Скоро мы уезжаем жить из Нерехты в Ярославль… Папа очень болен… Боже, что я там буду делать? Еще зиму прожить в городе ничего, кроме того, в учебном заведении, но потом, что там делать летом? Я так привыкла к чистому свежему воздуху, а в Ярославле?! В эти Святки вместо того, чтобы веселиться, наблюдаешь вокруг себя недовольных сестер, братьев, укладку вещей и прислугу, вечно занятую. Теперь все чаще и чаще приходится видеть, как пустеют комнаты…
…Сейчас ударили три раза в колокол, о. Петр, наш духовник, умер. Вчера еще кого-то хоронили. Господи, что же это? Зачем, зачем все эти покойники, пожар, выезд из родины? Больше всего боюсь: вдруг умрет папа, доктора говорят, что он дольше недели не проживет. Мне его очень жаль, мне страшно, сама не знаю чего… Не знаю, что теперь делать? Эта укладка вещей, внезапный переезд – все мне кажется смутным сном. Сознаю я одно: не увижу я больше Нерехты, последний раз теперь дома…
10 января
Сейчас отсоборовали папу. Не могу передать того чувства, которое овладело мною, когда я вошла в его комнату. Мне хотелось плакать, но я не могла, что-то сдавило мне горло. Забывшись, я держала свечу почти над головой, и бабушка меня много раз поправляла. Как не совестно Наде, она стояла в другой комнате, пока соборовали папу, и все время плакала. Что это за нервы некстати. Уж лучше бы молилась.
Боже мой, зачем Ты меня не взял к Себе, ведь я такой человек, которого «убыль его никому не больна, память о нем никому не нужна», – невольно пришли на мысль стихи Никитина или Некрасова, не знаю6.
12 января
Теперь, когда я уезжаю, может быть надолго, из Нерехты, я должна дать себе отчет в том, как я провела Рождество. Нельзя сказать, что весело, а нельзя сказать, что и скучно. Весело быть не могло потому, что мы собирались уезжать и болен папа. Скучно же не могло быть потому, что я была рада увидаться с сестрами и братьями. Кажется, все были рады моему приезду, и день-два все шло хорошо; но, боже, что стало потом! Драки, ссоры, слезы, все это пришло в действие. Я часто ссорюсь с Валей. Ох уж эта Валя! Мне кажется, что она похожа на крючок: уколоть кого-нибудь язвительным словом, заметить что-нибудь, потом насмехаться – вот милые привычки моей младшей сестрицы. Что касается до моей другой сестры, Нади, то сплетни, пересказы разных городских кумушек составляют ее любимую сферу. Теперь, когда я заметила все дурные стороны моих сестер, надобно сказать и о своих. Я страшно вспыльчива, нетерпелива, упряма, и с этими тремя прекрасными качествами мне приходится жить среди таких сестер, которых характеры решительно не походят на мой: они обе не вспыльчивы, обе терпеливы, но… обе упрямы, даже, может быть, больше меня. Ну, теперь можно ли сказать, что я прожила здесь веселой? Ни в каком случае. Все дни, исключая счастливых часов, которые я была с мамой и в дружбе с сестрами и братьями, – были какой-то передрягой, мучительной, бестолковой.
Прощай, дорогая, милая Нерехта, прощайте, все подруги, все те места, в которых я проводила счастливейшие минуты моей жизни!..
1888 год
Ярославль, 2 января
Снова начинаю дневник, целых 4 месяца ничего не писала… Мне нисколько не скучно дома одной, напротив – очень весело. Сейчас только что я кончила игру на рояле, и когда играла «Зеленый остров», то мне послышались слова: жизнь вся еще впереди. Это верно. Я начинаю думать, что всякий самый скучный этюд может что-нибудь говорить…
4 января
Сегодня год, как умер о. Петр. Как много изменилось за это время! И я сама стала не та, что прежде, а гораздо хуже. И как не испортиться характеру, ведь приходится постоянно сердиться то на братьев, то на сестер. Правда, я прежде была лучше, теперь я все возражаю маме. Но… не возражать ей невозможно, потому что мама противоречит сама себе на каждом шагу.
Мои милые братцы с каждым днем становятся хуже, в особенности Володя, он портит Сашу, я это вижу, страшно за Сашу и… ничего не могу сделать. Да, ничего не могу, потому что мама запретила мне мешаться в дела детей. Но поневоле вмешаешься, когда видишь, что характеры их с каждым днем хуже. Пусть Володя делает, что хочет, мне не так его жаль, как Сашу, это любимый брат, и если он будет таков, как Володя, то ему придется плохо. Не знаю почему, у меня в голове сидит мысль, что Саша рано или поздно с ума сойдет.
С тех пор, когда я ласкаю и учу Сашу, эта мысль постоянно приходит мне в голову, и мне так хочется плакать.
Боюсь я, чтобы дневник мой не попался в руки мамы, что тогда будет!..7
Ярославль, 5 мая
Я начала вести дневник с 11 лет, значит этому занятию уже около двух лет, но проклятая лень мне мешает писать: я вела дневник с такими перерывами, что и сама им удивляюсь. Сегодня мне захотелось вырваться скорей, скорей из нашей квартиры в Нерехту; я не могла сидеть на месте и бегала до усталости, словно кто толкал меня, из комнаты в комнату. Вечер выдался хороший, я читаю. Только что кончила «Записки лишнего человека» Тургенева8. Последний его день, 1 апреля, навел меня на мысли о папе. Вот уже год и 3,5 месяца прошло после его смерти, а мне все еще не верится, что он умер. Я и все мы не говорим никогда «покойный папа», а просто «папа», как будто он всегда с нами. Действительно, когда я думаю о нем или гляжу на его портрет в гостиной, я чувствую, что папа жив, что он говорит и чувствует, как мы. Папа никогда не умрет; он всегда со мною, точно так же, как и Бог.
Сегодня за французским классом случилось происшествие: Наталья Францевна наказала апельсин. У Насти У-вой был апельсин; от скуки она вынула его из кармана, апельсин, разумеется, пошел по рукам, все начали нюхать его, лизать. Наконец беспорядок был замечен Нат. Фр., и после печального признания Насти, что беспорядок причинен апельсином, несчастного вытащили на стол и торжественно накрыли толстой грамматикой. В этом положении апельсин оставался до конца класса.
7 мая
Ха, ха, ха, ха! вот смешное, глупое и печальное приключение! Сегодня, ехавши в баню, я и Надя потеряли по калоше! Это происшествие вызвало целую бурю: мама читала нотацию, Ал. Ник.9 говорила, что только у Д[ьяконов]ых и могут случаться подобного рода вещи. Перед ужином мы вместе решили, что это проделка нечистой силы, наказание Божие за нерадение к молитве. Надя говорит, что сегодня она не помолилась внимательно, и если утром хорошо не помолиться, то непременно случится несчастие; что если много смеяться, то это не к добру, – я с этим вполне согласна. Я (вот грешница) уже с Рождества читаю только по три молитвы и решила наказать себя за небрежность: спать на полу. Валя слушала да и сказала: «Дуры, рассуждайте о том, как бесенок ваши калоши утащил, я уйду». Я и Надя решили, что в каждом человеке есть бес, который соблазняет человека на все дурное. Но ведь сегодня я была в бане; чистая – и вдруг спать на грязном полу!
Сегодня мама без ужина оставила за непослушание; это полезно: нужно как можно меньше есть, теперь скоро экзамены. Добрая Саша-горничная сжалилась надо мной: оставила котлетку и предложила ее мне; но я испугалась, чтобы мама не увидела, и отказалась… съем завтра, она в шкафу стоит!.. Спорила с Володей: утверждает, что похож на папу, я говорю – на маму. Мысль о папе мне все чаще приходит в голову; что, если и я умру? А ведь бес во мне сидит, он меня столкнет прямо в ад! Страшно!
25 мая
Вот так дневник! Ведется через два, а то так и через 12 дней! А что, подумаешь, мешало? Мамы боюсь, лень мешает, читать вечером хочется. Вот семь слов. Коротко и ясно… Экзамены, экзамены! Страшное слово, а для меня в особенности. Сегодня я неверно решила уравнение. Кажется, готова утопиться при одной этой мысли! Господи! я гадкая, отвратительнейшая из всех в мире – прошу не отказать в одной помощи: дай из математики 3–, а из французского 3. Помоги, Боже, хоть на эти два балла! Внуши, Боже, всему Совету перевести меня. Я не совсем здорова, и слава богу – никто за мной не ухаживает. Напротив, все говорят, что я притворяюсь. Ну, последнее-то похуже первого, да наплевать на эти нежности телячьи!.. Дети отвратительны; узнали, что у меня уши болят, – целый день свистят и ворчат; и то и другое сильно отзывается на больной голове! Гадкие! не люблю их. Теперь довольно, – голова болит от писанья.
26 мая
Вот счастие! Второй раз мамы дома нет, писать можно. Сегодня днем был доктор. Он прописал мне душ для продувания ушей, против глухоты. Потом велел употреблять ирригатор для промывания носа. Когда им пользуются, то наполняют составом, разведенным на два стакана воды по одной чайной ложке; когда начнут воду пускать в нос, то нужно говорить «а, не, мо, не». Очень это смешно! Доктор нашел меня малокровной, только не очень, а румянец объяснил нежностью сосудов в коже. Сказал, что нужно принимать железо и еще что-то такое, но мама не хочет. Я не особенно этим довольна, но притворяюсь покорною маме. Доктор узнаёт малокровие так: посмотрел мне в рот и заметил, что окраска языка и нёба очень бледна, потом в глаз; потом приставил трубочку к шее и послушал. Еще кашель, что я очень нервна и живо все делаю и скоро все бросаю; как узнал – для меня неразрешаемая задача… Довольно о докторе. Завтра отправляюсь в Сиротский дом. Если провалилась – что тогда делать? Как явиться домой? – Нет, убегу непременно… Нужно взять денег на всякий случай, хоть один рубль. Убегу, убегу! Вечный стыд и позор и без этого будет на тебе, но если и убежишь – хуже позора провала нигде не найдешь.
27 мая
Урра! перешла в 6-й класс! Все рады, а я больше всех. В гимназии благодаря ужаснейшей свинье учителю N… нашла Катю Е. в отчаянии: она провалилась и, кажется, покушалась на самоубийство, да не удалось. За ней теперь во все глаза смотрят: сидит бледная как смерть и ничего не понимает. Ученица У., вероятно, скоро умрет; она чахоточная и пол… не могу написать: страшно сказать, до чего довело ее зазубривание всевозможных учебников; теперь она почти ничего не понимает, о своем положении ничего не мыслит. И Маргариту мне очень жаль: я страшно за последние дни сошлась с ней; теперь ее исключили, а впереди бедность, молодость, отчаяние и печаль, бесполезность близким людям и обществу.
«Любите друг друга, отцы. Любите народ Божий. Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а, напротив, всякий, сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле. И чем далее потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо, в противном случае, незачем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигается. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за все на земле несомненно, не только по общей, мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека. Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каждый из вас может весь мир любовию приобрести и слезами своими мировые грехи омыть10. Всяк ходи около сердца своего, всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь, даже и сознав его, лишь бы покаяние было, но условий с Богом не делайте. Паки говорю: не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великим. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клевещущих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов злых из них, не токмо добрых, ибо и из-за них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве так: спаси, Господи, всех, за кого некому помолиться. Спаси и тех, кто не хочет Тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, Господи, ибо и сам мерзок есмь, паче всех и вся.
Народ Божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и брезгливой гордости вашей, и пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте Евангелие народу неустанно… Не лихоимствуйте. Сребра и злата не любите, не держите… Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его».
2 июня
На днях была в концерте. Играли прелюдию Мендельсона… Мне показалось, что все волны, южные и северные, слились на собрание. Сначала заговорили северные волны, упрекая южных, а затем южные стали возражать северным. Дело дошло до спора: северные волны говорили о прелестях вечных снегов и льдов, а южные пели о красоте ночи, о солнце и звездах, отражающихся в морской воде. Наконец приплыли тихие волны рек в Средиземное море и рассказали им о жизни людей. Волны помирились, услыхав о раздорах и жестокостях людей, и, соединясь вместе, запели гимн Богу. Вот что, как показалось, говорила мне игра г. Б.
19 июня
С гувернанткой втроем отправились на бульвар. В саду играла музыка, в павильоне, однако, никто не танцевал. Несколько мамаш, два-три папаши сидели там, детей было не особенно много. Первая пошла танцевать П., за ней вся мелюзга зашевелилась и запрыгала. Следующая за вальсом полька была прелестна: все ребятки захотели попрыгать, явились несколько маленьких мундирчиков, которые говорили тоненькими голосками, – они оживили детей. Вскоре случился казус. Вдруг подходит к Наде учитель танцев и говорит: «Отчего вы не танцуете?» Надя что-то пробормотала. Он подвел ей своего сына-гимназиста и что-то проговорил. Вдруг я услышала: «Я вашей мамаше скажу, что я вам представлял своего сына и вы отказались. Ведь вы умеете, отчего же не танцуете?» – «Нет», – отвечала Надя чуть слышно, вся пунцовая. Немного спустя подходит сын учителя к Вале. Та тоже отвечает отказом. «Хороши мои сестрицы», – шепнула я гувернантке, радуясь от души, что меня не видно и кавалер не может ко мне подойти. – «Буки!» – шепнула мне Александра Николаевна. Детский вечер кончился в 9 часов. Ал. Ник. была какая-то сумрачная. Господи, думала я, вот, видно, она теперь думает, как от нас отделаться! Ей нужно к брату-студенту, который сидел в саду, она бросила бы нас, она в уме бранит нас. Наконец я не выдержала: мысль, что Ал. Ник. хочет отделаться от нас поскорей, перешла уже в полную уверенность. Я предложила идти домой… Мама очень огорчилась, узнавши, что Надя отказала сыну учителя танцев.
25 июня
Ура! Едем в понедельник в Нерехту! Наконец-то! Даже не верится, – правда ли это, что мы уже второй год живем в Ярославле? Мы уехали из Нерехты 23 февраля 87 года, на второй неделе Великого поста, в понедельник, и 16 месяцев уже не видали ее. Господи, вот так счастье! Мама всячески старается охладить нашу радость, рассказывая о холодных приемах родственников, о неудобствах жизни в гостях (тогда как мы едем домой), – но все старания окажутся тщетными: я всегда буду радоваться, если поедем в Нерехту, буду рада всякой новости о ней, буду всегда любить ее. Это маме известно, а между тем она чуть не плачет при мысли о том, что ее милые детки (не я в том числе, конечно) оставляют ее на целую неделю одну. Самая лучшая радость не обойдется у нас без дрязг. Ну, да что! Стоит ли писать пустяки? Одно слово: едем в Нерехту.
14 июля
Сегодня мы познакомились с Сергеем Николаевичем, братом Ал. Ник., и гуляли с ним в роще. Он мне очень нравится: человек очень умный и оригинальный, это я заметила и в Ал. Ник. Сергей Ник. был в партикулярном платье, чему я была очень рада, так как, хотя мне смешно и стыдно в этом сознаться, – я его боюсь в студенческом мундире. Право, во мне есть дикарь, и самый упрямый: чтобы познакомиться с С. Н., мне нужно было собрать все присутствие духа, к тому же он оказался до того утонченно-вежлив, что я чуть было совсем не потерялась. Он все время говорил с мамой, а я все слушала, слушала. Ал. Ник. даже заметила: «Как вы внимательно слушаете, Лиза!»
Дело подруги Маргариты уладилось: она была у губернаторши и ей рассказала все обстоятельства. Губернаторша обещала похлопотать за нее, чтобы ей позволили держать экзамен в наш класс. Она теперь готовится, просила меня прийти к ней. Я была так рада…
На днях Ал. Ник. объявила, что скоро приведет не только Ку-вых, но и своего «братишку Шурку». Я чуть не задушила Ал. Ник. Скорей бы! Я очень плохо все записала, боюсь, чтобы мама не увидела. Однако пора спать: ведь уже 12 часов!