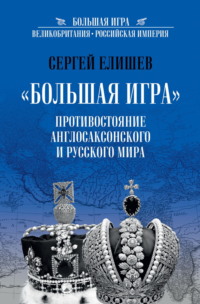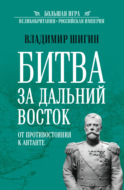Loe raamatut: ««Большая Игра». Противостояние Англо-саксонского и Русского мира»

Большая Игра
Рекомендовано к печати по решению Ученого совета социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (протокол № 5 от 27.06.2024 г.).

© Елишев С.О., 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025
Предисловие
Монография «“Большая Игра”. Противостояние Англосаксонского и Русского мира» посвящена осмыслению сущности, определению пространственных и временных рамок, а также описанию наиболее значимых эпизодов развития «Большой Игры» (The Great Game) – политики сдерживания развития России англосаксонскими элитами и державами, насчитывающей уже более двух столетий. Воспринимая Россию как основное препятствие для достижения своей глобальной геополитической гегемонии, англосаксонские элиты и державы активно вели против России масштабные дипломатические, экономические, информационные войны и баталии, военные действия, проводили операции по организации государственных переворотов и «революций», стремясь уничтожить Россию как действиями извне, так и подрывая ее изнутри.
Материалы, представленные в книге, выносимые на суд читателей, являют собой плоды многолетних размышлений автора по данной проблематике, отображенных в серии публикаций в ведущих научных изданиях, а также в серии авторских радиопрограмм на «Народном радио». По своему содержанию они условно могут быть подразделены на две части: теоретическую (первые четыре главы) и практическую (остальные три главы).
В первой главе монографии внимание читателей фокусируется на происхождении самого понятия «Большая Игра», а также его употребления в узком и широком смыслах. В узком смысле данное понятие используется для обозначения активного геополитического и экономического противостояния Великобритании и Российской империи за контроль над Центральной Азией на всем протяжении XIX в. (или, по мнению ряда авторов, начиная с 1856 г.) вплоть до 1907 г. В широком – для обозначения глобального геополитического противостояния Англосаксонского и Русского мира с начала XIX века и продолжающегося по настоящее время. На наш взгляд, трактовка понятия «Большая Игра» в узком смысле является не верной, политически ангажированной и сознательно направленной на сокрытие знаний о «Большой Игре» от массовой аудитории.
Для обоснования такого рода позиции в данной главе рассматриваются различные точки зрения отечественных и зарубежных авторов на определение отправной и завершающей точек, временных и пространственных рамок «Большой Игры», а также обозначаются наиболее яркие её эпизоды. В частности, дворцовый переворот 1801 г. – убийство императора Павла I; Наполеоновские войны; декабрьский путч 1825 г.; противостояние с Англией в Туркестане, на Кавказе, в иных регионах, русско-персидские и русско-турецкие войны, Крымская война, Русско-японская война; Кавказская война и события в Средней Азии и Туркестане; финансирование и организация в Российской империи «пятой колонны»; революционные события 1905–1907 гг.; Первая мировая война; революция 1917 г.; Гражданская война в России; поддержка «внутрипартийной» оппозиции; привод к власти А. Гитлера в Германии; организация Второй мировой войны; холодная война, расчленение СССР; чеченские войны; «цветные революции» на постсоветском пространстве; война 2008 г. и «принуждение» Грузии к миру; государственный переворот 2014 г. и последующая гражданская война на Украине, начало Специальной военной операции.
Во второй главе монографии анализируются идеологическое обоснование, оправдание и информационное сопровождение «Большой Игры», которое осуществляли английские и американские геополитики в классический и современный периоды развития геополитической мысли. Рассматриваются геополитические концепции основоположников американской и английской национальных школ геополитики – А.Т. Мэхэна, Дж. Х. Маккиндера, Н. Спикмэна, сформулировавших основные идеи атлантизма – геополитической теории и практики коллективного Запада, стран – участниц НАТО, отводящих ведущую роль в мировой истории морским государствам и цивилизациям.
В рамках современного периода развития англосаксонской политической мысли (для которого характерно развитие геоэкономических концепций и цивилизационного подхода) анализируются воззрения американских геополитиков-глобалистов – Дж. Кеннана, Г. Киссинджера, Ф. Фукуямы, Зб. Бжезинского, С. Хантингтона, а также одного из основоположников цивилизационного подхода – английского историка А. Тойнби, а также концепция «смерти Запада» П. Бьюкенена.
В третьей главе осуществляется анализ геополитических концепций классиков русской школы геополитики: основоположников цивилизационного подхода и цивилизационной геополитики – Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, представителей панславизма (Р.А. Фадеева, И.И. Дусинского), военно-стратегического направления (Д.А. Милютина, А.Е. Вандама, А.Е. Снесарева), евразийства (П.Н. Савицкого), Ю.С. Карцова, В.П. Семенова-Тян-Шанского, П.Н. Дурново. Анализ воззрений классиков русской школы геополитики позволил констатировать, что развитие русской геополитической мысли происходило в условиях отсутствия политического заказа со стороны государства, а также политических и экономических элит на выработку геополитической стратегии развития России и осуществления её внешней политики. В силу чего многие идеи классиков русской школы геополитики (в частности, по осмыслению ими сущности, содержания и динамики «Большой Игры») оказались невостребованными правящими кругами и правительствами, среди которых было много лиц англофильской ориентации, продвигающих идеи союзнических отношений с Англией в ущерб национальным интересам России.
При этом осмысление сути и особенностей развития событий «Большой Игры» представителями русской школы геополитики в значительной степени осуществлялось фрагментарно, часто в аспекте анализа многовекового цивилизационного противостояния России и романо-германского культурно-исторического типа (западноевропейской великой культуры, цивилизации), а не чисто континенталистских концепций.
К авторам, осмысляющим в своих произведениях сущность и знаковые события «Большой Игры», следует относить: представителей панславизма – Н.Я. Данилевского, И.И. Дусинского, Р.А. Фадеева; представителей военно-стратегического направления – А.Е. Снесарева и А.Е. Вандама; Ю.С. Карцова и П.Н. Дурново. Остальные классики русской школы геополитики обращались к данной проблематике выборочно, в рамках других интересующих их тем.
В четвертой главе рассматриваются характерные черты имперской государственности как традиционной для России и русского народа формы государственности, возвращение к которой, как и восстановление целостности Исторической России в масштабах единого государства, по нашему мнению, будут являться важными шагами в противодействии реализации планов англосаксов по уничтожению нашей страны и русского народа.
В пятой и шестых главах рассматриваются исторические аспекты и подоплёка развития «Большой Игры» в двух стратегически значимых для России в настоящее время регионах – на Кавказе и в Средней Азии, сквозь призму осмысления процесса обретения земель Исторической России в данных пространствах. Последняя глава посвящена раскрытию сути и особенностей развития германского нацизма как геополитического проекта англосаксонских элит, направленного всё также против Исторической России, русского народа, общества, на ослабление и расчленение СССР. Содержание данной главы крайне актуально в контексте осмысления событий на Украине, предшествующих началу Специальной военной операции, ибо история, как всё мы знаем, очень часто любит повторяться.
В начавшуюся в настоящее время зримо оформляться электронно-цифровую эпоху как теоретическое, так и практическое знания о «Большой Игре» становятся той силой и оружием, которые помогут нам взять реванш за ряд проигранных раундов «Большой Игры». И в конечном итоге восстановить не только традиционную для нас форму государственности, но и целостность Исторической России. Раскрытию этих знаний для массовой аудитории и посвящена данная книга.
Профессор социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор социологических наук Елишев С.О.
Глава 1
«Большая Игра»: понятие, сущность, наиболее яркие эпизоды
Одним из важных и актуальных направлений современных геополитических, политических и исторических исследований является изучение сущности, истории, особенностей и тенденций развития «Большой Игры», или «Великой Игры», – глобального противостояния Англосаксонского и Русского мира, продолжающегося с переменным успехом, начиная с начала XIX века по наши дни.
«Большой Игрой», или «Великой Игрой» (англ. The Great Game), представители англосаксонской единой политической и экономической элит Англии, США и других держав Англосаксонского мира, именовали и продолжают именовать политику сдерживания России в различных сферах её жизнедеятельности, стремясь на протяжении всего этого времени добиться не только улучшения своих позиций в тех или иных областях или полной своей гегемонии, но и расчленения и исчезновения нашего государства и страны с политической карты мира.
Впервые понятие «Большой Игры» в своей переписке употребил офицер британской разведки Артур Конолли, казнённый в 1842 году в Бухаре за шпионаж, но широкое распространение оно получило благодаря известному британскому писателю и поэту, апологету британской колониальной системы Редьярду Киплингу, популяризировавшему его в своем романе «Ким», в контексте описания противостояния английской и русской разведок в Центральной Азии и на севере Индостана.
В настоящее время само понятие «Большая Игра» употребляется в узком и широком смыслах. В узком смысле оно достаточно широко используется, прежде всего, в англосаксонской историографии и публицистике, а также, хотя и гораздо реже, – в отечественной науке и публицистике. Речь в данном случае идёт о различных аспектах геополитического и экономического противостояний Великобритании и Российской империи за контроль над Центральной Азией на всём протяжении XIX века, вплоть до 1907 года – года подписания англо-русского соглашения (от 18 (31) августа) о разграничении сфер влияния в Азии, а также оформления блока Антанты. Или ещё в более зауженных рамках – начиная с 1856 года, т. е. окончания Крымской войны и вплоть до того же 1907 года.
В широком смысле «Большая Игра» не ограничивается обозначенными временными периодами или регионом и трактуется как глобальное геополитическое противостояние Англосаксонского и Русского мира, стартовавшее с начала XIX века и продолжающееся по наши дни. По поводу того, когда началось данное противостояние, среди исследователей существуют разные точки зрения, которые мы обозначим в дальнейшем. Однако анализ особенностей взаимодействия Российского государства с державами Англосаксонского мира позволяет с уверенностью сказать, что «Большая Игра», конечно же, не была ограничена Центрально-Азиатским регионом и, естественно, не закончилась в 1907 году. Она проходила и продолжалась в различных регионах мира, как в последующие десять лет существования Российской империи, так и в советский, а также в постсоветский периоды российской истории. Только после 1945 года ведущей державой Англосаксонского мира, вступившей в «Большую Игру», и не только с Россией, но и целым рядом государств1, стала уже не Великобритания, а США.
Сегодня «Большая Игра» – это инициированные англосаксонской элитой дипломатические, экономические, информационные войны и противоборства, вооруженные конфликты, операции спецслужб по противодействию законным правительствам и осуществлению государственных переворотов и всевозможных «революционных» сценариев в различных государственных образованиях. Все эти действия направлены на закрепление за США и другими державами Англосаксонского мира их геополитической гегемонии над миром, а также возрождение утраченного ими однополярного мироустройства. Россия в представлениях англосаксонской элиты является основным препятствием в достижении поставленной цели.
В условиях же уже состоявшегося перехода от однополярного к многополярному миру, обострения геополитических ситуаций в мире, проведения Специальной военной операции, активно ведущихся информационных войн и противоборств, конструирования различных социальных и исторических мифов изучение проблематики, связанной с «Большой Игрой», приобретает ещё большую актуальность. Однако её изучение в настоящее время осложняется привнесением в науку различных идеологем, политтехнологий и методов манипулирования общественным сознанием, закономерно приведших к господству в социально-гуманитарных науках различных западнических концепций и формационного подхода к трактовке процессов общественно-исторического развития. В рамках же данного подхода и концепций в силу политической и идеологической ангажированности их апологетов наблюдается либо подчеркнутое игнорирование, отрицание самого факта существования «Большой Игры», поскольку трактовка «Большой Игры» в широком смысле не вписывается в концепции формационного подхода (чем грешили, например, советские учёные за редким исключением), либо преуменьшение её значения и необоснованное, чрезмерное ограничение-сужение временных (например, с 1856 по 1907 год) и пространственных (исключительно Центральной Азией) рамок её действия, не только англосаксонскими и западными исследователями, но и представителями современного российского «западничества» в его радикально-либеральной и промарксистской левацкой составляющей.
Такого рода подход позволяет, по мнению журналиста А.А. Медведева, с одной стороны, как бы «вывести сам этот термин за рамки современной нам политологии и геополитики»2, утверждая, что «Большая Игра – это якобы дело прошлого, она давно закончена, и сегодняшние события на Ближнем Востоке и в Южной Азии (и на Украине. – С.Е.) даже как-то нелепо сравнивать с противостоянием России и Британии в 19 веке»3. С другой стороны, «позволяет избежать ненужных вопросов, <…> отсекает лишние и опасные для Запада рассуждения о том, что Большая Игра – это не просто борьба за контроль над территориями в Азии и на Балканах и ведется она не только между Петербургом и Лондоном»4, а «речь шла и идет о насчитывающем множество столетий глобальном противостоянии двух систем, двух миров с разными религиозными взглядами, ценностями, отношением к другим народам и восприятием самих себя»5.
Естественно, что осмысление «Большой Игры» не только как процесса, протекающего исключительно в Центральной и Средней Азии, но и на Кавказе, Дальнем Востоке, в Европе, на окраинах Российского государства, да и самой России, является также крайне невыгодным и представителям российского «западничества» – радикально-либерального и промарксистского социалистического лагеря, поскольку это сразу выставляет их в неприглядном свете. Ведь фактически на протяжении двух веков «Большой Игры» они выполняли роль деструкторов-антисистемщиков6 и «пятой колонны», являясь фактическим оружием англосаксов в их деятельности, направленной на сдерживание, уничтожение России. В силу этого они закономерно не будут признавать, что «Большая Игра» распространялась на эти пространства, будут отрицать, что она ещё не закончилась, и упрекать своих оппонентов в некомпетентности и политической ангажированности.
Тем не менее как западные, так и российские апологеты подобного рода подхода всё-таки были вынуждены сами признать имеющийся в настоящее время огромный интерес к данной проблематике не только со стороны ученых, «но и практиков – политиков, дипломатов, военных, а также представителей широкой общественности»7. В результате «на страницах периодических изданий и в виртуальной информационной среде можно встретить немало публикаций, авторы которых стремятся сопоставить тенденции сегодняшнего дня с наиболее показательными эпизодами соперничества великих держав в различных регионах мира. Неслучайно также в ряде университетов Европы и США студентам читаются учебные курсы по истории Большой Игры в контексте эволюции международных отношений Нового времени»8 (Вашингтонский, Колумбийский, Лондонский университеты, Оксфорд, Кембридж, Французская школа восточных языков, университеты Тегерана, Лахора, Ташкента, Дели и Пекина9). Естественно, что подобного рода аналогии и сопоставления вряд ли бы приходили на ум, а учебные курсы вряд ли бы читались в этих университетах и научных учреждениях, если бы данная тема была не актуальной для современной действительности, «Большая Игра» была бы действительно делом прошлого и до сих пор бы не продолжалась пусть даже и в закамуфлированной форме (неслучайно ряд исследователей говорят о «Новой Большой Игре»10 в реалиях XXI века).
И тут, как бы представители современного российского «западничества» в его радикально-либеральной и промарксистской левацкой составляющей ни рассуждали на эту тему, становится понятным, что «Большая Игра» не может просто игнорироваться, быть ограничена узкими пространственными и временными рамками и сводиться исключительно к трактовке её как эпизода российско-британского противостояния в конкретном регионе без анализа всех аспектов англосаксонских и российских взаимоотношений вплоть до настоящего времени. В силу чего в этом контексте становится, прежде всего, актуальным выяснение пространственных, временных границ (отправной точки, генезиса) «Большой Игры», описание её ярких эпизодов, а также осмысление перспектив её дальнейшего развития.
Относительно генезиса, отправной точки начала «Большой Игры», как мы уже отмечали, среди отечественных и зарубежных исследователей существуют разные точки зрения. В основе «Большой Игры», как справедливо отметил журналист М.В. Леонтьев, первоначально лежал страх англичан потерять колониальные владения в Индии – «жемчужине британской короны». «Британия была просто уверена – Россия обладает таким могуществом, что в принципе не может не претендовать на Индию. Собственно, это и было единственным основанием британских страхов, временами доходящих до паранойи»11. Хотя, как, наверное, ему заочно возразил бы современный британский журналист Питер Хопкирк, «что бы ни утверждали историки сегодня в ретроспективе, в ту пору русская угроза Индии представлялась вполне реальной»12.
Поэтому неудивительно, что целый ряд англосаксонских исследователей, в частности, как констатирует Е.Ю. Сергеев: «Э. Ингрэм, Д. Морган, М. Эдвардес, П. Хопкирк, К. Мейер и Ш. Брайсэк, Р. Джонсон, а также индийский историк Вишванатам Чавда относят начало Большой Игры ко второй половине XVIII в. Например, Р. Джонсон называет в качестве исходной точки 1757 г., когда англичане приступили к систематическому покорению Индостана, тогда как его коллеги – британские историки – находят истоки этого процесса в эпохе Наполеоновских войн. Скажем, М. Эдвардес указывает на тильзитское свидание российского и французского императоров в июле 1807 г., во время которого, как известно, обсуждался проект совместного комбинированного похода на Индостан по суше и морям. Несколько вариантов датировки начала Игры можно обнаружить в работах Э. Ингрэма – 1798, 1828–1834 или 1828–1842 гг.»13.
Э. Ингрэм увязывает начало «Большой Игры» с эпохой Великой французской революции, кульминацией активного англо-французского противостояния за мировую геополитическую гегемонию и сменой Франции – основного соперника Англии на Россию. «В своем заключительном труде, охватывающем последнюю четверть XVIII – первую треть XIX в., Ингрэм пришел к <…> выводу о том, что Большая Игра была вызвана стремлением британцев навязать остальному Человечеству свои представления об устройстве мира, а затем попыткой избежать последствий провала предпринятых усилий. Чтобы аргументировать эту интерпретацию, британский профессор предложил определить Большую Игру как “изобретение англичан в соавторстве с турками, иранцами, афганцами и сикхами, направленное против русских”»14.
Российский журналист М.В. Леонтьев, снявший многосерийный документальный фильм о «Большой Игре», видит её истоки в успешной для России Русско-турецкой войне 1787–1791 годов, взятии Очакова и последующим успешном обретении и освоении Новороссии15. Слова премьер-министра Великобритании Уильяма Питта-младшего, сказанные им в 1788 году во время его выступления в британском парламенте, очень хорошо вписываются в эту канву: «Высокомерие русского кабинета становится нетерпимым для европейцев. За падением Очакова видны цели русской политики на Босфоре, русские скоро выйдут к Нилу, чтобы занять Египет. Будем же помнить: ворота на Индию ими уже открыты»16.
Об этом же периоде в своих работах пишет и британский журналист П. Хопкирк, который утверждал, что именно в 1791 году российская императрица Екатерина Великая уже «обсуждала тщательно разработанный план по освобождению Индии из крепнущей хватки Великобритании»17, хотя, впрочем, «дальше обсуждения плана дело не пошло (Екатерину отговорил её главный министр и бывший любовник, одноглазый князь Потёмкин), но это был первый из длинной цепочки подобных прожектов вторжения в Индию, с которыми русские государи забавлялись ещё около столетия»18.
В то же время П. Хопкирк в своих книгах, посвящённых изучению «Большой Игры», обращает внимание на то, что в странах Запада, политических, научных кругах, средствах массовой информации крайне популярным является воспроизведение подложного «Завещания Петра Великого», первого из российских государей, проявившего интерес к возможному продвижению России в Центрально-Азиатский регион19. Следовательно, период правления в России Петра I также может рассматриваться как одна из отправных точек «Большой Игры».
Как отмечает П. Хопкирк: «Много лет спустя после его кончины (Петра I. – С.Е.) в 1725 году по Европе стала упорно циркулировать странная история относительно последней воли Петра. Как утверждали, на смертном одре он тайно велел своим преемникам и последователям осуществить историческую миссию России – а именно добиться мирового господства. Обладание Индией и Константинополем являлось двойным ключом к такому господству, и Петр настойчиво призывал их не успокаиваться до тех пор, пока город и регион не окажутся в русских руках. Самого документа никто никогда не видел, большинство историков считает, что его никогда не существовало. Но трепет и страх перед Петром Великим были столь велики, что временами в этот документ начинали верить и принимались публиковать различные версии его предполагаемого текста. В конце концов легендарное завещание превратилось в своеобразный наказ, оставленный неугомонным и амбициозным гением грядущим поколениям. Последующее движение России в сторону Индии и Константинополя многим представляется достаточным подтверждением этого факта. Вплоть до недавнего времени на Западе были твердо уверены в том, что долгосрочной целью России является мировое господство»20.
Так как всем в настоящее время доподлинно известно, что Петр I не оставил никакого завещания, чем породил в России, вкупе с изменением в 1722 году традиционного порядка наследования знаменитую «эпоху дворцовых переворотов»21, это распространяемое в странах Запада фальшивое «Завещание Петра Великого», было, очевидно, необходимо для того, чтобы идеологически обосновать русофобскую политику Англии и иных западных держав, а также породить миф о «русской угрозе» для всего человечества. Информационные войны активно велись уже в то время. А вброс данной фальшивки в информационное пространство допустил в 1817 году в своем памфлете «Описание военной и политической мощи России» английский генерал сэр Роберт Томас Вильсон.
Как пишет П. Хопкирк, «если потребуется назвать человека, ответственного за создание мифа о русской опасности, им окажется заслуженный английский генерал сэр Роберт Вильсон. Ветеран многих кампаний, обладавший репутацией человека горячего и вспыльчивого как на поле боя, так и вне его, он давно и внимательно интересовался делами России. Именно он первым предал гласности известные сейчас слова Александра, когда тот в 1807 году поднимался на борт плота в Тильзите: “Я ненавижу Англию не меньше Вас и готов Вас поддержать во всем, что Вы предпримите против неё”. Один из агентов Вильсона лично слышал эти слова царя»22. В своём памфлете со ссылками на данную фальшивку Р. Вильсон писал, что «воодушевленная своим неожиданным могуществом Россия намерена исполнить пресловутое предсмертное завещание Петра Великого и покорить весь мир. Первой целью русских должен стать Константинополь, а затем последует поглощение остатков обширной, но угасающей империи султана. После этого должен был прийти черед Индии»23.
Интерес Петра I к Среднеазиатскому и Центрально-Азиатскому регионам, выразившийся в неудачной экспедиции 1717 года под руководством князя А. Бековича-Черкасского в Хиву, конечно же, не свидетельствует о наличии у Петра I планов по покорению Индии и угрозе британским колониям. Все такого рода утверждения, безусловно, являлись надуманными и притянутыми за уши западной пропагандой. Поэтому началась «Большая Игра» явно не в его правление.
Но страх потерять Индию – основу своего благополучия и процветания стал формироваться у англичан действительно во второй половине XVIII века, которую характеризует широкомасштабная борьба Франции и Англии за мировую геополитическую гегемонию. И шаг за шагом, приближая свою победу в этом противостоянии с французами, англичане стали опасаться появления в лице Российской империи нового конкурента в своей борьбе за эту геополитическую гегемонию. Такого рода опасения появились у них, как видно из вышеприведённых цитат, в правление Екатерины II, но они из опасений переросли в явный страх и панику уже в последний год правления в России императора Павла I, когда стало уже явью прямое и непосредственное военное столкновение Великобритании и Российской империи в союзе с Францией, а значит – стартовал и первый раунд – эпизод «Большой Игры», её отправная точка. В ответ на целую серию враждебных действий антироссийской направленности Павел I расплатился с англичанами заключением союза с Наполеоном Бонапартом и направил донских казаков в поход на Индию. Реакцией англичан на эти действия Павла I стала организация удачного для них государственного переворота в России 1801 года, который можно считать первым, выигранным англосаксами раундом «Большой Игры», поскольку вектор внешней политики России после этого претерпел существенные изменения.
Впрочем, среди отечественных авторов есть и иные точки зрения. Например, уже упомянутый нами журналист А.А. Медведев считает, что «Большая Игра» «началась не в 1856 году и даже не в Русско-персидскую войну 1812 года, не в день убийства Павла I и не с присоединением Крыма Екатериной II. А началась она – и пусть не согласятся с этим многие историки – в 1612 году, когда охваченное смутой Русское государство едва не стало британской колонией»24. Однако такого рода отсылки к Смутному времени, как, впрочем, и у С.Ю. Порохова к эпохе правления Ивана IV25, по нашему мнению, являются не соответствующими действительности. В эти периоды Россия даже близко не могла соревноваться с англичанами в борьбе за мировую геополитическую гегемонию и соответственно восприниматься англосаксами в качестве основного и опасного соперника.
Однако сам факт наличия такого рода отсылок однозначно, на наш взгляд, свидетельствует о наличии другой крайности в изучении «Большой Игры»: когда некоторые авторы, с позиций цивилизационного подхода, необоснованно и чрезмерно расширяют временные и пространственные границы «Большой Игры», фактически отождествляя Англосаксонский мир со всей западноевропейской цивилизацией (великой культурой), а Русский мир – с восточнохристианской (православной) великой культурой. Соответственно трактовка «Большой Игры» в этом понимании фактически сводится к цивилизационному противостоянию, конфликту всего Западного мира с Россией как имперским государственным образованием и центром восточнохристианской великой культуры, начиная с момента возникновения Русского единого централизованного государства, расширения его границ и противодействия этому со стороны различных западных государств. Хотя тут сразу же следует отметить, что державы Англосаксонского мира, стоящие в настоящее время во главе «коллективного Запада» в его противостоянии с Россией, к моменту возникновения Русского единого централизованного имперского государства по большей своей части не существовали, а Англия даже близко не занимала таких позиций в Западном мире, только-только начиная своё движение к обретению геополитической гегемонии в противостоянии с различными европейскими державами. В силу чего именовать многовековое цивилизационное противостояние России с западной цивилизацией «Большой Игрой» будет не корректно.
«Большая Игра» – термин англосаксонского происхождения, он не характеризует взаимоотношения бывшей западнохристианской (ныне секулярной) и восточнохристианской цивилизаций. «Большая Игра» началась в тот период, повторимся, когда англосаксы стали воспринимать Россию как основного своего конкурента в борьбе за геополитическую гегемонию в мире, что произошло после начала Великой французской революции, когда погруженная в революционный хаос Франция перестала восприниматься ими как главный соперник в борьбе за мировую геополитическую гегемонию. Именно в этот период (правление в России императора Павла I), когда Англия и Россия стояли на грани прямого вооружённого конфликта, «Большая Игра» и началась. И началась она не как конфликт-противостояние всего Запада и России, хотя сейчас и приобрела такого рода характер, так как все западные страны находятся под полным контролем англосаксов.
«Большая Игра» – это противостояние Русского и Англосаксонского мира, разных ценностных систем, мировоззрений, мировосприятия, уклада и образа жизни, форм и типов государств и политических систем. Этот конфликт за мировую геополитическую гегемонию явно не завершился в 1907 году, о чем пишут и многие западные авторы. Кто-то говорит, что «Большая Игра» продолжалась вплоть до 1917 года, «когда большевистское правительство разорвало все прежние дипломатические соглашения. К примеру, американская исследовательница Дженнифер Сигел не склонна рассматривать англо-русскую конвенцию 1907 г. в качестве дипломатического шага, положившего конец Игре. Она указывает на то недовольство, которое выражала часть властных элит, особенно военных, в России и Великобритании по отношению к этому документу, стремясь саботировать выполнение его статей. Сигел пишет, что для обеих стран “соглашение 1907 г. оказалось не решением, а временным мостом над пропастью, которая разделяла британские и русские цели в Центральной Азии”. Характерно, что одна из глав ее книги получила название: “Смерть англо-русского соглашения в 1914 г.”. Близкую изложенной выше оценку можно найти в работе британского историка-востоковеда Аластера Лэмба, который также утверждает, что после 1907 г. “игра не закончилась, хотя и заняла второстепенное место в британском дипломатическом календаре”»26. По мнению других исследователей, «Большая Игра» завершилась либо в 1947 году, «когда англичане вынуждены были предоставить независимость государствам на территории полуострова Индостан»27, либо продолжалась весь XX век до настоящего времени. Как пишет П. Бробст: «Большая Игра не завершилась вместе с уходом англичан из Индии в августе 1947 г. Да этого и не ожидали представители ее колониальной администрации»28.