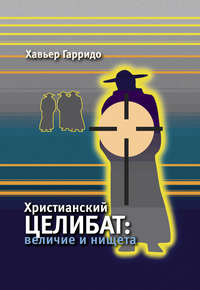Loe raamatut: «Христианский целибат. Величие и нищета», lehekülg 3
4. Целибат как призвание
Призыв
Христианский целибат – это не то, что выбираю я сам, а призыв следовать за Иисусом.
Что действительно уникально в христианстве – то исключительное значение, которое оно придает конкретному человеку: еврею, сыну жительницы Назарета, родившемуся в отдаленном уголке Римской империи, распятому при Понтии Пилате в возрасте 33 лет. Были свидетели, видевшие Его живым и после смерти и погребения. С тех пор Он живет в мире, продолжая историю, начатую в Галилее и завершенную в Иерусалиме. Мы знаем, что Он Податель жизни, потому что Он Господь. И хотя мы не видим Его телесного образа, мы можем почувствовать Его присутствие по разным признакам. Мы замечаем, что Он действует Своим Духом, обновляющим воспоминание о Нем, и делает его действенным вплоть до наступления окончательного Царства.
Христианин, избирающий целибат, – это человек, увлекаемый Духом до такой степени, что выбирает для себя образ жизни Иисуса.
Речь идет не о привлекательности Его Личности, очевидно завораживающей. То, что я выбираю Его стиль жизни, не означает, что я просто идентифицирую себя с «образцом» моих юношеских мечтаний. Это было бы ловушкой, отказом быть самим собой.
Но это и не стремление подражать учителю, находиться ближе к Нему. Подражать и следовать – совсем не одно и то же. Подражание основано на нравственном выборе и стремлении к абсолютному величию души. Следование же – это ответ на призыв Иисуса, Который тебя зовет.
И все же целибат суть любовь вплоть до подражания. Что же такое есть в Иисусе, из-за чего невозможно следовать за Ним, если не принимаешь во внимание то, что Он делал и чему учил?
Царство – это не какое-то дело, которое я мог бы выбрать из числа других проектов. В противном случае целибат был бы последовательным решением полнее посвящать себя распространению ценностей Царства, будь они трансцендентными (аскеза и молитва) или имманентными (справедливость по отношению к притесняемым). Однако Царство находится одновременно и здесь, и за пределами этого мира; оно не может быть объективировано. Оно подобен ветру, который чувствуешь, но о котором не знаешь, ни откуда он налетает, ни куда исчезает.
Призвание
То же происходит с призванием: его открываешь. Иногда внезапно – оно врывается, очаровывает, захватывает. А иногда мягко, подобно легкому дуновению ветерка, завершается долгий процесс, ходом которого, как тебе казалось, ты распоряжался. Но в какой-то момент ты, сам не знаешь как, теряешь управление и не можешь, как ни пытаешься, вновь обрести его.
Евангелия по-разному отобразили этот момент. Они сосредоточились на нем, сократив и отбросив описание предшествующих этапов жизни Иисуса, поскольку очевидно, что большая часть учеников не решилась следовать за Иисусом сразу, под влиянием властно произносимых Им слов. Некоторые из них были последователями Иоанна Крестителя и должны были задавать себе немало вопросов об Иисусе из Назарета. Что в Нем «что-то есть», было ясно всем. Но понимание того, что Он достоин веры настолько, чтобы безоглядно последовать за Ним, – это, скорее всего, плод Пасхи. Между первым моментом увлеченности Им и готовностью оставить все ради Него было много промежуточных этапов.
И все же, читая рассказы о призвании, мы чувствуем, что речь идет о нас, хотя иногда они звучат почти бесчеловечно: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй Царство Божие». Иисус посягает не на что-нибудь, а на святой и благочестивый долг похоронить своего отца (Лк 9, 57–62). Почему же мы чувствуем, что это настолько нас касается?
Кто такой этот Иисус, что Он способен связать нас с Собой и со Своей миссией узами более прочными, чем кровные – самые священные из уз? Библейская и внебиблейская мудрость много раз описывала красоту и чудо супружеской любви: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть» (Быт 2, 24). Такова самая глубокая тайна конечной человеческой сущности: сломать барьеры биологической защиты, чтобы создать общность жизни в любви. И узы крови, и узы любви принадлежат порядку творения, отражающему святую и неприкосновенную Божию волю. Откуда же у Иисуса такое исключительное, всеохватное притязание?
Мы не видели Его – и любим Его больше, чем самих себя.
Не мы Его избрали – но Он нас избрал.
И все же в день, когда мы слышим призыв, мы впервые чувствуем себя свободными. Почему это так?
Не спрашивай, почему
Кто-то сказал, что незачем оправдывать выбор целибата. Человек возлагает его на себя, когда он призван. К чему обосновывать то, что Бог остановил Свой выбор лично на мне?
Весь Ветхий Завет пронизан неоспоримым сознанием этой избранности. Кто же такой этот Бог, заключающий союз верности и спасения ради порабощенного народа? Для Израиля было нелегко нести бремя Его любви, однако Бог не хотел возлагать его ни на какой другой народ.
В Новом Завете целибат рождается при встрече с эсхатологической Любовью. Он явился, чтобы принести огонь на землю. Это любовь страстная, доходящая до готовности умереть за нас, пылающая Любовь Его пронзенного сердца. Он по-прежнему спрашивает нас – деликатно, но настойчиво и горячо: «Петр, любишь ли ты Меня?».
Не спрашивай у того, кто избрал путь целибата, почему он решился на отказ от собственной семьи. Он был возлюблен до безумия. Он содрогнулся, познав Любовь. Ему пришлось, как Моисею, покрыть лице Свое перед Зовущим его. Ему хотелось взвесить свои силы, чтобы как-то обезопасить себя. Почему?
Тот, кто познал притяжение Любви, знает, что не принадлежит себе.
Мы беремся обосновать целибат
Опасность целибата как призвания – в том, что выбравший его подвергается искушению переоценить собственную религиозную значимость. Отсюда так недалеко до сознания избранничества и фанатизма! Разве не худшая из иллюзий – иллюзия, что тебя любят без меры? Только открывая свою ограниченность, говорят психологи, ребенок приходит к познанию меры самого себя, учится уважать других и становится способен не к нарциссической любви, а к любви-дару.
Ответ на эти, без сомнения, важнейшие вопросы и попытается дать вся эта книга в целом. Если я их формулирую здесь, то для того, чтобы яснее проявить контраст света и тени. Мы беремся обосновать целибат, выбирая его мерой зрелости того, кто избрал этот путь. Это вполне законно, но самое странное в целибате заключается в убежденности в том, что Бог – это личная и воплощенная Любовь. Не мне оправдывать Его призвание. Но почему Он захотел избрать меня? Почему Он любит вплоть до безрассудной верности?
Дерзни взглянуть в глаза Иисусу, распятому и воскресшему, Рабу и Господу!..
Целибат – это не «состояние жизни»
Хуже всего то, что даже внутри христианства целибат был сведен к социальному «статусу». Церковь представляется неким институтом, гарантирующим спасение несколькими различными путями. Они связаны с разными состояниями: брак, холостая жизнь, вдовство, целибат (избравшие который делятся на монашествующих и прочих).
Одни живут жизнью простых смертных и реализуют насущные потребности посредством семейных уз, работы, продолжения рода.
Другие же решаются ответить на высшие требования, на самые радикальные призывы Иисуса – соблюдать целомудрие, бедность и послушание. Под руководством особых, необычных людей они объединяются в группы, являющие собой модели более совершенного образа жизни. Уставы и конституции регулируют и регламентируют этот образ жизни, который становится примером для людей, ведущих двойственное мирское существование. Церковь своим авторитетом санкционирует этот совершенный образ жизни, и соблюдающие его обретают свое социальное место, место «посвященных» внутри Народа Божия. Это, конечно, привилегированное положение, тем более что люди, занимающие его, часто обладают политической и идеологической властью.
Я говорю об этом довольно резко, потому что, невзирая на II Ватиканский Собор, обязавший перестраивать этот социорелигиозный порядок, мы еще очень далеки от воплощения провозглашенного Собором (в догматической конституции «Lumen gentium») великого богословского принципа: следование евангельским советам – это не то, что обеспечивает определенное положение между иерархией и мирянами, а то, что рождается по внушению Духа, свободно призывающего к определенной харизматической форме следования за Иисусом – путем принесения обетов.
Я даже отважусь сказать, что для того, чтобы вернуть евангельским советам их пророческую силу для Народа Божия, нужно перестать говорить о целибате как о «жизненном статусе». Конечно, с точки зрения социологов, он таковым и является. Но почему он должен так же восприниматься и внутри Церкви? Да потому, что сама Церковь представляет собой «социальный институт», включающий разные сословия.
Можем ли мы мечтать о такой Церкви, для которой моделью устройства не было бы гражданское общество? Именно люди, живущие в целомудрии, обязаны напоминать Церкви о том, что ее смысл – быть эсхатологической общиной, которую Бог поставил в истории пророческим знаком грядущего Царства.
У всей Церкви в целом, как и у ее членов, живущих в целомудрии, всегда есть искушение защититься от Живого Бога целой системой истин и практик, гарантирующих нынешнее избранничество и будущее спасение. О, если бы мы лучше помнили, что она – искупленная Невеста, следующая за Агнцем туда, куда Он идет, увлекаемая Его любовью, в послушании отданной Отцу ради всего мира!
Миссия всех, кто дал обет целомудрия, – напоминать об этом. Однако мы, со своей стороны, учимся этому у нее. В конце, в завершение, мы получаем от нее тайные соки девственной любви, которую Дух каждый день обновляет в сердце Невесты.
Духом Святым
Святой Дух рождает в сердце верующего харизматическое отождествление, которое мы называем целибатом.
Это кажется прописной истиной, но на самом деле это не совсем так. Я только хочу сказать (мы еще вернемся к этой теме в других главах), что, когда мы анализируем процесс идентификации со своим призванием, можно лишь формально разделять христианское призвание и «особое» призвание к целибату. Призванию к целибату присуща такая глубина связи с Иисусом, что следовать за Ним оказывается возможным только в целомудрии. Абстрактно можно разделять любовь Иисуса и ее экзистенциальную форму целомудрия, и именно так мы будем делать, сравнивая различные харизмы и формы христианской жизни. Однако в реальности лично я, исходя из моей собственной истории веры, не могу любить Иисуса – и при этом делить эту исключительную и безоглядную любовь с кем-то еще.
Здесь харизма не является некоей возможностью среди прочих, служащих для лучшего устройства общины, здесь это – призвание. Святой Дух привлекает меня к Иисусу, и я посвящаю Ему всю свою жизнь. Это посвящение не есть какая-то дополнительная сущность онтологического или почти сакраментального свойства. Посвящение – это не что иное, как любовь, с которой я воспринимаю следование за Иисусом. Из любви я связываю себя верностью Завету и из той же любви выбираю для себя ту форму жизни, которая подразумевает целомудрие.
Эта «особость» любви, порождаемой Святым Духом, есть сущность целибата. Именно это мы называем харизматическим призванием.
Жить по сердцу
Что таит в себе такое призвание? Во-первых, дар жить по сердцу. К сожалению, большинство людей, сознательно или полубессознательно, решает жить в безопасности. Страх перед преходящим характером нашего существования побуждает защищаться: чем старше человек становится, тем этот страх сильнее. Часто это называют «зрелостью» и «реалистичностью». Но жить по сердцу – значит позволить жизни, событиям, людям затрагивать и ранить тебя. Это значит быть открытым, уязвимым, не соглашаться на безопасность – эту утонченную и беспощадную форму безнадежности, – а, наоборот, быть готовым к непредсказуемому, к свободе, к неожиданному замешательству и смятению, которое может возникнуть в твоей жизни.
Строго говоря, жить по сердцу могут только нищие духом, те, кто не задают вопросов, когда они любимы и избраны: ведь им кажется неслыханным подарком то, что кто-то удостоил их своим вниманием. Те, кто любят нерасчетливо. Те, кто разыгрывают в жизни только одну карту – карту любви. Они слабые, как впечатлительные дети, и неустрашимые, как герои, в разгар битвы штурмующие недостижимые вершины…
Призвание к Абсолютной Любви требует большого сердца.
Кроме того, подобное призвание подразумевает веру. Недостаточно быть влюбленным, как невеста, только что открывшая для себя первую любовь. Бог увлекает и очаровывает нас, это так, и, конечно, Иисус из Назарета пробуждает лучшее, что в нас есть. Однако, как и всякая большая любовь, эта любовь не задумывается о риске и легко может быть обманута. Что знает молодой человек, в возрасте 22 лет дающий обет целомудрия, о темных уголках своего сердца? Он вложил столько желания и мечты в то, чтобы отдаться целиком, раз и навсегда! Ему не хватает разочарований зрелости, он еще не испытал и даже ничего не подозревает о простых человеческих нуждах.
Величие и нищета этого призвания – в том, что это призвание любви. Что знает о человеческой участи тот, кто не любил? Только любовь может соединить конечное и бесконечное, время и вечность. И тот, кто был призван к союзу любви не с кем-нибудь, а с Самим Богом, обладает секретным ключом к невыразимой тайне. Но в то же время он должен остерегаться самообмана! Ведь так легко спутать любовь с недостатком ее и потребностью в ней, а Божественное – с нашими желаниями!
Единственный проводник здесь – вера, этот хрупкий спутник, которому известны все опасности пути, ведь она знает, что не она избрала этот путь, и поэтому полагается не на себя.
Призвание Завета и призвание Провидения
Вере удается проживать это призвание, когда она становится послушанием.
Желание принадлежать Господу должно было бы быть основной мудростью. Разве не в этом заключается первая заповедь? Однако Бог – не наша собственность, а благодать нашей жизни.
В то же время Любовь Божия не соперничает ни с какой другой любовью. Если я воспринимаю ее как исключительный призыв, призыв к целибату, это значит, что она превосходит мои естественные желания. До последней своей клеточки я создан как существо, имеющее пол. Как можно притязать на жизнь в любви к Абсолюту? Чтобы это не стало худшей из иллюзий, я должен научиться отличать желание от послушания, свои побуждения – от того, что исходит от Бога, замысел – от призвания.
Это вовсе не значит, что каждому человеку, избравшему целибат, все ясно с самого начала. Призвание – не магическое явление. И хотя иногда оно бывает внезапным и неожиданным, как все, что исходит от Бога, тем не менее, оно не случайно. «Любовь с первого взгляда» оказывается не совсем таковой, если проанализировать ее предпосылки. Для того чтобы обрести свое призвание, приходится пройти через сложные перипетии.
Более того, на мой взгляд, следует различать «призвание Завета» и «призвание Провидения» со всеми оттенками смысла, присущими этим понятиям. Но в обоих случаях определяющим является послушание веры.
«Призвание Завета» непосредственно на опыте проживается как избрание любви. Его ясность помогает определить харизматическое призвание к целибату. Поэтому феноменология целибата, которую я использовал в этой главе, относится именно к этому призванию. Его сила заключается в особом неотразимом притяжении («весе любви», как сказал святой Августин), которое действие Духа пробуждает в сердце и которое так похоже на влюбленность. Его слабая сторона и опасность заключаются в отождествлении желания с верой.
«Призвание Провидения» означает большую опосредованность. Оно не ощущается как непосредственный, немедленный призыв. Так же можно было бы выбрать супружескую любовь. Однако, опираясь на собственную духовную историю, человек может верить, что слушается Господа, выбирая целибат. Преимущество этой формы призвания – в ясности и осознанности выбора. Опасность же заключается в том, что этот выбор основан, скорее, на объективном принципе, а воздержание лишено духа.
5. Парадоксальная идентичность
Идентификация внутри Народа Божия
Название главы звучит, может быть, несколько высокопарно. Хочется задать вопрос, побуждающий к богословскому размышлению: какой элемент лежит в основе посвященной Богу жизни? Правда, после Собора и издания нового «Кодекса канонического права» следует различать просто посвященную Богу жизнь и монашескую жизнь, но в данном случае мы обращаемся к богословскому, а не к юридическому, толкованию.
В ответ на этот вопрос часто приходится слышать: основополагающим и показательным элементом монашества является девственность или безбрачие. В доказательство говорится, что они изначально свойственны монашеству. Действительно, ordo virginum («чин дев») учреждается в Церкви со II века.
Другие, наоборот, не видят причин, почему для понимания призвания к посвященной Богу жизни нужно отдавать предпочтение целибату. Для них это просто один из евангельских советов. Специфика же заключается в принесении обетов согласно трем евангельским советам.
Вопрос кажется схоластическим, и, конечно, здесь не место останавливаться на деталях. И все же за сухой формулировкой следует распознать проблему, с которой сталкиваются многие люди, ведущие посвященную Богу жизнь: проблему их идентификации внутри Народа Божия. Обращаем внимание на то, что идентичность призвания связана с личностной идентичностью. Разве я могу отделить миссию, порученную мне Богом, от моей самореализации? Как верующий – ни в коем случае.
В последующих размышлениях мы как раз стремимся прояснить вопрос идентичности, вновь открывающей свое основание за пределами всякой специфики, как единственный путь ответа. Отсюда и его парадоксальность.
Идентичность и специфика
Целибат часто сразу же воспринимается как неотъемлемый признак «статуса», хотя теперь это происходит все реже, поскольку образ жизни менее определен, чем в традиционном обществе, и существует множество людей, живущих в одиночестве по другим причинам.
У целибата есть то преимущество, что он является элементом-границей. Решение не вступать в брак ясно подчеркивает отличие этого образа жизни от других. Если мы говорим о специфике целибата, ни один другой элемент не является столь очевидным. Бедность и послушание имеют градацию и, в свою очередь, зависят от многообразия путей посвященной Богу жизни. В целомудрии всегда и во всех случаях требуется полное воздержание.
Двусмысленность заключается в смешении элемента-границы с определяющим элементом и, что хуже всего, в желании установить идентичность этого призвания, исходя из отличающего его от других формального признака. Это обман и ловушка абстрактного мышления, отмечающего формальные различия и полагающего, что ему удается улавливать сущность. На мой взгляд, у богословия монашеской жизни давно уже связаны руки, потому что богословы пытаются прояснить специфическое, как если бы в нем был корень идентичности.
Идентичность вырастает не из специфики. Простой пример: женщина формально отличается от мужчины своим полом; однако ее женская идентичность основана не на этом. Пол – это только одна из составляющих ее личности, и если бы она пыталась идентифицировать себя, исходя лишь из сексуальных различий, это привело бы к пагубным последствиям. Наоборот (и в этом парадокс!), чем интенсивнее она будет проявлять себя как личность (в этом она не противостоит мужчине), тем скорее она сможет обрести и свою женскую идентичность.
Вот почему ключ к идентичности человека, живущего в целомудрии, – не в специфике целибата, а в христианском призвании к любви.
Историко-экзистенциальный аспект
Мне кажется, богословие посвященной Богу жизни лежит между двумя противоположными полюсами. Если оно проводит свои исследования, опираясь на противоположные элементы, то возникает ощущение поверхностности и неосновательности. Кто из живущих в целибате видит корень своего призвания в отказе от супружества, противопоставляющем его выбор выбору женатого человека? К сожалению, всегда существовала определенная ветвь в богословии, которая формально основывала наше призвание на отказе. А если искать суть в русле радикального подражания Иисусу, то призвание к посвященной Богу жизни просто совпадает с христианским призванием вообще. И тогда, странным образом, появляются симптомы отсутствия идентичности и создаются невыразительные формулы вроде: «следовать, будучи ближе», «особое подражание», «самое полное выражение крещальных обетов» и т. д.
Разве не было бы проще оставить в стороне вопрос о формальной специфике и, обратившись к богословскому размышлению, включить в него историко-экзистенциальный аспект? Что это означает?
Идентичность призвания человека, живущего в целибате, выражается в разных моментах (не хронологических, а имеющих богословскую основу), которые соответствуют разным уровням опыта и идентификации. Конечно, можно идентифицировать себя по своему выбору отказа от брака, но этот элемент-граница не является основополагающим. В противном случае человек сводил бы свой опыт призвания к чисто морально-юридическому содержанию. Поэтому идентичность призвания живущего в целомудрии человека как выбор образа жизни зависит от его харизматического опыта идентификации. Нелегко понять эту мысль, пока это абстрактное размышление, однако она становится совершенно ясна, если сосредоточиться на конкретном экзистенциальном уровне, присущем призванию, которое мы называем «посвященная Богу жизнь».
Соотносить хаос жизни с Царством
В первый момент идентификации призвание не имеет формы. Я хочу сказать, что это действие, совершаемое Духом в самом центре личности, предшествует всякому внешнему отношению. Призвание – это творческий призыв, и вырастает оно из глубины бытия личности. Главное – принять инициативу Бога в своей жизни. Царство не определяется формальными признаками – ни безбрачия, ни брака. Мы называем это «Божественной жизнью», «притяжением любви», «следованием за Иисусом». Таково радикальное призвание, такова «бесформенность» любви – основы и сути христианского бытия и действия, а значит, первоисточника идентичности.
Но, поскольку мы существуем среди людей, Дух становится воплощенным существованием, а призвание любви выражается в каком-то определенном образе жизни. Эта определенность имеет строгий характер. В противном случае послушание веры могло бы замкнуться само на себя в чисто трансцендентном отношении, не сводимом к форме. Но ему свойственно как раз упорядочивать хаос жизни, соотнося его с Царством, и выражать себя в знаках.
Мы называем харизмой и призванием первоначальный акт, при помощи которого Дух приводит в соответствие «бесформенность» любви и конкретную форму существования. Это может быть христианский брак – как выражение союза между Христом и Его Церковью (см. Еф 5). Или это может быть целибат – как знак эсхатологической формы жизни Иисуса. Но всегда это нечто непредвиденное, свободная благодать Господа.
Тем не менее, в каждом конкретном случае процесс идентификации призвания выражается в совершенно определенных психологических проявлениях и создании разного рода социокультурных моделей. Например, жизнь в целибате подразумевает определенные предпосылки эмоциональной интеграции. Какой смысл имело бы призвание к браку, которое не опиралось бы на действительную историю человеческой любви и общего замысла жизни?
В богословских рассуждениях часто забывали об экзистенциальном характере этой харизмы. Отмечая связь между любовью и ее формой, богословы поспешно заключали, что целибат – это высшее призвание к святости. Однако я настаиваю на том, что специфика харизмы относится к сфере знака, образа жизни, а не любви.
Вновь стать пророческим знаком
Именно теперь мы можем включить понятие «состояние жизни» в общий контекст идентификации призвания. В самом деле, харизмы образа жизни требуют постоянства, если хотят быть знаками Царства. Это характерно и для нерасторжимости христианского брака, и для целибата, этих харизм, которые не зависят от обстоятельств, но требуют всего.
Однако богословие не было напрямую связано с социокультурной моделью «статуса». В конечном счете, специфика устанавливалась самой Церковью через противопоставление разных социальных статусов внутри нее. О том, что христианский целибат существовал прежде, чем возник ordo virginum, было забыто. Потому необходимо освободить целибат от его «статусного» положения, чтобы он мог вновь обрести силу пророческого знака. Тогда не будет нужды утверждать его как высший, «более совершенный» способ, просто потому, что главное в призвании – любовь, а не форма. Но как форму существования, предвосхищающую будущее Царство, его нельзя «одомашнивать».
Иногда возникает впечатление, что из-за своего статуса целибат стал считаться просто одним из образов жизни, среди прочих. В этом случае цена, которую приходится платить человеку, пытающемуся обрести личную идентичность, высока: опыт Духа смещается в сторону «статуса», свободная Божия инициатива – в сторону социорелигиозной системы. Какая разница между переживанием своей идентичности как харизматического опыта и переживанием ее как особой социальной формы! Когда же теряется социальный показатель «статуса» (при переходе от традиционного религиозного общества к секулярному), люди и институты начинают испытывать чувство неустойчивочти. И как может быть иначе, если они строят свою идентичность на специфических формальных элементах, считая себя «более совершенными»?
Любовь никогда не была привилегией
Главный вопрос остается прежним: зачем Святому Духу «нужно» порождать харизму целибата?
Очередной парадокс: ведь важна не форма целибата, а «бесформенность» любви. И все же Церковь не могла бы быть истинным эсхатологическим знаком, если бы не было людей, живущих в целибате.
Как может Дух Иисуса перестать призывать мужчин и женщин следовать за Иисусом, соблюдая образ Его жизни – жизни в целомудрии?
И еще один парадокс: идентичность следования за Иисусом рождается «изнутри», из безоговорочной любви. Соблюдения целомудрия недостаточно для того, чтобы идентифицировать себя как ученика Иисуса, поэтому целибат не является чем-то добавочным по отношению к любви.
Какое таинственное родство существует между «бесформенностью» Божественной жизни и особой харизмой девственности?
Снова парадокс: я знаю, что это соответствие породил не я, но, на мое счастье, оно меня коснулось и я ни на что его не променяю. Я могу от всего сердца сказать: «Ты мое благо» (Пс 16). Стало быть, это привилегия? Только не социальная, конечно. Она была таковой в эпохи, когда общество строилось по религиозным законам, но, когда Иисус начинал Свой мессианский путь, таковой не являлась.
Главное – любить, в какой бы форме жизни это ни выражалось. Когда любовь была привилегией?
Не преуменьшать, но и не преувеличивать
В конце концов, мы возвращаемся к вопросу, поставленному в начале главы: какое место занимает целибат в монашеской (священнической) жизни? Можно ли рассматривать его как основополагающий элемент?
Мне кажется, отвечая на этот вопрос, нужно исходить из нескольких аспектов:
– Классифицировать религиозную (посвященную Богу) жизнь, исходя из целибата как критерия, значило бы непомерно преувеличивать его смысл.
Естественно видеть основу посвященной жизни в любви следования за Иисусом, но последнее нельзя путать с его экзистенциальной формой – целибатом, хотя он и является его ясным знаком.
– Значение целибата как экзистенциального знака и решающего выбора формы жизни обусловлено тем центральным местом, которое занимает во всем этом замысле психоэмоциональное измерение.
Но фактически призвания к посвященной Богу жизни формируются по-разному. Для некоторых целибат становится решающим фактором, для других он – лишь один из элементов.
– Во всех случаях опыт идентификации призвания предполагает психоэмоциональный процесс соотнесения бесформенности Божественной Любви со значимой формой целибата.
Парадоксальность
Откуда, в конечном счете, возникает парадоксальный характер нашей идентичности? Богословы упорно пытаются классифицировать эту харизму. Но, мне кажется, подлинная отправная точка для размышления находится именно в парадоксальности этого призвания.
То, что человеческая любовь была возвышена до уровня Таинства, представляется нормальным. Природа и благодать взаимодействуют (и все же нерасторжимость* (*Здесь автор подразумевает требование постоянства целибата, соотнося его с требованием нерасторжимости брака. – Прим. ред.) – это эсхатологическая харизма!).
Но зачем эта харизма, не имеющая естественных предпосылок? Разве таким образом не становится очевиднее ее эсхатологическое происхождение, несистематичность Царства, свобода Духа?
Tasuta katkend on lõppenud.