Расплетая радугу. Наука, заблуждения и потребность изумляться
Tekst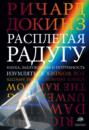


Mine üle audioraamatule
- Maht: 470 lk. 3 illustratsiooni
- Žanr: будущее и технологии
Меня беспокоит, что, преподнося науку как непрерывное легкое и веселое развлечение, мы откладываем неприятности на потом. Подлинная наука может быть трудной (хорошо, чтобы представить вещи в более позитивном ключе, скажу иначе: требующей напряжения), но, подобно классической литературе или игре на скрипке, стоит затрачиваемых усилий. Если увлечь детей наукой или какой-либо другой полезной деятельностью, суля им легкодоступные развлечения, то что они будут делать, когда в конце концов столкнутся с реальностью? Объявления о наборе в армию честно приглашают не на пикник – с их помощью ищутся молодые люди, достаточно преданные и убежденные, чтобы шагать строем. От слова “развлечение” исходят неверные сигналы, которые могут привлечь людей в науку по неверным мотивам. Точно такая же опасность нависла и над изучением литературы. Нерадивых студентов соблазняют лишенным прочной основы “культурологическим” образованием, обещая им, что они проведут свою жизнь за разбором мыльных опер, светской хроники и “Телепузиков”. Естественные науки, подобно настоящему литературоведению, могут быть сложными и требующими усилий, но они, тоже подобно настоящему литературоведению, восхитительны. Наука может окупаться, но, как и великое искусство, не обязана этого делать. И чтобы убедиться в ценности жизни, посвященной выяснению того, почему мы вообще живем, нам не нужны эксцентричные ряженые и забавные взрывы.
Боюсь, что эти мои нападки чересчур резки, но бывают времена, когда маятник так сильно отклоняется в одну сторону, что для восстановления равновесия его нужно как следует подтолкнуть в противоположную. Конечно же, наука – вещь занимательная, в том смысле, что представляет собой полную противоположность скуке. Думающего человека она может увлечь на всю жизнь. Разумеется, показывая опыты, можно сделать научную идею понятной и врезающейся в память. Начиная с самых первых Рождественских лекций Королевского института, прочитанных Майклом Фарадеем, и заканчивая бристольским музеем науки, основанным Ричардом Грегори, непосредственное участие в проведении настоящих научных экспериментов неизменно приводит детей в восхищение. Я сам был удостоен чести читать Рождественские лекции в их современной, телевизионной форме, и тоже полагался в них на большое количество собственноручных опытов и демонстраций. Но Фарадей никогда не занимался профанацией. Мои нападки касаются только определенной разновидности популистского совратительства, оскверняющего чудеса науки.
Ежегодно в Лондоне устраивается большой банкет, где вручаются призы за лучшие научно-популярные книги года. Один из этих призов – за научную литературу для детей – недавно присудили автору книги про насекомых “и прочих жутких противных букашек”. Пожалуй, не самая лучшая манера изъясняться для того, кто вознамерился пробудить поэтическое чувство изумления, но будем терпимы и согласимся с тем, что существуют разные способы привлечь внимание ребенка. Менее извинительным было паясничанье председателя жюри – известной телевизионной персоны (недавно с потрохами продавшейся прибыльному жанру передач о “паранормальном”). С визгом, характерным для фривольной манеры ведущих в телевикторинах, эта дама подстрекала окружающих (взрослых) присоединиться к ее воплям и кривляньям при разглядывании тех самых “противных букашек”. “Фууууу, гадость! Фииии, бяка! Бээээээ!” Вульгарные забавы такого рода принижают чудо науки и могут отбить интерес к ней именно у тех, кто более всего подходит для того, чтобы вдохновляться и вдохновлять ею: подлинных поэтов и настоящих гуманитариев.
Под поэтами я, конечно, подразумеваю художников всех мастей. Микеланджело и Баху платили за прославление тем и предметов, считавшихся в их времена священными, и результаты их труда всегда будут поражать человеческие чувства своим совершенством. Но мы никогда не узнаем, как отозвались бы гениальные способности этих мастеров на заказы совершенно иного сорта. Если мысль Микеланджело “скользила в молчании, как водомерка над глубиной”[13], то что бы могла написать его кисть, ознакомься он с устройством хотя бы одного-единственного нейрона водомерки?! Вообразите, какой Dies irae выдал бы Верди, задумайся он о судьбе, постигшей динозавров 65 миллионов лет назад, когда камень размером с гору показался из космических глубин и на скорости 10 000 миль в час врезался прямо в полуостров Юкатан, после чего мир погрузился во мрак. Попытайтесь представить себе “Эволюционную симфонию” Бетховена, ораторию Гайдна “ Расширяющаяся Вселенная” или эпическую поэму Мильтона “Млечный Путь”. Что же до Шекспира… Впрочем, нет нужды замахиваться так высоко. Для начала сгодятся и менее крупные поэты.
Могу вообразить, как в неком чуждом мире,
В тяжелой первобытной немоте,
В тишине, еще только пытавшейся дышать и жужжать,
Жужжащие птицы колибри помчались по улицам.
Прежде, чем что-либо имело душу,
Когда жизнь была зыбью материи, почти неодушевленной,
Эта крошка колибри вспорхнула живым бриллиантом
И помчалась со свистом среди медленных, мощных,
мясистых стволов.
Пожалуй, цветы не росли в то время,
В том мире, где птица колибри стремительно мчалась
впереди творенья.
Пожалуй, она протыкала медленные вены деревьев
своим длинным клювом.
Возможно, она была огромная,
Как лесные болота, ибо крошечные ящерицы были,
говорят, когда-то огромными.
Возможно, она была ужасное чудовище, птица-меч.
Мы глядим на нее не с того конца длинного телескопа
Времени,
К счастью для нас[14].
Из сборника “Стихи без рифм” (1928 г.)
Стихотворение Дэвида Герберта Лоуренса про колибри от начала и до конца страдает неточностями и, следовательно, на поверхностный взгляд антинаучно. Однако, вопреки всему, такая попытка поэта почерпнуть вдохновение в геологическом прошлом выглядит вполне приемлемой. Лоуренсу просто не хватало пары консультаций по эволюции и систематике, чтобы его стихотворение не выходило за рамки аккуратности, оставаясь ничуть не менее захватывающим и побуждающим к мысли произведением. А после еще одной консультации Лоуренс, сын шахтера, возможно, посмотрел бы другими глазами на горящий в его камине уголь, чья мерцающая энергия в последний раз видела свет дня – была светом дня – в каменноугольном периоде, когда согревала древовидные папоротники, чтобы быть упрятанной в темный погреб земли и запечатанной там на три миллиона столетий. Более серьезной помехой могло бы стать враждебное отношение Лоуренса к тому, что он ошибочно воспринимал как чуждый поэзии дух науки и ученых – ворча, например, будто
“знание” убило солнце, оно для нас – раскаленный газовый шар. <…> В мире разума и науки, в этом сухом стерильном мирке… счастливо обретается лишь абстрактный ум ученого[15].
Почти нехотя признаюсь в том, что мой самый любимый из всех поэтов – это сбившийся с толку ирландский мистик Уильям Батлер Йейтс. В старости он все искал тему для творчества, и искал безуспешно, будучи в конце концов вынужден ограничиться перебиранием своих старых тем, волновавших его в бытность молодым человеком эпохи fin de siècle. Как это печально: сдаться, потерпеть крушение в мечтаниях о язычестве, заплутать среди фей и кельтских наваждений своей восторженной юности, в то время как на ирландской земле всего в часе езды от его поместья располагался самый большой на тот момент телескоп в мире. Этот 72-дюймовый рефлектор был еще до рождения Йейтса сооружен Уильямом Парсонсом, третьим графом Росс, в замке Бирр (ныне телескоп восстановлен седьмым графом). Думаю, одного беглого взгляда в окуляр “Парсонстаунского левиафана” было бы достаточно, чтобы благотворно подействовать на отчаявшегося поэта, написавшего в молодости следующие незабываемые строки:
Тише, сердце, тише! страх успокой;
Вспомни мудрости древней урок:
Тот, кто страшится волн и огня
И ветров, гудящих вдоль звездных дорог,
Будет волей ветра, волн и огня
Стерт без следа, ибо он чужой
Одинокому мужеству бытия[16].
Из сборника “Ветер в камышах” (1899 г.)
Это могли бы быть прекрасные прощальные слова для ученого, как, впрочем, раз уж я об этом задумался, и собственная эпитафия поэта: “Спокойно воззрись / На жизнь и на смерть. / Всадник, промчись!”[17] Но, подобно Блейку, Йейтс вовсе не был почитателем науки, он открещивался от нее, как (абсурд!) от “опиума для предместий”, и призывал нас идти “в наступленье на город Ньютона”. Все это плачевно, и именно подобные вещи побуждают меня писать мои книги.
Китс тоже жаловался на Ньютона, будто тот, объяснив радугу, уничтожил ее очарование. В более широком смысле наука – это якобы отрава для поэзии: сухая и холодная, безрадостная и авторитарная, она лишена всего, о чем только может мечтать молодой романтик. Одна из целей настоящей книги – доказать обратное, но пока я ограничусь непроверяемой догадкой, что Китс, как и Йейтс, был бы еще более великим поэтом, если бы время от времени обращался к науке как к источнику вдохновения.
Говорят, что медицинское образование Китса позволило ему распознать смертельные симптомы собственного туберкулеза – например, когда он с ужасом заметил, что кашляет артериальной кровью. Для него наука не была источником хороших новостей, поэтому не слишком удивительно, что он находил утешение в обеззараженном мире классических мифов, блуждая под звуки цевниц среди наяд, дриад и прочих нимф, подобно тому как Йейтс впоследствии проводил время в компании их кельтских аналогов. Но, каким бы неотразимым ни было творчество обоих поэтов, позволю себе невежливость поинтересоваться, узнали ли бы в нем древние греки и древние кельты свои легенды? Такую ли уж большую службу сослужили эти источники вдохновения великим поэтам? Что, если предубеждения против разума лишь отягощали крылья фантазии?
Моя идея здесь в том, что изумление перед чудом, приведшее Блейка к христианскому мистицизму, Китса – к мифам об Аркадии, а Йейтса – к фениям и феям, представляет собой ровно то же самое чувство, которое движет великими учеными и которое, вернись оно к поэтам в своем научном обличье, могло бы породить поэзию еще прекраснее. В качестве примера призову на помощь менее возвышенный жанр – научную фантастику. Жюль Верн, Герберт Уэллс, Олаф Стэплдон, Роберт Хайнлайн, Айзек Азимов, Артур Кларк, Рэй Брэдбери, а также многие другие использовали образную художественную прозу, чтобы показать романтику научных тем, иногда умышленно увязывая последние с мотивами из античной мифологии. Лучшие образцы научной фантастики – это, по моему мнению, важное самостоятельное литературное направление, которое иные литературоведы высокомерно недооценивают. Далеко не один уважаемый ученый впервые проникся тем, что я называю духом изумления, через увлечение научной фантастикой в раннем возрасте.
В самом нижнем сегменте рынка научной фантастики этот дух эксплуатируется в пагубных целях, но и там связь с мистической и романтической поэзией все еще различима. По меньшей мере одно из крупных религиозных движений, сайентология, было основано писателем-фантастом Л. Роном Хаббардом (чья страница в “Оксфордском словаре цитат” гласит: “Если вы действительно хотите заработать миллион… кратчайший путь – создать свою религию”). Покойные приверженцы культа “Небесные врата” вряд ли знали, что это словосочетание дважды встречается у Шекспира и дважды у Китса, зато знали всё о сериале “Звездный путь”, которым были одержимы. Язык их веб-сайта представляет собой дурную пародию на неверно понятую науку вперемешку с плохой романтической поэзией.
Увлечение сериалом “Секретные материалы” часто защищают как безобидное – ведь в конечном счете все это не более чем выдумка. Если смотреть с таких позиций, подобная защита выглядит вполне честной. Однако мы вправе подвергать нападкам регулярно повторяющиеся выдумки – мыльные оперы, детективные сериалы и тому подобное, – если они систематически демонстрируют односторонний взгляд на мир. В “Секретных материалах” два агента ФБР каждую неделю сталкиваются с какой-нибудь загадкой. Один агент, Скалли, стоит за рациональное, научное объяснение. Другой же, Малдер, склоняется в пользу таких версий, в которых либо имеет место сверхъестественное, либо по меньшей мере воспевается необъяснимое. Проблема “Секретных материалов” в том, что постоянно, из серии в серию, верным оказывается сверхъестественное или как минимум более близкое взглядам Малдера объяснение. Мне говорили, что в последних выпусках даже убеждения такого отъявленного скептика, как агент Скалли, начали расшатываться. Еще бы!
Но ведь это всего лишь безобидная выдумка, не так ли? Нет, по-моему, такие аргументы – пустословие. Представьте себе детективный сериал, где двое полицейских каждую неделю расследуют какое-нибудь преступление. И каждый раз у них оказывается двое подозреваемых: белый и чернокожий. Один из наших детективов всегда склонен больше подозревать первого, а другой – второго. И неделю за неделей преступником неизменно оказывается чернокожий. А что тут такого? Ведь это просто выдумка! Какой бы шокирующей ни была моя аналогия, мне она представляется абсолютно уместной. Я не хочу сказать, что пропаганда сверхъестественного так же опасна и так же отвратительна, как пропаганда расизма. Однако “Секретные материалы” систематически транслируют враждебные рационализму умонастроения, и такое влияние, в силу своей регулярности, может быть незаметным и коварным.
Еще одна выродившаяся форма научной фантастики эволюционировала в сторону толкиеновской фальсифицированной мифологии. Физики трудятся там плечом к плечу с волшебниками, инопланетные пришельцы входят в свиту принцесс, восседающих верхом на единорогах, космические станции с тысячами иллюминаторов выплывают из того же тумана, что и средневековые замки с вóронами (а то и птеродактилями), кружащимися над готическими башенками. Настоящую или расчетливо модифицированную науку автор подменяет волшебством, выбирая таким образом путь наименьшего сопротивления.
Хорошая научная фантастика не имеет дела с волшебными чарами, а исходит из того, что мир организован упорядоченно. В ней присутствует тайна, но Вселенная не капризничает и не жульничает. Если вы положите на стол кирпич, он останется там до тех пор, пока что-либо не сдвинет его с места, и будет лежать, даже если вы о нем забудете. Ни полтергейст, ни феи не вмешаются и не станут перебрасывать его туда-сюда из недоброжелательства или проказы ради. Научная фантастика может намеренно играть с законами природы, предпочтительно с каким-то одним зараз, но невозможно, оставаясь в рамках хорошей научной фантастики, отменять сам факт существования этих законов. Вымышленные компьютеры могут быть обладающими сознанием злодеями и даже, как в блестящих научно-фантастических комедиях Дугласа Адамса, параноиками; космические летательные аппараты могут искривлять пространство и перемещаться в далекие галактики, используя некую гипотетическую технологию будущего. Однако все научные приличия остаются соблюденными. Наука допускает загадки, но не магию; необычность, выходящую за рамки самого разнузданного воображения, – пожалуйста, но никакого колдовства, никаких дешевых и легких чудес. А плохая научная фантастика теряет связь даже с умеренным соблюдением законов природы, подменяя их суррогатом небрежно расточаемого по любому поводу волшебства. Худшие образцы жанра уже вплотную примыкают к литературе о “паранормальном” – еще одному праздному, незаконному порождению того чувства изумления, которое должно стимулировать подлинную науку. Из популярности псевдонауки такого рода следует, по крайней мере, что чувство изумления, хоть и растрачивается не по назначению, все же широко распространено и искренно. Это, мне кажется, единственный утешительный аспект нынешней, на заре нового тысячелетия, одержимости СМИ паранормальным: начиная с оглушительного успеха “Секретных материалов” и заканчивая стандартными фокусами, которые в популярных телешоу лживо преподносятся как попрание законов природы.
Но давайте вернемся к лестному комплименту Одена и нашему противоположному по смыслу варианту той же фразы. Почему, в самом деле, многие ученые чувствуют себя бедными викариями в компании герцогов от литературы и почему значительная часть общества тоже так их воспринимает? Студенты-естественники моего университета время от времени говорят мне (с горечью, ибо мнение ровесников играет в их среде большую роль), что их специальность не считается “крутой”. Это можно проиллюстрировать и на примере бойкой молодой журналистки, с которой я познакомился в ходе недавнего цикла теледебатов на “Би-би-си”. Она казалась почти что заинтригованной тем, что познакомилась с представителем естественных наук, так как, по ее собственному признанию, в Оксфорде ей не довелось узнать ни одного. Ее круг общения держался от них на расстоянии: их считали “серостью”, особенно соболезнуя их прискорбной привычке просыпаться до обеда. Помимо прочих абсурдных излишеств, эти несчастные ходили на лекции к девяти часам, а потом все утро вкалывали в своих лабораториях! Великий гуманист и гуманитарий Джавахарлал Неру, как и подобает первому премьер-министру страны, которой не до безделья, смотрел на вещи более здраво:
Только лишь науке под силу решить проблемы голода и бедности, антисанитарии и неграмотности, суеверия и удушающих обычаев и традиций, огромных ресурсов, растрачиваемых впустую, и богатой страны, населенной голодающими людьми… Кто сегодня может позволить себе роскошь пренебрегать наукой? На каждом шагу мы вынуждены обращаться к ней за помощью… Будущее принадлежит науке и тем, кто с ней дружит[18].
(1962 г.)
Тем не менее та самоуверенность, с которой ученые иногда заявляют, как много нам известно и сколько пользы в состоянии принести наука, может переходить и в заносчивость. Знаменитый эмбриолог Льюис Вольперт как-то раз согласился с тем, что наука порой бывает высокомерна, однако тут же мягко заметил, что у нее действительно есть чем кичиться. Питер Медавар, Карл Саган и Питер Эткинс тоже высказывались сходным образом.
Высокомерны или нет, но мы признаем, хотя бы на словах, что наука развивается за счет опровержения своих гипотез. В этом смысле очень типично шутливое преувеличение Конрада Лоренца: отец-основатель этологии говорил, что хотел бы опровергать как минимум по одной из дорогих своему сердцу гипотез каждый день перед завтраком. В самом деле, публично признав свою ошибку, ученый сильнее поднимет свой авторитет среди коллег, чем, скажем, юрист, врач или политик. В студенческие годы одно из сильнейших впечатлений произвело на меня выступление приглашенного из Америки лектора, который представил доказательства, окончательно и бесповоротно опровергавшие любимую теорию всеми уважаемого пожилого деятеля из нашего отделения зоологии – теорию, на которой мы все выросли. По окончании лекции старик поднялся, вышел вперед, горячо пожал американцу руку и громким взволнованным голосом заявил: “Дорогой коллега, мне хотелось бы поблагодарить вас: последние пятнадцать лет я заблуждался”. Мы аплодировали так, что отбили ладони докрасна. В какой еще профессии признание собственной ошибки встречает столько великодушия?
Наука движется вперед, исправляя свои ошибки, и не делает тайны из того, чего она пока что не понимает. Однако многими все воспринимается с точностью до наоборот. Бернард Левин, в бытность свою колумнистом в “Таймс”, время от времени разражался гневными тирадами в адрес науки, одна из которых, от 11 октября 1996 года, называлась “Бог, я и доктор Докинз” с подзаголовком “Ученые не знают, и я тоже – но я, по крайней мере, знаю о том, что я не знаю”. Заметка предварялась карикатурой, изображавшей меня в виде Адама (кисти Микеланджело), наткнувшегося на указующий перст Бога. Любой ученый тут решительно возразит, что самая суть науки состоит в том, чтобы знать, чего именно мы не знаем. Это-то знание и движет нас к открытиям. Еще раньше, в колонке от 29 июля 1994 года, Левин потешался над понятием кварков (“Кварки идут! Кварки наступают! Спасайся кто может!..”). Затем, после шпилек по поводу “доблестной науки”, подарившей нам мобильные телефоны, складные зонтики и зубную пасту с разноцветными полосками, он вдруг впадает в напускную серьезность:
Можно ли есть кварки? Можно ли застелить ими свою постель, когда наступят холода?
Подобные издевки вообще-то не заслуживают ответа, однако через несколько дней кембриджский физик и специалист по металлургии сэр Алан Коттрелл удостоил их двух предложений в своем письме в редакцию:
Сэр, мистер Бернард Левин спрашивает: “Можно ли есть кварки?” По моим оценкам, он съедает 500 000 000 000 000 000 000 000 001 кварк в день… Искренне Ваш…
Честно признаваться в своем неведении – хорошее качество, но в гуманитарных вопросах никакой редактор не потерпит такого торжествующего невежества, и будет совершенно прав. Тем не менее в некоторых кругах мещанское пренебрежение к естественным наукам до сих пор считается чем-то остроумным. Иначе как объяснить следующую шуточку нового редактора лондонской “Дейли телеграф”? В статье сообщалось о том шокирующем факте, что треть населения Британии все еще считает, будто Солнце вращается вокруг Земли. В этом месте редактор вставил комментарий в квадратных скобках: “[А разве нет? – Прим. ред.]”. Если бы какой-нибудь опрос вдруг показал, что треть британцев автором “Илиады” считает Шекспира, ни один редактор не стал бы прикидываться, будто не знает Гомера. Но в обществе считается приемлемым, когда кто-то выхваляется невежеством в естественных дисциплинах или с гордостью заявляет о своем незнании математики. Я уже высказывался на эту тему достаточно часто, чтобы прослыть занудой, так что позвольте мне процитировать Мелвина Брэгга, одного из наиболее заслуженно уважаемых британских авторов, пишущих о культуре. Отрывок взят из его книги об ученых “На плечах гигантов” (1998 г.).
Все еще остались люди, достаточно жеманные для того, чтобы признаваться в своем полном незнании естественных наук так, будто это дает им какое-то превосходство. В действительности же это выглядит весьма по-дурацки и отводит им место на самом краю той набившей оскомину британской традиции интеллектуального снобизма, которая относится к любому знанию, особенно научному, как к “ремеслу”.
Сэр Питер Медавар, этот хулиганствующий нобелевский лауреат, уже упоминавшийся мною, тоже говорил о “ремеслах” нечто подобное, едко высмеивая неприязнь британцев ко всему практическому.
Говорят, будто бы в Древнем Китае вельможи отращивали себе на руках ногти – или хотя бы один ноготь – до такой непомерной длины, чтобы быть очевидно неспособными ни к какому ручному труду, как бы сообщая всем, что они существа слишком утонченные и возвышенные для подобных занятий. Эта традиция не может не прийтись по душе англичанам, которые по части снобизма оставили все другие нации далеко позади. Наше изысканное отвращение к прикладным наукам и ремеслу сыграло немалую роль в том, что на мировой арене Англия достигла того положения, которое занимает сегодня.
“Границы науки” (1984 г.)
Антипатия к науке может принимать формы совсем уж вздорные. Взгляните на этот гимн ненависти к “ученым”, опубликованный писательницей и феминисткой Фэй Уэлдон все в той же “Дейли телеграф” 2 декабря 1991 года (я ничего не хочу сказать этим совпадением – у газеты деятельный научный редактор и новости науки освещаются в ней прекрасно):
Не ждите, что мы будем любить вас. Вы много наобещали и обманули ожидания. Вы никогда даже не пытались ответить на те вопросы, которые мы все задаем в шестилетнем возрасте. Куда ушла тетушка Мод, когда умерла? Где она была, прежде чем родиться?
Обратите внимание, что это обвинение – полная противоположность тому, в чем обвинял ученых Бернард Левин (будто бы они не знают, когда не знают). Если бы я попытался высказать простое, прямое и наиболее вероятное предположение в ответ на любой из двух предложенных вопросов про тетушку Мод, меня наверняка назвали бы самонадеянным и бесцеремонным – выходящим за рамки того, что мне может быть известно, за пределы науки. Мисс Уэлдон продолжает:
Эти вопросы кажутся вам примитивными и бестолковыми, однако нас интересуют именно они. Кому какое дело, что там было через полсекунды после Большого взрыва! Как насчет того, что было за полсекунды до него? А что вы скажете про круги на полях?.. Ученые просто не могут смотреть в лицо фактам об изменчивой Вселенной. Мы – можем.
Она нигде не поясняет, кого именно имеет в виду под этим всеобъемлющим антинаучным “мы”, и не исключено, что сегодня сожалеет о тоне своей статьи. Но стоит задуматься о причинах такой неприкрытой враждебности.
Еще один пример антинаучной риторики – правда, на сей раз задумывавшийся как забавный – это статья Э. Э. Джилла, невоздержанного на язык шутника-колумниста из лондонской “Санди таймс” (8 сентября 1996 г.). Он отзывается о науке как о чем-то ограниченном экспериментами и нудными, тяжелыми проверками на практике, противопоставляя ее искусству и театру: волшебству огней, блесткам, музыке и аплодисментам.
Бывают звезды и звезды, моя дорогая. Одни – скучные, повторяющиеся закорючки на бумаге, а другие – сногсшибательные, остроумные, дающие пищу для размышлений, невероятно популярные…
“Скучные, повторяющиеся закорючки” – это намек на открытие пульсаров Белл и Хьюишем в 1967 году в Кембридже. Джилл писал рецензию на телепередачу, в которой астрофизик Джоселин Белл Бёрнелл вспоминала то захватывающее дух мгновение, когда она взглянула на распечатку данных с радиотелескопа Энтони Хьюиша и осознала, что наблюдает во Вселенной нечто прежде неслыханное. Она была молодой женщиной в самом начале своего профессионального пути, и “скучные, повторяющиеся закорючки” на рулоне бумаги отозвались в ее душе ощущением революции: то было не просто что-то новое под солнцем, но новая разновидность солнца – пульсар. Пульсары вращаются с огромной скоростью: если нашей планете требуется 24 часа, чтобы обернуться вокруг своей оси, то пульсар проделывает это за доли секунды. Однако пучку излучения, который несет эту новость, вращаясь, подобно лучу маяка, с такой поразительной скоростью и отсчитывая секунды точнее, чем кристалл кварца, могут потребоваться миллионы лет, чтобы добраться до нас. Моя дорогая, как скучно-скучно! Как чудовищно практично, милочка! Покажите мне снова сверкающее конфетти в шоу мимов.
Я не думаю, что такая капризная, поверхностная неприязнь к науке проистекает из общечеловеческой склонности казнить гонца или из обвинений в политических злоупотреблениях вроде водородной бомбы. Нет, во враждебности из процитированных мной отрывков мне слышится более личное беспокойство – чувство почти что опасности, осажденности, страха унижения из-за того, что естественно-научные дисциплины кажутся слишком трудными для освоения. Как ни странно, я бы не осмелился зайти так далеко, как Джон Кэри, профессор английской литературы из Оксфорда, написавший в предисловии к своей восхитительной “Фаберовской[19] книге естественных наук” (1995 г.) следующее:
Орды претендентов, ежегодно сражающихся за места на гуманитарных отделениях британских университетов, и жалкие горстки абитуриентов-естественников свидетельствуют о том, что молодежь потеряла интерес к науке. И хотя большинство преподавателей поостережется высказать это открыто, общее мнение, по-видимому, таково: гуманитарные курсы популярнее в силу того, что они проще и что основная масса студентов-гуманитариев просто не дотягивает до требований к интеллекту, предъявляемых к тем, кто изучает естественнонаучные дисциплины.
Некоторые из изобилующих математикой наук, возможно, и в самом деле трудны, но ни у кого не должно возникать проблем с пониманием кровообращения и той роли насоса, которую в этом процессе играет сердце. Кэри рассказывает, как он процитировал группе из тридцати студентов последнего года, изучавших английскую филологию в одном из величайших университетов мира, строки Джона Донна: “Каким путем, скажи мне, кровь ведома / От одного желудочка к другому?” – и затем спросил, а как же на самом деле перемещается кровь. Никто не смог ответить, только один осторожно предположил: “Путем осмоса?” И это не просто неверно. Что еще поразительнее, это скучно. Скучно по сравнению с правдой о том, что общая протяженность сосудов, по которым сердце гонит кровь от одного желудочка к другому, составляет более 50 тысяч миль. Зная, что в человеческом теле упакован трубопровод длиной 50 тысяч миль, вы без труда догадаетесь, насколько большинство этих трубочек должны быть тонкими и причудливо разветвленными. Я думаю, что любому истинному гуманитарию эта идея покажется захватывающей. И в отличие от, скажем, квантовой теории или теории относительности, понять ее совсем не сложно, труднее, быть может, в нее поверить. Так что я смотрю на вещи более благосклонно, чем профессор Кэри, и подозреваю, что учителя-естественники просто не уделили должного внимания этим молодым людям и недостаточно их вдохновляли. Возможно, упор на практические опыты, который делается в школе, идеально подходит для одних детей, но оказывается чрезмерным, а то и попросту контрпродуктивным для других, не менее умных, но обладающих умом иного склада.
Не так давно я делал телепрограмму о месте науки в нашей культуре (собственно говоря, это была та самая передача, о которой писал Э. Э. Джилл). Среди множества полученных мной писем с благодарностями было одно, начинавшееся весьма колко: “Я преподаватель игры на кларнете и из школьного курса естествознания помню только, как мы в течение долгого времени изучали бунзеновскую горелку”. Прочтя это письмо, я подумал о том, что можно ведь наслаждаться знаменитым концертом Моцарта, и не умея играть на кларнете. Можно даже стать выдающимся знатоком музыки, не будучи способным сыграть ни единой ноты ни на одном инструменте. Конечно, музыка прекратила бы развиваться, если бы никто не учился играть ее. Но если бы все росли в убеждении, что музыка – синоним музицирования, представьте, скольким людям это обеднило бы жизнь.
Нельзя ли нам приучиться и о науке размышлять подобным образом? Разумеется, необходимо, чтобы некоторые люди – причем одни из самых ярких и лучших – готовили себя к практическим занятиям наукой. Но вместе с тем разве нельзя преподавать естествознание как то, о чем можно читать и чем можно наслаждаться, подобно тому как возможно научиться слушать музыку, не изнуряя себя упражнениями на беглость пальцев? Китс уклонялся от занятий в прозекторской, и кто станет винить его в этом? Дарвин поступал точно так же. Возможно, если бы Китса обучали не столь прикладными методами, он относился бы к науке и к Ньютону с большей симпатией.
