Долгий '68
Tekst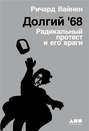


Mine üle audioraamatule
- Maht: 570 lk. 31 illustratsiooni
- Žanr: Välis-ajakirjandus, populaarne ajalugu
Глава 4
Соединенные Штаты Америки

Линдон Джонсон (который вскоре станет ненавистным для радикальных левых) с Робертом Кеннеди (которым вскоре некоторые левые начнут восхищаться)
Соединенные Штаты сыграли в «долгом 68-м» решающую роль. Внешняя политика американского правительства – особенно в Индокитае – вызывала ненависть по всему миру, но одновременно Америка задавала тон для протестных движений в западных странах. Важное значение в этом имел временнóй фактор. Те разновидности протестных движений, которые стали столь привычными к концу 1960-х годов, в США нередко появлялись на несколько лет раньше – произрастая, например, из движения за гражданские права. Тем не менее к концу 1960-х и особенно в самом 1968-м веру в Америку утратили как радикалы, так и охранители.
Некоторые американцы вспоминают о 1968 годе как о каком-то физическом недуге. Государственный секретарь Дин Раск рассказывал, что весь год провел «как в тумане», выживая на аспирине, виски и сигаретах[199]. Журналистка и писательница Джоан Дидион писала: «[Сейчас, когда прошло время,] приступы головокружения и тошноты вовсе не кажутся мне неподходящей реакцией на лето 1968-го»[200]. Политик-демократ и общественный деятель Дэниэл Патрик Мойнихэн был тогда уверен, что страна подошла к грани «нервного срыва»[201]. В свою очередь, люди, находившиеся у власти, чувствовали себя в настоящих тисках: с одной стороны на них давили военные неудачи на вьетнамских фронтах, а с другой стороны – политические проблемы, создаваемые антивоенным сопротивлением в самой Америке и за рубежом. Линдон Джонсон, который не отличался чуткостью в отношении подчиненных, всерьез опасался того, что его министр обороны Роберт Макнамара покончит с собой[202].
Но и выступавшие против правительства, как правило, чувствовали себя не лучше. Отчасти это было связано с тем, что год закончился избранием Ричарда Никсона, к которому либеральные американцы испытывали крайнюю антипатию. Правление Никсона было отмечено эскалацией агрессии в Индокитае, пусть даже сопровождавшейся постепенным осознанием того, что Соединенным Штатам придется в конечном счете отступить, а также грязью Уотергейта. Более того, некоторые студенческие активисты полагали, что в 1968-м радикальные настроения начала 1960-х выродились в насилие, ожесточенные внутренние распри и новую одержимость идеологической ортодоксией. Джеймс Миллер, член организации «Студенты за демократическое общество» (СДО), писал, что «к концу десятилетия движение рухнуло… оставив после себя рассеивающееся облако слезоточивого газа, наркотиков и псевдомарксистского жаргона»[203]. Один из товарищей Миллера по СДО также признавал, что конец 1960-х для многих стал «комнатой ужасов»[204].
Разочарование конца 1960-х годов в США в значительной мере было связано с тем периодом, который иногда называют «эпохой невинности» и который отмечал начало этого десятилетия. Тогда многие не сомневались в том, что «новым левым» удастся избежать сектантской исключительности, ассоциируемой с марксизмом, и что ненасилие и межрасовый альянс кампании за гражданские права укажут путь к политике нового типа. Спустя десять лет от этих идеологических иллюзий не осталось и следа: с ними покончили насильственные методы борьбы, к которым обратились левые, а также подъем контркультуры, которая увеличивала дистанцию между студенческими радикалами и традиционными левыми силами, включая, прежде всего, рабочее движение.
В центре политических распрей 1960-х годов в Соединенных Штатах – по крайней мере, первой половины этого десятилетия, – был фундаментальный вопрос о том, что же такое сама Америка. Радикалы зачастую изображали себя защитниками подлинных национальных традиций, а не новаторами или импортерами внешних заимствований. Том Хайден, самый известный в США студенческий лидер, позже отмечал, что радикализм 1960-х не ограничивался желанием разрешить конкретные проблемы, но представлял собой попытку «переделать всю Америку», по масштабу сопоставимую с принятием Декларации независимости или с Гражданской войной[205]. Пессимизм конца 1960-х стал оборотной стороной оптимизма, преобладавшего в начале десятилетия. Американские радикалы, которые боролись с собственным правительством, осуждали Америку с особенной горечью, потому что считали, что их страна не выполняет своего высокого предназначения.
Истоки
Если многие в Соединенных Штатах воспринимали 1968-й год как конец эпохи, то где же было ее начало? Движение «новых левых» было не таким уж и новым, как полагали некоторые молодые американцы. Хотя в 1968 году один из «пехотинцев» университетской оккупации назвал Тома Хайдена «отцом-теоретиком "новых левых"»[206], сам Хайден знал, что понятие «новые левые» ввели в оборот два его старших товарища. Первым и самым известным из них был социолог Чарльз Райт Миллс (1916–1962). Этот профессор Колумбийского университета и любитель кожанок, мотоциклов и женщин, в глазах юных радикалов старался выглядеть «своим», своего рода старшим братом. Хайден, который написал свою диссертацию о Миллсе, считал, что «после Альбера Камю и Боба Дилана он оказал наиболее решительное влияние на первое поколение членов СДО»[207]. Особенно важными были три книги Миллса. В «Новых людях власти» (The New Men of Power: America's Labor Leaders, 1948) разъяснялось, как профсоюзы стали основой политики консенсуса в Соединенных Штатах. Книга «Белые воротнички: американский средний класс» (White Collar: The American Middle Classes, 1951) впечатляла студентов из-за того, что в ней описывался мир их отцов – мир, в котором они сами так боялись оказаться. Наконец, «Властвующая элита» (The Power Elite, 1956) акцентировала внимание на небольшой группе людей, которые управляли американской политикой.
Вторым мыслителем, который вдохновлял студенческих радикалов, стал Майкл Харрингтон, родившийся в 1928 году. Харрингтон был редактором церковной газеты The Catholic Worker и способствовал распространению в США одного из направлений европейского – прежде всего французского – социального католицизма. К тому моменту, когда церковь на Втором Ватиканском соборе вплотную подошла к разделяемым им социальным идеям, он уже потерял веру, хотя религия и в последующем казалась ему важным элементом общественной жизни. Харрингтон получил известность благодаря своей книге «Другая Америка: бедность в Соединенных Штатах» (The Other America: Poverty in the United States, 1962), которая была посвящена жизням американских бедняков – людей с доходом менее 3 тысяч долларов в год. Книга сделала Харрингтона настолько популярным, что вскоре ему – к его огромному смущению – стали предлагать по 1500 долларов за одну лекцию[208].
Харрингтон и Миллс не всегда и не во всем соглашались как друг с другом, так и с нарождающимся студенческим движением. Харрингтон критиковал некоторых студенческих лидеров, а Миллса, вероятно, от этой участи уберегла ранняя смерть. Харрингтон, в отличие от Миллса, был последовательным антикоммунистом. Он также был близок к организованным профсоюзам, которые Миллс презирал, и со скепсисом относился к успехам кубинского режима Кастро, которым Миллс восхищался. Но что объединяло Харрингтона и Миллса и придавало им обоим столь значительный вес, так это их общий интерес к университетским кампусам как площадкам для распространения радикальных идей, а также обладание личной харизмой, которая привлекала широкое внимание.
Гражданские права
Американский радикализм 1960-х частично коренился в движении за гражданские права, начало которому положили попытки десегрегации южных штатов. Движение начало привлекать всеобщее внимание с середины 1950-х, после решения Верховного суда покончить с раздельным обучением в школах, а также в связи с бойкотом городских автобусов в Монтгомери, штат Алабама. Все это происходило в 1955–1956 годах, хотя истоки лежали гораздо глубже. Многие активисты-правозащитники были людьми в возрасте: например, Роза Паркс, которая инициировала автобусный бойкот, родилась в 1913 году. Движение было тесно связано с протестантской церковью – особенно после того, как родившийся в 1929 году священник Мартин Лютер Кинг стал его наиболее видным лидером.
В некоторых отношениях движение за гражданские права было довольно консервативным. У него имелись четко обозначенные цели. Его активисты были озабочены состоянием общественных и социальных учреждений страны, включая школьные, судебные, электоральные институции. Движение стремилось к тому, чтобы решения федерального правительства соблюдались по всей стране. Одновременно его отличали и оригинальные черты. Лидеры движения провоцировали противодействие местным властям и, в частности, экспериментировали с ненасильственными методами сопротивления, которые были заимствованы у индийской кампании Махатмы Ганди. Впрочем, вопреки намерениям лидеров движения за гражданские права, на ранних этапах его истории насилия тоже хватало.
По мнению многих белых либералов, южные штаты представляли собой такие края, которых желательно избегать, а уж если угораздило там родиться, то нужно просто оттуда уехать. Для таких людей расизм был морально отвратительным, но политически малоинтересным. Чарльз Райт Миллс покинул Техас, когда ему было около 20 лет. Позже он писал: «Я никогда не интересовался так называемой "негритянской проблемой"… По правде говоря, с исследовательской точки зрения она меня вообще никогда не занимала. У меня было ощущение, что, если я начну ее изучать, то она превратится в "белую" проблему»[209]. Харрингтон интересовался вопросами расового неравенства больше, чем Миллс, и был ближе к движению за гражданские права, хотя ему не очень нравился присущий ему «хаос панибратского парламентаризма» (amiable parliamentary chaos)[210].
Тем не менее в начале 1960-х студенческие активисты стали остро интересоваться «негритянским вопросом». Отчасти этот интерес проистекал из открывшегося им факта бедности и угнетения в их собственной стране. По своему драматизму это открытие можно было сравнить с открытием «третьего мира» европейскими левыми, которое состоялось примерно в то же время. Молодые люди отправлялись на Юг, чтобы присоединиться к протестам – наиболее известной массовой акцией такого рода стало «Лето свободы» 1964 года. Белые студенты увидели, как относятся к чернокожим в южных штатах и в какой-то мере даже испытали это отношение на себе: их избивали полицейские, они попадали в тюрьмы, а иногда их убивали. Для радикально настроенных студентов тема расы не была ни «белой проблемой», которую можно решить, просто изменив поведение расистов, ни «политической проблемой», которая снимается посредством уступок. Для некоторых из них сама по себе борьба была благородным делом. Сандра Кейсон, техасская студентка и сторонница нетрадиционного христианства, рассказывала, что чувствовала «некоторую жалость к сегрегационистам». Для нее кампания за гражданские права была не просто политической акцией. При этом, правда, девушка добавляла – и такое дополнение через несколько лет многим показалось бы странным, – что ни «революцией», ни «бунтом» она тоже решительно не являлась. По словам Кейсон, кампания заставила «всех нас, негров и белых, осознать, что можно стать менее бесчеловечными людьми через сопричастность и содействие». Она говорила, что посвятила бы себя кампании даже в том случае, если бы заранее знала, что в результате ее усилий «[для чернокожих] все равно не удастся открыть ни одной барной стойки»[211].
«Студенты за демократическое общество»
Студенческий координационный комитет ненасильственных действий (The Student Non-Violent Co-Ordinating Committee) был основан в 1960 году, чтобы поддержать движение за гражданские права. В начале 1960-х эта организация способствовала радикализации разнообразных политических инициатив, с которыми выступали студенты. Эти инициативы реализовались во многих американских колледжах: в Калифорнийском университете в Беркли в 1957 году появилось объединение «Доска» (Slate); потом возникли «Голос» (Voice) в Мичиганском университете, «Пол» (Pol) в Чикагском университете, «Политический клуб» (Political Club) в Суортмор-колледже, Прогрессивный альянс студентов (Progressive Student Alliance) в Оберлинском колледже, «Токсин» (Tocsin) в Гарвардском университете.
Затем группа студентов Мичиганского университета задумалась о создании общенационального объединения. Первейшую роль в реализации этого проекта сыграли Том Хайден и Алан Хабер, известные мичиганские радикалы. Поначалу Хайден сделал ставку на уже существующую «Национальную студенческую ассоциацию» (National Student Association), но довольно скоро в ней разочаровался, поскольку, во-первых, организация с опаской относилась к прямому действию, а во-вторых, ему не удалось избраться ее вице-президентом. После этого Хабер убедил его посвятить свои усилия организации «Студенты за демократическое общество» (СДО), которая выделилась в 1960 году из уважаемой, но скромной организации «Студенческая лига за индустриальную демократию» (Student League for Industrial Democracy).
«Студенты за демократическое общество» организационно были достаточно рыхлым объединением, в котором доминировала горстка студентов, представлявшая еще меньшее число университетов. Организация собрала под своей крышей структуры, действующие в различных университетах, но не контролировала их напрямую. По оценкам Хайдена, изначально в СДО состояло около 800 членов, которые платили членские взносы, а в списке почтовой рассылки было около 2000 имен. Согласно другим данным, в 1962 и 1963 годах в организации насчитывалось 9 ячеек и 400 членов. Даже ее лидеры точно не знали, кто связан с их движением. Когда Тодд Гитлин в 1965 году совершал тур по стране, агитируя за СДО, он обнаружил три новые ячейки, о которых раньше не знал[212]. Более того, наличие имени в списках отнюдь не означало активного членства: когда обнародовали личность «левака», застрелившего Кеннеди, Хайдену пришлось проверять, не было ли имени Ли Харви Освальда в рассылке СДО[213].
Наиболее важная акция СДО состоялась в 1962 году, когда несколько десятков молодых людей собрались в Порт-Гуроне, в кемпинге, принадлежавшем Объединенной ассоциации работников автомобильной промышленности (United Auto Workers Association). Бревенчатые хижины, лесные тропинки, пляжи и столовые создавали атмосферу летнего лагеря для подростков. В собравшуюся здесь группу входили в основном друзья и знакомые, отобранные на основе личных контактов. Некоторые из присутствовавших представляли семьи, где были сильны левые убеждения, и поэтому разговоры об усталости от идеологий им были неприятны. Тем не менее даже их воодушевляли не столько политические требования, сколько эмоции. Это отличало собрание от аналогичных мероприятий, проводимых в Европе.
Встреча завершилась принятием Порт-Гуронской декларации. По большей части текст был составлен Томом Хайденом, отразив отличавшие его самоуверенность, моральное рвение и социологический жаргон. В документе выражалось несогласие с материалистическими ценностями современной Америки и технократическими приоритетами, которые свидетельствовали, по мнению его создателей, о том, что нынешнее поколение «имеет программу, но не имеет видения» (program without vision). Авторы декларации исходили из того, что реальные разграничительные линии в американской политике проходят скорее внутри партий, а не между ними. В частности, в документе подчеркивалась роль «диксикратов» – южной фракции Демократической партии, выступавшей против предоставления гражданских прав чернокожему населению. В заявлении также говорилось о необходимости более радикальной «политики участия», которая «выводила бы людей из изоляции и включала бы их в сообщество, ибо это необходимое – хотя и едва ли достаточное – условие обретения смысла индивидуальной жизни».
У американских «новых левых» были свои отличительные особенности. Одной из них стало дистанцирование от рабочего движения. Чарльз Райт Миллс призывал к отказу от «метафизики труда», согласно которой только организованный рабочий класс способен продвигать прогрессивные перемены. Американские профсоюзы, в отличие от профессиональных объединений Западной Европы, не имели явных связей с левыми политическими партиями, а некоторые из них после Второй мировой войны занимали жестко антикоммунистические позиции. Более того, внушительная численность студентов в США вполне позволяла рассматривать американское студенчество в качестве самостоятельной прогрессивной силы. Участники встречи в Порт-Гуроне считали рабочее движение пассивным; этот факт не может не удивлять, если учесть, что все они были гостями крупного профсоюза, а одна из активисток, Шэрон Джеффри, была дочерью профсоюзного лидера.
Вторая особенность американских «новых левых» задавалась их отношением к холодной войне. Во внутренней политике США антикоммунизм был укоренен гораздо глубже, чем во Франции и Италии, где коммунистические партии имели депутатов в парламенте, или в Великобритании, где к коммунистам в целом относились как к безобидным эксцентрикам. В Соединенных Штатах в 1950-е годы, напротив, выражение симпатий к коммунистам могло стоить карьеры. Интересно, что наследие маккартизма делало молодых американских радикалов 1960-х более свободными, чем были их европейские современники. Американцам никогда не приходилось определяться, как относиться к огромной коммунистической партии в их собственной стране. В Порт-Гуронской декларации критическое восприятие советского режима рассматривается как нечто само собой разумеющееся, хотя при этом отмечается, что предпочтительными остаются мирные отношения с Советским Союзом. В данном аспекте Декларация предвосхитила поворот, состоявшийся в американской дипломатии в 1960-е годы; ее авторы не высказали внятной позиции по отношению к Джону Кеннеди, который в то время определялся, кем ему стать – рыцарем холодной войны или сторонником разрядки международной напряженности.
Вплоть до середины 1960-х годов движение «Студенты за демократическое общество» не допускало в свои ряды сторонников «тоталитаризма», хотя на деле за соблюдением этого правила никто не следил. Тодд Гитлин, бывший президентом СДО в 1963–1964 годах, позже говорил, что «для "новых левых" антикоммунизм был примерно тем же, чем он выступал для послевоенных либералов и социал-демократов: тиглем, в котором закалялась их политическая идентичность»[214]. Тем не менее тот факт, что организация не смогла однозначно осудить коммунизм, стал первейшей причиной того, что профсоюзные спонсоры от нее отвернулись.
Холодная война и «новые левые»
В действительности взгляды американских «новых левых» были связаны с холодной войной в гораздо большей степени, чем осознавали их носители. Антикоммунизм в Соединенных Штатах часто сопровождался жестокой демонстрацией государственного принуждения и защитой интересов бизнеса. Тем не менее за пределами собственных границ американское правительство вступало в альянсы с различными некоммунистическими силами; зачастую это означало принятие им позиций, которые в перспективе американской внутренней политики показались бы левыми. Многие из тех, кого американцы поддерживали в Европе, были демократическими социалистами или даже несоветскими марксистами. В 1950-е годы среди европейских получателей американской финансовой помощи были люди, которые обязательно – родись они в США – заинтересовали бы комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Стром Термонд, сенатор крайне консервативных взглядов, ворчал, что ЦРУ «строит социализм за спинами американцев»[215]. Альберт Камю, которого обожали американские студенческие радикалы, принадлежал к числу как раз тех левых, не имеющих отношения к коммунизму, с которыми американские деятели готовы были сотрудничать. И действительно, молодой Генри Киссинджер пытался уговорить Камю писать для журнала, который он редактировал в 1950-е годы[216].
Огромное значение для американской внешней политики имел расовый вопрос. Даже не предпринимая еще никаких попыток покончить с сегрегацией в южных штатах, американское правительство выставляло себя противником европейского колониализма и союзником неевропейских народов. Иначе говоря, образ внешней политики США заметно отличался от образа их внутренней политики. Афроамериканец Ральф Банч, высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США, получил в 1950 году Нобелевскую премию мира за свою роль в налаживании переговоров между Израилем и палестинцами. При этом он запросто мог получить отказ в обслуживании в какой-нибудь кофейне в Алабаме. Американская позиция подрывалась подобным лицемерием. Например, Соединенные Штаты поддерживали только «правильный» вариант деколонизации. Это означало, что отвергались любые ее варианты, результатом которых могло стать утверждение коммунистических режимов или изгнание американского бизнеса из стран, получающих независимость. Защитники американских интересов также зачастую рисовали обманчиво благостную картину межрасовых отношений в их собственной стране. Уильям Дюбуа, которому в 1950-е годы было отказано в выдаче заграничного паспорта из-за коммунистических убеждений, писал, что его чернокожие товарищи, которые хотели выезжать за рубеж, были обязаны «повторять те вещи, в которых Госдепартамент хочет убедить мир».
Тем не менее поддержка борьбы колониальных народов за рубежом и противоборство холодной войны все же оказали определенное влияние на расовую политику в самих Соединенных Штатах[217]. Возникновение в конце 1950-х – начале 1960-х годов новых независимых государства в тропической Африке повлекло за собой появление целого сообщества черных дипломатов и политиков, с которыми Соединенные Штаты хотели поддерживать хорошие отношения. В этой связи на дороге номер 40 в штате Мэриленд, связывающей Нью-Йорк и Вашингтон, возникали проблемы, поскольку именитых зарубежных гостей, остановившихся перекусить, нередко отказывались обслуживать. Например, миссис Лерой Меррит из закусочной «Bonnie Brae Diner» так обосновала свой отказ обслужить клиента из Республики Чад: «Он выглядел как самый обычный ниггер, откуда мне было знать, что это посол»[218].
То обстоятельство, что штаб-квартира ООН располагалась в Нью-Йорке, затрудняло разграничение американской дипломатии и внутренней политики. В 1969 году Дин Ачесон, служивший государственным секретарем США в 1949–1953 годах, писал, что офисы ООН лучше было бы разместить где-нибудь в Женеве или Копенгагене, а не среди «вечно конфликтующих рас и национальностей» Манхэттена. Фрэнк Грэхэм, бывший президент Университета Северной Каролины и короткое время сенатор, напротив, в 1955 году придавал важное значение деятельности ООН в отношении Америки. Он писал о том, что гражданские права можно использовать в качестве инструмента американской внешней политики. Десегрегация, с его точки зрения, была важна из-за ее «стратегического морального значения в общемировой борьбе между демократической свободой и тоталитарной тиранией»: если ее удастся реализовать, то это событие «произведет больший эффект, чем взрыв водородной бомбы»[219].
Соперничество с Советским Союзом также побуждало американское правительство интересоваться молодежными движениями. Генеральный прокурор Роберт Кеннеди, вернувшись из зарубежного турне, в ходе которого он сам стал мишенью студенческих протестов, говорил о том, что Америке нужно уделять больше внимания молодежи за рубежом. Именно после этого в апреле 1962 года правительство создало межведомственный комитет по делам молодежи. В 1964 году государственный секретарь Дин Раск писал: «Выросли новые, молодые лидеры… Если мы хотим перехватить инициативу у мощного и беспощадного соперника, каким является коммунистический блок, а также преодолеть серьезные разногласия в собственных рядах, нам необходимо расширять свои горизонты»[220].
Наряду с финансированием «Национальной студенческой ассоциации», Центральное разведывательное управление США поддерживало также и «Международную студенческую конференцию» (The International Student Conference), которая действовала по всему некоммунистическому миру. На организуемых ею молодежных форумах молодые либералы из США получали возможность опровергать советскую пропаганду. Когда этот факт в 1967 году стал достоянием гласности, поднялась волна возмущения, которая, вероятно, способствовала радикализации студенческого движения. Впрочем, отношения между студенческими лидерами и ЦРУ вовсе не были настолько противоестественными, как может показаться на первый взгляд. В ЦРУ были люди, которые считали, что поддержка левого дела за рубежом – в особенности в отношении расы и деколонизации – способна служить американским интересам. В данном отношении, кстати, эта спецслужба была либеральнее, чем Федеральное бюро расследований, которое отвечало за слежку внутри страны. По имеющимся сведениям, ФБР в начале 1960-х годов пристально интересовалось даже деятельностью «Национальной студенческой ассоциации» – как раз в то время, когда эту структуру финансировало ЦРУ[221].
