Loe raamatut: «Девушка из колодца»

Rin Chupeco
The Girl From The Well
© 2014, 2022 by Rin Chupeco
© Хусаенова Я., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Лесу, который показал мне,
что монстрам тоже нужна любовь


1. Светлячки
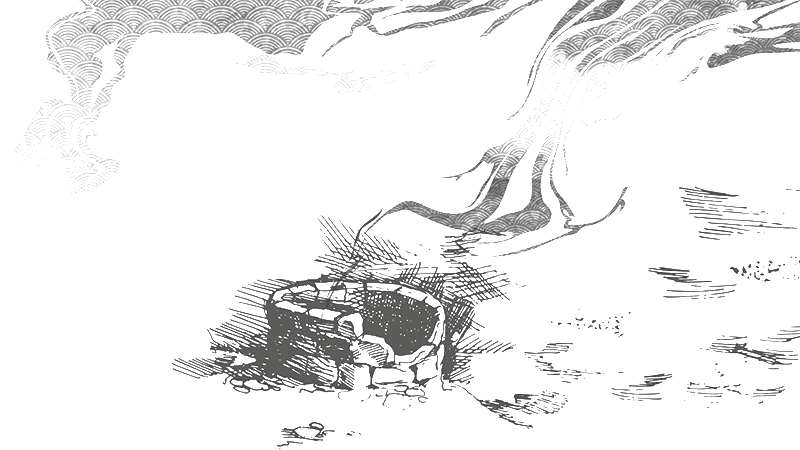
Я там, куда попадают мертвые дети.
С остальными умершими все иначе. Часто их души тихо уносятся прочь, как лист, подхваченный водоворотом, беззвучно соскальзывая вниз, скрываясь из виду. Они мягко наступают и отступают с приливами, пока не скрываются под волнами, и я больше их не вижу… как тлеющий огонек свечи, как маленькие угольки, которые ярко горят несколько долгих мгновений, а после угасают.
Но это не моя территория, а они не моя добыча.
Есть еще убитые. Те особенно странные.
Вы можете посчитать меня предвзятой, ведь я тоже была убита. Но мое состояние не имеет ничего общего с любопытством, которое я проявляю к представителям моего вида, если можно так выразиться. Мы не уходим смиренно в сумрак вечной темноты, как призывает1 ваш поэт.
Люди боятся, что их настигнет наша судьба. Мы – то, что случается как с хорошими людьми, так и с плохими, а также с теми, кого не отнесешь ни к первым, ни ко вторым. Убитые существуют в бурях без времен года, в застывшем промежутке. Мы задерживаемся не потому, что нас не отпускают.
Мужчина удерживает ее, хотя и не подозревает об этом. Он сидит на диване в квартире, пропахшей сигаретами и прокисшим пивом. По телевизору идет какое-то комедийное шоу, но этот человек в грязной белой рубашке, с пухлыми руками и зловонным дыханием, не смеется. У него слишком много волос на голове, на лице и на груди. Он пьет из бутылки и не слышит ничего, кроме шума алкоголя в своих мыслях. На вкус его разум как кислое вино, как капля саке, которую слишком долго держали в темноте.
В этой квартире разбросаны его вещи. Грязные куртки из блестящей ткани (их три). Из пустых бутылок (которых двадцать одна) на пол капает коричневая жидкость. Тонкие стебельки табака (пять штук) лежат на крошечном подносе, а над их чахлыми остатками вьется дым.
Но также в этой квартире находится то, что ему не принадлежит. Маленькие бледно-розовые клочки ткани, зацепившейся за гвозди в половицах (их три). Золотистая прядь волос, спрятанная между деревянными балками (одна штука).
Поблизости что-то булькает.
Этот громкий внезапный звук прорывается сквозь туман опьянения и пугает мужчину.
Грязная Рубашка принимает одну проблему за другую и, повернув голову к ближайшей стене, кричит:
– Лучше тебе починить этот чертов унитаз к завтрашнему дню, Шамрок!
Если он и ожидает ответа, то не получает его, и, похоже, его это мало заботит.
Мужчина не смотрит в мою сторону, потому что не видит меня. Пока что.
Но зато она видит.
Я могу сказать, что она умерла совсем недавно. Длинные светлые волосы безжизненными паклями свисают до талии, кожа серая, хрупкая и одутловатая. Мужчина утопил ее быстро, так быстро, что она этого не поняла. Вот почему она то открывает, то закрывает рот и время от времени сглатывает, как голодная рыба. Вот почему она озадачена тем, что не дышит.
Девочка смотрит голубыми глазами в мои, туда, где я лежу, скрытая в тени. Мы понимаем друг друга, потому что я тоже помню ужасную тяжесть воды. Ее тюрьма сделана из керамики, моя – из булыжников. В конце концов, это не имело большого значения ни для одной из нас.
Мужчина в грязной рубашке не видит и ее. Он не замечает, как тонкие, костлявые руки обвиваются вокруг его шеи, как ее маленькое тряпичное платьице задирается выше бедер, когда она упирается ногами ему в поясницу. Он не замечает увядания, что разрушает лицо, которое должно было стать нежным и красивым.
Многие люди похожи на него; они не чувствуют себя обремененными тяжестью тех, кого убивают. Веревка, обмотанная вокруг тонкого запястья девочки, тянется к руке мужчины. На моем запястье такая же петля, но в отличие от нее, я свое несчастье ни с кем не делю. Веревка тянется за мной, но ее край обрезан.
Мужчина, что болтал в телевизоре, исчезает, и сознания Грязной Рубашки достигает жужжание статистических помех. Оно терзает его как назойливая муха. Снова выругавшись, он отбрасывает пустую бутылку и подходит к экрану, роясь в настройках. Через минуту мужчина ударяет по телевизору кулаком раз, другой, третий. Но тот, совсем не впечатленный, продолжает гудеть.
Грязная Рубашка все еще злится, когда в квартире воцаряется темнота, и единственным источником света становится жужжащая коробка.
– Ублюдок! – восклицает он, для пущей убедительности пиная телевизор.
В качестве наказания жужжание прекращается, и телевизор снова включается, но человека, который шутил, не видно. Вместо этого на экране на несколько секунд появляется нечто другое.
Широко раскрытый, пристально смотрящий на него глаз.
Глаз исчезает, зато жужжание возвращается. У мужчины открывается рот. Сначала он пугается – восхитительный страх отражается на его лице, – но когда через какое-то время картинка не повторяется, он начинает рассуждать, спорить с самим собой, пока не отмахивается, как и любой человек, ищущий толкование вещей, которые невозможно объяснить.
– Должно быть, показалось, – бормочет он себе под нос, потирая висок и отрыгивая.
Девочка у него на спине ничего не говорит.
Мужчина в грязной рубашке идет в ванную и хмурится, когда при щелчке выключателя не загорается свет. Тем не менее он направляется к раковине, чтобы умыться.
Когда мужчина выпрямляется, я стою прямо у него за спиной, но за его головой видны только моя макушка и глаза. Лицо, выступающее над его затылком, я ношу уже много столетий, что довольно необычно для человека, прожившего всего шестнадцать лет.
У меня нет причин смотреться в зеркало, так что иногда я забываю, как выгляжу. Когда наши взгляды встречаются, мужчина испуганно вскрикивает и отступает в сторону. Но когда он оборачивается, то видит только свое потное мокрое лицо, на котором отразился страх.
Снова
что-то
булькает.
На этот раз ближе.
Мужчина в грязной рубашке переводит взгляд на ванну, которая покрыта грязью, сажей, а также следами желчи. Под ней по спирали растекается большая лужа крови, которая в конце концов достигает кончиков его кожаных ботинок.
– Попался — говорит кровь. – Это все ты.
И вот из ванны появляется разлагающаяся рука. Она хватается за бортик с такой силой, что акрил трескается. Мужчина в грязной рубашке, ошеломленный и напуганный, сползает на пол, а я поднимаюсь и переваливаюсь через бортик ванны, чтобы приземлиться прямо перед ним. Мое тело напрягается и сжимается, спутанные волосы скрывают черты лица настолько, что вы не узнаете, кто я, увидев только то, чем я не являюсь.
Я булькаю в третий раз.
Мужчина в грязной рубашке, чертыхаясь и крича, уползает обратно в гостиную. От испуга он пачкает штаны собственными экскрементами. Он хватается за телефон, но связи нет. С трудом поднимаясь на ноги, он пытается нащупать дорогу в темноте, единственным ориентиром в которой является мерцающий свет телевизора. Он находит дверь и отчаянно дергает ее, но та не поддается.
– Помогите! О боже, о боже… Помогите!
Он давит плечом на дерево с удвоенной силой, как только осознает, что я выскользнула за ним из ванной, треща суставами, которые уже давно не гнутся.
– Шамрок! – Голос Грязной Рубашки дрожит от паники. – Шамрок, ты меня слышишь? Есть там кто-нибудь? Я… Господи! Господи Иисусе, помогите мне!
В том, как двигается фигура, которую он видит, есть нечто ужасное. Она не ползает. Она не говорит. Скрючив пальцы, на прямых ногах она подбирается ближе, преследуя только одну цель. Она – словно человек-паук, хотя я не то и не другое.
Мужчина в грязной рубашке вскоре осознает тщетность своих усилий и снова оседает на пол.
– Это из-за девочки? – спрашивает он, и в его поросячьих глазках мелькает осознание. – Это из-за девочки? Я не хотел… Клянусь, я больше никогда так не поступлю, клянусь! Я больше так не поступлю!
Он прав. Он больше никогда так не поступит.
– Пожалуйста, – захрипел мужчина, поднимая руки в нелепой попытке защититься. Не знаю, просит ли он пощады или хочет, чтобы его поскорее убили. – Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйстапожалуйстапожалуйстапожалуйста.
Что-то булькает в последний раз, но уже над ним. Грязная Рубашка поднимает глаза.
Теперь он видит меня женщиной на потолке.
Она упирается в балки серыми босыми ступнями.
Свисает.
Ее подбородок выпячен, голова повернута набок так, что не остается сомнений – у нее сломана шея.
На ней свободное белое кимоно, забрызганное грязью и кровью.
Волосы тонкой завесой ниспадают ей на лицо, но эта завеса не скрывает от мужчины ее взгляда.
В ее глазах нет белков; они непроницаемо-черные, расширенные.
Ее кожа представляет собой пестрое лоскутное одеяло из насилия и костей, отслаивающееся в уголках рта. Губы изогнуты в вечном крике, зияющая пустота оскала слишком широкая, чтобы быть живой.
Долгое мгновение мы смотрим друг на друга – он, убийца другой девушки, и я, жертва другого мужчины. Наконец мой рот раскрывается еще шире, я отрываюсь от потолка, чтобы сделать выпад, впившись немигающим взглядом в его испуганное лицо.

Некоторое время спустя девочка встает рядом со мной. Она знает, что будет дальше, поэтому молча протягивает руки. Узел на ее запястье распускается. В то же мгновение веревка на руке мертвеца разлетается вдребезги, будто была сделана из стекла.
Девочка свободна. Она улыбается мне ртом, в котором не хватает зубов. Души молодых и когда-то познавших любовь не несут зла. Что-то светится внутри девочки, что-то разгорается все ярче и ярче, пока ее черты и фигура не растворяются в этом благословенном тепле.
В дни моей юности устраивались ежегодные фестивали чочин2, во время которых в память об умерших зажигались бумажные фонарики. Я смутно припоминаю, как хваталась за эти изящные вещицы, освещенные огнем, и волнение, охватывающее меня, когда я поднимала их в воздух. Я вижу себя, бегущую по берегу реки за десятками чочинов, плывущих по воде, подпрыгивающих и машущих мне, пока я изо всех сил старалась не отставать. Но в конце концов они уплывали в более крупные реки, туда, куда я уже не могла за ними последовать.
Я помню, как напрягала зрение, чтобы разглядеть уплывающие прочь фонарики, которые становились все меньше, пока темнота не поглощала последний из них. Я представляю их крошечными светлячками, парящими над поверхностью реки, готовыми найти свой путь. Даже тогда я находила это слово подходящим, умиротворяющим.
Светлячки.
Светлячки.
Свет, лети.
Я помню голос матери, теплый и вибрирующий, до того как ее одолела болезнь. Я помню, как она рассказывала мне, что чочины хранят души тех, кто ушел из жизни.
«Вот почему мы зажигаем то, что напоминает их сущность, – говорила она, – и запускаем их по рекам… чтобы позволить водам вернуть их в мир мертвых, где им самое место».
Мертвая девочка, как и многие девочки, что умерли до нее, напоминает чочин. Когда она начинает ярко сиять, я осторожно беру ее за руки, и мягкое тепло наполняет мое существо непривычным чувством покоя. Всего на несколько секунд. Но тому, кто полон тоски и смирился с вечностью, этого будет достаточно.
Я выпускаю ее душу за пределами квартиры Грязной Рубашки. К тому времени она не более чем пылающий огненный шар, льнущий к моему иссохшему телу. Я закрываю глаза в попытке впитать каждую частичку тепла, которое она может мне дать… чтобы сохранить и вспоминать о нем в холодные ночи… Затем я возношу руки к небу. Не нуждаясь в разрешении, она воспаряет, ненадолго зависает надо мной, словно даруя благословение, а затем начинает подниматься все выше, как осенний воздушный шар. Пока, наконец, не становится еще одним облачком, еще одной игрой света.
Свет, лети.
Я там, куда попадают мертвые дети. Но даже когда мое дело сделано, я не знаю, куда они уходят – на более высокий уровень или в новую жизнь. Знаю только одно: подобно чочинам из моего детства, они уходят туда, куда я не могу за ними последовать.
Я еще долго наблюдаю за небом. Но в темноте больше ничего не движется, а в бескрайнем пространстве ночи я вижу только звезды.
2. Парень с татуировками

Город просыпается в ритме дневного света.
Сначала они появляются поодиночке и парами. Одинокие мальчишки-газетчики на велосипедах ведут войну у дверей. Я считаю их: четверо, пятеро, шестеро. Мужчины и женщины бегут по улицам, громко подпевая песне, которую больше никто не слышит. Я считаю их: семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Тучный чиновник опускает в почтовые ящики важные бумаги, письма, посылки. Я считаю: один человек.
И вот их уже десятки. Мужчины и женщины, некоторые в темных деловых костюмах, но большинство просто в клетчатой одежде или джинсах, спешат по тротуару. Некоторые нетерпеливо поглядывают на свои запястья, прежде чем сесть в экипажи без лошадей, которые они называют автобусами, или в те, что поменьше, которые они называют автомобилями (их двадцать семь). Другие же неспешно прогуливаются по дороге, а перед ними, укрощенные ошейниками, шествуют собаки разных пород и размеров (четырнадцать).
Несколько собак, завидев меня, начинают рычать и скалить зубы. Я показываю зубы в ответ, и животные тут же срываются с места, улепетывая по улице так, будто сам дьявол кусает их за хвосты. Хозяевам же остается только гнаться за ними следом. Я не испытываю особого уважения к животным, и, думаю, это чувство взаимно. Их поводки напоминают мне о моем собственном. Ошейники – такая же форма рабства, неважно, сковывают они шею или запястья, тяжелые ли они, как свинец, или же легкие, как веревка.
Наконец, они собираются толпами. Люди в дорогих костюмах с завышенными ожиданиями спешат, погруженные в мелкие заботы, которые поглощают их жизнь (тридцать восемь человек). В машинах ссорятся дети, которых в школу везут матери и отцы (их шестнадцать). У них нет причин видеть меня – неотмщенный дух, ничто. Я не являюсь частью их мира, так же как они больше не являются частью моего. У них впереди вся жизнь, а у меня – нет.
Я часто провожу целые дни в странном оцепенении. Когда ничто не привлекает моего внимания, я впадаю в состояние спячки.
Иногда сворачиваюсь калачиком на чердаках и в заброшенных сараях. Я не сплю, а существую без сновидений, редко задумываясь о земных вещах, но зацикливаясь на созданных из ничего чудесах. Это может длиться часами, днями, годами, или мгновение, которое необходимо птице, чтобы взмахнуть крыльями, или миг, которого достаточно, чтобы сделать глубокий вдох. Но вскоре ярость закипает снова, и самые потаенные уголки внутри меня
шепчут, шепчут, шепчут: «Найди еще, найди еще».
И вот я поднимаюсь, движимая желанием
искать, поглощать, заставлять, ломать, брать.
Я плавала на кораблях под парусами. Я поднималась в воздух на стальных крыльях. Я изучала языки своих жертв, их культуру, полную противоречий. Я забиралась под кожу тем, кто пошел по темному пути, приветствуя насилие над телом. Я выползала из толщи крови, из соли смерти.
Пусть и ненадолго, я могу завладеть теми, кто близок к смерти, или теми, кто мог умереть, но выжил. Я научилась передвигаться среди людей сотней различных способов, задерживаться во множестве мест одновременно и при этом сохранять ощущение собственного существования. Но сегодня я плыву по течению, наслаждаясь воспоминаниями о прошлой ночи.
И когда ничего другого не остается, я начинаю считать.
Я позволяю этой причуде увлечь меня дальше по улице, где разносчик продает еду с металлического лотка (один). Кошка на другой стороне дороги (одна) выгибает спину и дерзко шипит на меня, хотя хвост у нее подрагивает, а шерсть на спине становится дыбом. Люди проплывают мимо, едят на ходу и выбрасывают пустые обертки в урны. Я считаю их: тринадцать, четырнадцать, пятнадцать.
Молодой человек в коричневом костюме замирает на полуслове, уставившись прямо на меня. Его охватывает дрожь, так что он не замечает, как кусочки хлеба падают на землю. Я отодвигаюсь, когда мимо проносится группа хихикающих студентов (их семь), и спешу исчезнуть из поля зрения молодого человека. Иногда меня видят проклятые – те, что наделены необычным зрением, о котором они сами редко догадываются, – но, раз обнаруженная, я научилась избегать их пристальных взглядов. Я ничего не имею против молодого человека, который, бледный и испуганный, пустился наутек. Хотя мне жаль, что он видит больше, чем следовало бы.
Но мое внимание привлекает кое-что еще. Мальчик-подросток в машине, проезжающей мимо перекрестка. Лет пятнадцати, среднего телосложения, с ярко-голубыми глазами и прямыми черными волосами, которые неестественно торчат, точно шипы. Он смотрит в окно с угрюмым видом, который, как мне кажется, типичен для многих современных мальчишек.
Но мне бросаются в глаза не черты его лица или его поведение. Под его одеждой что-то пульсирует, совершает беспокойные, одновременно отталкивающие и знакомые движения. Мальчика окружает неестественное сияние. В его мыслях я ощущаю сладость дома, земли за тысячи миль отсюда, где когда-то родилась и я сама.
Но мальчик не замечает этого. Его глаза смотрят на мир, скользят мимо меня, пока машина не сворачивает за угол, на узкую дорогу.
Она останавливается перед большим домом, где несколько крепких мужчин вытаскивают мебель из большого грузовика с надписью «Грузчики Пикинга». Столы, стулья и множество других предметов разбросаны по двору (всего их шестнадцать). Пара грузчиков (всего их десять, идеальное число) добавляют к ним две деревянные кровати, один туалетный столик, шестнадцать различных электроприборов и множество коробок. А еще – зеркало.
Мальчик, все такой же хмурый, выходит из машины с мужчиной постарше, у которого такие же голубые глаза, но волосы песочного цвета. Они наблюдают за тем, как грузчики заносят мебель внутрь дома. Я же считаю коробки: одна, две.
– Что думаешь, Тарк? – наконец спрашивает мужчина.
Мальчик не отвечает. Десять, одиннадцать.
– Тебе не кажется, что здесь лучше, чем в нашем старом доме в Мэне? – продолжает мужчина, игнорируя молчание собеседника. – У тебя, понятное дело, будет своя комната. Попросторнее, да и окон побольше. Места предостаточно, так что когда обустроимся, можем завести комнату отдыха или вырыть бассейн на заднем дворе. К тому же это всего в двух кварталах от дома Келли.
(Семнадцать, восемнадцать.)
Тарк по-прежнему не отвечает, только наблюдает за грузчиками. Вокруг него все еще виднеется странный свет: скорее излучение, чем свечение.
– И мы можем навестить маму на следующей неделе. Доктор Аахман говорит, что она чувствует себя намного лучше и что мы можем приехать, когда будем готовы. А теперь, когда мы всего в двадцати минутах езды от лечебницы Ремни, можем навещать ее так часто, как ты захочешь.
(Двадцать пять, двадцать шесть.)
На лице Тарка появляется странное выражение, и я впервые вижу, как он проявляет хоть какие-то эмоции. Челюсти сжимаются, во взгляде жестокость, уголки рта опускаются. Когда он скрещивает руки на груди, рукав задирается, обнажая черную татуировку. Тридцать три коробки.
Странно, что у мальчика его возраста уже есть татуировки.
Кто-то создал любопытный дизайн рисунка на его руке. Он состоит из двух кругов, больший из которых охватывает меньшую сферу и покрыт аккуратными письменами на языке, который я не понимаю. Еще больше символов тянутся вверх и скрываются в складках рубашки. Эти татуировки жужжат и пульсируют на коже Тарка, из-за чего он так странно светится. Как будто почувствовав мой пристальный взгляд, он опускает рукав.
– Я не уверен, что мне вообще стоит навещать маму, пап, – заявляет он.
– Не говори так, Тарк. Я знаю, она по тебе скучает.
– Попытка выцарапать мне глаза – странный способ показать свое отношение. – В голосе мальчика слышится горечь.
– Доктор Аахман уверяет, что подобное не повторится, – твердо говорит его отец. – Тогда ей дали неправильные лекарства, вот и все. Мы навестим ее сразу после твоего сеанса с мисс Кресуэлл в среду. Хорошо?
Тарк только пожимает плечами, хотя гнев в его глазах не исчезает. Как и страх.
Я вхожу в дом. Некоторые комнаты все еще пусты, в то время как другие заполняются коробками. Я поднимаюсь по лестнице и, скорее всего, по привычке, приближаюсь к потолку. Предыдущие владельцы не оставили здесь ничего: ни счастья, ни горя, ни боли. Лучше и не придумаешь для места, в котором планируешь остаться.
Внизу под пристальным взором мужчины грузчики продолжают свою работу. Тарк же отходит в сторону, чтобы укрыться в тени дерева, и, сложив руку козырьком, смотрит на новый дом. Вдруг его глаза расширяются.
– Эй! Эй, ты!
Он вбегает в дом, прежде чем кто-либо успевает его остановить. Отец, обменявшись изумленными взглядами с грузчиками, спешит за сыном. Он явно сбит с толку внезапным волнением мальчика. Когда мужчина подбегает к Тарку, тот стоит у окна, не в силах объяснить, почему в комнате никого нет.
– Ты видел? Здесь кто-то был!
– Я никого не вижу, Тарк, – после непродолжительного молчания отвечает его отец.
– Здесь была женщина! – Мальчик бродит по комнате, затем переходит в следующую в попытке обнаружить чье-то присутствие, но ничего не находит. Отец следует за ним. – В белом одеянии и с длинными волосами!
Отец кладет руку на плечо сына. Как мне кажется, он пытается его успокоить, хотя явно ему не верит.
– Поездка была долгой. Почему бы тебе не вздремнуть в машине? Я разбужу тебя, как только занесут большую часть вещей.
Спустя мгновение Тарк кивает, не имея ни доказательств, ни альтернативы. Они возвращаются на улицу, но вместо того, чтобы сесть в машину, мальчик остается в саду. Он продолжает наблюдать за домом, чтобы доказать, что отец неправ. Но я проявляю осторожность, и он не видит ничего, кроме пустого дома, по которому не бродят духи.
Но за мальчиком следит кто-то еще. Через два дома припаркована белая машина, размером куда меньше тех, что проезжают по этим улицам. Я знаю, что ее водитель наблюдает за мальчиком, потому что меня, словно паутина невидимой злобы, окутывает его голод. Со стороны этой маленькой белой машины слышится столь знакомый мне звук рыданий.
Я выхожу из дома и крадучись перехожу улицу. Проскальзываю на заднее сиденье и изучаю водителя через зеркало, висящее над приборной панелью. В отличие от Мужчины в грязной рубашке, этот зеленоглазый шатен чисто выбрит и довольно привлекателен. На нем темный, безукоризненно отглаженный костюм. Люди могли бы сказать, что он выглядит «дружелюбным», а также «добрым» и «воспитанным». Он улыбается, но глаза его пусты.
К его спине привязаны мертвые дети.
(Одна девочка, две девочки, три.)
Они наполняют машину криками и причитаниями. На их запястьях я вижу знакомые путы, которые тянутся к предплечьям мужчины. Но, как и остальные, этот человек ничего не замечает и продолжает наблюдать за мальчиком с татуировкой.
(Четыре девочки, пять, шесть.)
Девочки разные: блондинки, рыжие и брюнетки. Голубоглазые, кареглазые и зеленоглазые. Бледные и веснушчатые, а также смуглые и темнокожие. Им шесть, восемь, двенадцать и пятнадцать лет.
(Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.)
Некоторые из этих детей привязаны к нему уже почти двадцать лет, другие же – всего месяц.
(Двенадцать. Один мальчик, два мальчика, три, четыре, пять.)
Сейчас этот внешне доброжелательный мужчина улыбается. Именно так он расставляет ловушку, заманивает жертву. И на этот раз его улыбка предназначена мальчику с татуировками.
Я могла бы взять его
взять, взять, взять его
прямо сейчас. Я могла бы раздавить его улыбающуюся гнилую голову
раздавить, раздавить
у себя во рту. Я могла бы заставить его страдать. Могла бы заставить его кричать
кричать, кричать, кричать, КРИЧАТЬ, КРИЧАТЬ
для меня. Дневной свет не властен над такими духами, как я.
Но я люблю трепет ночи. Предпочитаю замкнутые помещения, в которых эти люди творят свое зло, где они чувствуют себя всесильными. Насколько я знаю, гораздо приятнее убивать на пастбищах, окутанных тьмой. В этом мало тщеславия, но это все, что у меня осталось.
Улыбающийся Мужчина
забери его, раздави его
заводит машину. Мертвые дети оглядываются на меня, а я наблюдаю, как он уезжает, зная, что увижу его снова. Я подавляю голод, который пока что отступает.
Впервые за все время, что я себя помню, меня кто-то заинтересовал. Мальчик. Тарк. Меня заинтриговали его странные татуировки и то, что скрывается под ними. Внутри этого мальчика есть что-то, что зовет и в то же время отталкивает меня. В нем сидит что-то странное и враждебное, хотя я не знаю, что именно и почему.
Что-то в нем напоминает мне о доме.
Я хочу понять язык его странных татуировок. А время – одна из немногих вещей, которые у меня остались.
И когда Улыбающийся Мужчина
забери его
сделает свой ход – а я в этом уверена, – я буду здесь. Ждать его.
А до тех пор я буду настороже.
Потому что в этом новом доме тоже есть чердак.
Tasuta katkend on lõppenud.
