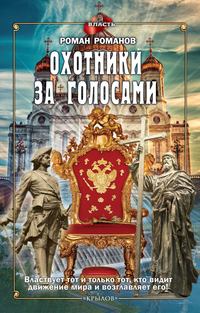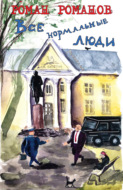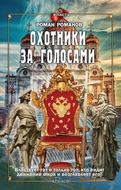Loe raamatut: «Охотники за голосами»
Аннотация:
О выборах лучше всего может написать тот, кто работал на выборах, сам охотился за голосами. В природе власти лучше всего разбирается тот, кто сам был во власти, кто знает ее изнутри. Знает, как завоевывают власть, каких она бывает видов и как ее сохраняют. А в особой природе русской власти, как и в русской душе, способен разобраться только русский человек, вдобавок прошедший снизу вверх по ступенькам власти. В центре этой книги – природа власти как таковой и природа русской власти.
Однако рассказ рассказу рознь. Долой скучные истории. Обо всем можно рассказать увлекательно. Тому пример эта книга – увлекательный рассказ с калейдоскопом разных приключений (и остросюжетных, и веселых, и фантастических). Разочарованным не уйдет никто.
Биография:
Романов Роман Николаевич родился 2 марта 1978 в селе Корнилово под Томском. Детство обычное, деревенское, с коровами, дровами и кедровыми шишками. Школу закончил с серебряной медалью, историю сдавал экстерном в раойно, поскольку в деревенской школе не было учителя истории. Потом – исторический факультет Томского госпедуниверситета, который закончил с красным дипломом. Остался на кафедре преподавателем, закончил аспирантуру, перед самой защитой кандидатской уехал по приглашению нынешнего губернатора Псковской области Турчака Андрея Анатольевича в Москву – работать с молодежными движениями. В 2009 году переехал в Псков в команде губернатора и работал в администрации начальником Управления внутренней политики. Занимался партийной работой, общественной деятельностью, работал на выборах в качестве политтехнолога. В Пскове познакомился с Александром Прохановым, который, по сути, дал путевку в писательскую жизнь.
«Писатель Роман Романов в своей новой книге “Охотники за голосами” ныряет на такую глубину, где почти нет воздуха и где обитают странные глубоководные существа нашей российской политики. Писатель создает уникальную коллекцию этих странных уродцев, безбедно существующих в сернистых слоях наших политических водоемов. Мы даже не подозревали, что такова флора и фауна нашей провинциальной политической жизни. Лишь внезапно одно из существ проникнет на страницы романовской книги или явится нам в удушающем ночном кошмаре…»
«Повесть “Чиновник Авдий” – политическая фантасмагория, политический гротеск, жутковая сказка, в которой жизнь губернского чиновничества описана как сказание о змие.
Современная власть интерпретируется как метафизическое зло, и борьба с этим злом невозможна без вмешательства потусторонних сил.
Писатель Романов знает эту жизнь как патологоанатом, и, делая вскрытие, погружает скальпель на предельную глубину, извлекая мертвые органы, имя которым – губернская бюрократия.
Труд для художника рискованный, но и почетный. Именно это опасное действо определяет язык произведения, его художественные приемы, его эмоциональный эффект, подчас подобный шоку».
А. Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра»
«Повесть Романа Романова “Монархисты из квартиры 27” из этого круга современной прозы “on-line” и может показаться немного несобранной, но в этом она – только зеркало дня и сознания, научившегося оставаться молодым и после 30 лет. Вот и его герой-то прямо с первой страницы представляется “Сашка, вернее, давно уже Александр Николаевич”. Давно, а все – Сашка. И все они, как он, “не яппи, не хиппи, не интеллигенты, не мещане” – поколение без труда доставшейся свободы. Оттого и чтение родной истории этими молодыми людьми несколько снисходительно и детски самоуверенно. Естественно, что герой легко надеется поправить механизм прошлого, научившись в снах отправляться в минувшее, чтобы поучить там государей, политиков и революционеров, как надо бы сделать мир поразумнее.
История, однако, постоит за себя, и герой выйдет из нее помудревшим…»
В. Курбатов, журнал «Родная Ладога»
«“Охотники за голосами” – это завернутые в литературные формы диалоги о власти. Причем не просто о Русской власти, а о том причудливом конструкте, который сложился из смеси российских традиций и западной демократии за 25 лет. Взгляд изнутри, с земли, взгляд целого поколения последних комсомольцев и пионеров. Стоит читать внимательно».
О. Матвейчев, политолог, профессор ВШЭ
Охотники за голосами
Необходимое предварительное пояснение
Прежде чем рассказать эту ненормальную историю, хочу сказать тому, кто возьмется ее читать следующее. Записана она со слов непосредственного участника событий. Никакого вранья и всяческих литературных домыслов в ней нет. Поскольку в те месяцы я проживал в соседней Губернии и сам довольно часто бывал по делам в той самой Провинции, то самолично убедился в совпадении многих фактов из этой истории с тем, что действительно происходило тогда.
В конце концов, самые разнообразные люди, которые волею судьбы оказались вовлечены во все эти события, живы-здоровы, и ради личного любопытства со многими из них я даже пытался поговорить лично. Большинство реагировало странно: люди становились агрессивны или замкнуты, меняли тему или просто замолкали, или совершенно неожиданно начинали оправдываться. В любом случае хочу сказать, что история эта имела место быть в жизни.
Ведь что мы знаем о жизни? Если говорить совсем уж честно – почти ничего. Ни доказать, ни опровергнуть массу странностей в этой штуке под названием «жизнь» часто невозможно, а школьное образование либо игнорирует все разнообразие фактов, либо навешивает на них ярлык – «сказка». А сказка, как известно, доказательств не требует, она, типа того, всем намек и моральное предупреждение. Но разве то, что мы не можем умом и всей силой науки опровергнуть, означает, что этого не бывает на самом деле? Для меня, например, когда я был совсем маленький, Снежная Королева реально существовала, я по-настоящему ее боялся, не понарошку, выглядывал после мультика в окно и слушал завывание метели в зимней вечерней мгле. А если страх настоящий, то и Королева была очень даже реальной, пока мне кто-то из взрослых не сказал, что это голимое вранье конкретного сказочника, и она сама собой не перешла в разряд выдумок.
Впрочем, сказка так сказка, мне все равно. Хочу только заметить совершенно уверенно, что полагать себя умнее детей – совершеннейшая глупость, которую человек, как правило, осознает только в глубокой старости. В общем, считаю своим долгом рассказать, что мне стало известно, а как читатель к этому отнесется – сугубо его личное дело. Честно говоря, я и сам до сих пор не знаю, как ко всему этому относиться и какие выводы, какая мораль для общества, государства и политических консультантов во всем этом повествовании есть?
Единственное, что я вдруг осознал в процессе записывания рассказа – это то, что подобные истории, оказывается, имеют место быть почти во всех местах нашей необъятной России. Куда бы я ни приехал, самые элементарные поиски вновь открывали мне истории, подобные моей. Может, все дело в повсеместных и регулярных выборах и демократии? Ведь не было же раньше массы людей, которые вместо того, чтобы работать, лезут во власть или все свои время тратят на тех, кто хочет залезть во власть, попадая при этом в совершенно жуткие перипетии? Я даже предположил, что и в Москве, и в ООН все бывает точно также, но развивать эту мысль дальше, признаюсь, не хватает личного мужества. Поэтому единственное, что я нагло и не спросив героя изменил в рассказе – имена людей и названия мест, дабы избавить Провинцию от лишнего любопытства, мало ли что в ней еще хранится такого… очень важного для всех нас. В общем, дело было так…
I
Над Петербургом висело темное, набухшее сыростью небо. Эта мрачная, многотонная сырость словно пыталась раздавить клубами землю, прорваться к водам Невы, слиться с нею, и только макушки деревьев, фронтоны дворцов и античные истуканы на крыше Зимнего сдерживали давление небес. Добровольно гулять в такую погоду могут только неврастеники, мистики и совсем юные одиночки без собственной квартиры, страдающие от несчастной любви. «Удивительный город, удивительный город! – шепотом сам с собой разговаривал Турист, кутаясь на ходу в промокшую куртку. – Вот где небо-то с землей сходятся! Питер – это же край земли… И где Атланты, где Атланты, я вас, дорогие мои, спрашиваю? Приподнимите же небо повыше!»
Турист остался без денег, без билетов, без единого знакомого в огромном городе и брел, совершенно не ориентируясь в пространстве. Вдруг его взгляд остановился на знакомой картинке. Вернее как: куда бы он ни смотрел – везде были знакомые со школы картинки, но взгляд остановился именно на этой – Петропавловская крепость. «А вот пойду и зайду, может, там согреюсь где». В голове сам собой пролетел жиденький рой воспоминаний, ассоциаций и строчек из рекламных буклетов: Петр I, саркофаги императоров, монетный двор, казематы для революционеров, вроде все. Нет, еще такой красивый и несовпадающий с окружающей мрачностью, блестящий на солнце шпиль собора – «до-ми-нан-та» – это слово тоже догнало рой воспоминаний и тут же вылетело из головы неудачливого странника.
Не понимая, с какой стороны зашел в Петровскую цитадель, озираясь среди редких зонтов и фотоаппаратов настоящих, не то что он сам, туристов, остановился перед входом в какой-то собор, вернее, в тот самый, который «до-ми-нан-та», где, наверное, и находилось последнее пристанище русских императоров. Турист подумал, что нет никакой разницы, где греться, и раз уж он в двух шагах от входа – чего бы и не зайти, не подсушиться и не дать передышку уставшим, гудящим от долгой ходьбы ногам.
В этой довольно странной, забегая вперед, истории у Туриста впервые что-то противненько так сжалось под сердцем – именно при входе в храм. Он попытался уровнять дыхание, списав все на погоду и давление. Затем, быстро перекрестившись, как полагается русскому человеку, шагнул в мерцающее золотой лепниной, прозрачное и устремленное ввысь – в противоположность низким темным тучам – светящееся пространство собора.
Освоившись в новой обстановке, оглядевшись, Турист начал медленно, растягивая время, изображая из себя типичного любознательного туриста, мелкими шажками передвигаться по церковному полу. Он подолгу, опять же растягивая время на обогрев, рассматривал надписи на мраморных надгробиях. Но думал он, в силу своей природной, хотя и тщательно скрываемой от посторонних стыдливости, не о надписях, а о том, чтобы его внешний вид и поведение не выдали банально замерзшего и бесприютного человека в противоположность, как ему казалось, поголовно умным, прилично одетым, воспитанным и живо интересующимся историей туристам.
Однако, по мере согревания пропитываясь величественной тишиной и светом, недавно еще мечтающий сугубо о тепле и горячем кофе человек, незаметно погрузился в совсем другие, высокие мысли. Словно с тающих сосулек в душу стали падать капли-мысли о власти, страсти и перипетиях истории. Сражения, заговоры, интриги, вызовы эпох и подарки судьбы, победы и трагедии венценосной династии беспорядочным потоком, словно наяву, проносились перед блуждающим по царским мраморным надгробиям взглядом Туриста.
Он всегда был далек от сантиментов и романтики, от великодержавной тоски или циничного злорадства. Но при этом всегда, можно сказать, почти с юности, любую историю пытался переложить в выводы, выводы в рекомендации, а рекомендации довести до технологии получения и удержания власти. А перекладывал историю на область политтехнологий промокший человек потому, что кроме выборов различного уровня в различных губерниях, городах и районах вот уже лет пятнадцать ничем больше не занимался, не интересовался и не пробовал.
И вот прямо в соборе, в этой золотистой пелене видений, икон и мраморных гробниц его зацепила практическая мысль о том, как можно было бы русскому самодержцу использовать демократические выборы, и о том, как надо бы было поступить каждому из русских императоров.
Само собой ему явилось воспоминание, как однажды, в ночь после подсчета голосов на выборах он до хрипоты спорил с новоявленным депутатом Горсовета. Находясь уже на той стадии, когда русские люди спорят обо всем на свете независимо от банкетного повода, он заявил, что император Павел, знай он про референдумы, обязательно бы его провел и оставался бы еще на троне долго-предолго! Поскольку народ его как раз уважал, а петербургская аристократия все больше ненавидела. «П-п-п-авел видел наш век, и если бы не был убит – мир был бы сегодня с-с-с-совсем другой! Надо было просто выжить, а он – ик – не смог!» – заплетающимся языком довел до конца свою длинную мысль Турист.
С этим воспоминанием он словно очнулся, вздрогнул и заново начал внимательно осматривать надгробия, переходя от одного к другому в поисках надписи «Павел I». Пройдя ближе к золотому иконостасу и вытянув шею, он вдруг увидел у одного из надгробий открытую золотую калитку – в противовес всем остальным, плотно запертым оградкам. Со следующим шагом увидел вазу с белым букетом и, уже не сомневаясь, подошел ближе. «Павел, Павел! Бедный Павел… Здрас-с-с-ти-и, Ваше царское Величество! И кому это вы воротики-то отворили?» – про себя, но беззвучно проговаривая слова губами, подумал Турист. Неожиданно вспышкой электрического тока по позвоночнику пробежал дурацкий и смешной, но не в этой обстановке, ответ: «Для меня! Ой-е, мать моя! Меня встречает!»
Турист попятился задом не в силах отвести взгляд и развернуться. Где-то уже у выхода, крутнулся волчком и быстро вышел из Храма.
– Не подскажите, как пройти в этот замок, ну, где императора Павла табакеркой по голове, где он еще все на прусский манер сделал? А? Через мост? Вон тот? Какая Фонтанка? А-а-а, там спросить, ага-ага, спасибо, спасибо! – Турист несколько раз неловко изобразил поклоны в знак благодарности старушке-музейщице и стремительно вышел из Петропавловской крепости. По дороге он весело размышлял о своем испуге, тужился, вспоминая, какой сегодня церковный праздник, и даже почти что был уверен, что сегодня у всех Павлов именины, оттого и цветы, и открытая калитка. На душе стало весело и спокойно. Однако, зная свой характер, Турист не сопротивлялся возникшему любопытству и решил сходить в Михайловский замок императора Павла. Идеи всегда захватывали его полностью, он даже забыл, что ничего не ел со вчерашнего вечера.
А небо над Питером было уже совсем другим: солнечные лучи пробили толщу туч, заиграли позолотой на поверхности уличных луж и Невы, наполнили ярким цветом первую, еще совсем прозрачную весеннюю листву.
Пока мокрый Турист шагает по Троицкому мосту, остановимся ненадолго для знакомства. Не будем вводить читателя в заблуждение и сразу расставим все точки над «i» по поводу личности впечатлительного героя. Вот посмотрите на него со стороны: высокий, не меньше метра девяносто, с копной вьющихся светлых волос, слегка сгорбленный, с нескладной подростковой походкой, худоват, хотя и широк в плечах. Джинсы грязноваты, ветровка замусолена, кроссовки стары. Глаза василькового цвета, нос прямой как у античного грека, губы припухлые. Девчонки таких обычно любят, но не выходят замуж. Парни таких обычно бьют или изводят насмешками, но уважают за бесшабашность и личную независимость. С виду ему, скорее, подошло бы прозвище Иванушка-дурачок, чем Турист в современном представлении этого слова в головах городских обывателей. На самом же деле зовут его, действительно, Иван, фамилия смешная – Ежихин, отчество – Федорович. Иван Федорович Ежихин.
Взрослые соседи в детстве и юности ласково называли его дебилушкой, или балбесушкой. Одноклассники, когда дразнили, называли его не иначе как Лупень или Паганель за его вечное витание в облаках. Когда не дразнили, то называли просто – Ванька-дылда. Родители у него были самые что ни на есть обыкновенные, из спального микрорайона то ли Казани, то ли Рязани, где, говорят, грибы с глазами. Они, в отличие от странного сына, никогда не падали в открытый на тротуаре люк, не застревали головой между перилами лестничных пролетов, не попадали под мопеды и не пытались ради интереса фотографировать с крыши девятиэтажки лицо пилота в момент посадки в старом аэропорту, который находился совсем рядом с микрорайоном.
Единственное отличие его от сверстников с детства – книжки и толстые журналы. Больше никаких выдающихся достижений. Уже на первом курсе местного института, в веселые девяностые годы Ваня Ежихин бросил подрабатывать грузчиком на вокзале и с юношеским восторгом взялся работать на выборах у одного из кандидатов в Горсовет. В избирательный штаб Ваню привел сосед – старшекурсник все того же местного института, который в красках рассказал сколько «бабла можно поднять студенту» на выборах, особенно если бригадиром над другими такими же студентами. Сначала Ване очень хотелось заработать на теплую зимнюю куртку, чтобы не тянуть со своих уже почти нищих к разгару девяностых родителей, но буквально с первого же дня – готов был работать хоть за бесплатно. Его маленькая спальня наполнилась стопками библиотечных книг по психологии, социологии, маркетингу, политологии, а также классическими политическими трудами. Он читал партийные методички, потом хватался за Фрейда, переходил к полевым социологическим исследованиям, после которых принимался за древнеиндийскую Архашастру. За Архашастрой накидывался на модную в то время политологическую новинку «Уши машут ослом», а после встречи своего кандидата с избирателями, бежал в библиотеку за переводом японского Бусидо, поскольку Ванечке кандидат на мероприятии показался именно что самураем перед харакири.
В общем, повезло человеку, с самого начала жизненного пути нашел, так сказать, свою стихию и цель. А цель простая – придумать непобедимую выборную технологию его, Ивана Ежихина, авторства. С годами он, конечно, поумнел и понял, что не все решается технологическими манипуляциями, тем не менее выборы считал единственной своей профессией, достойной оплаты. Деньги ему, естественно, платили, то густо, то пусто, но обращаться с вожделенными бумажками он так и не научился, по крайней мере, пока не научился, к своим тридцати с небольшим годам.
За то, что он был легок на подъем и с удовольствием ехал по выборным делам туда, где обычно и Макар телят не гонял, в околополитической тусовке города к нему быстро приклеилось прозвище «Турист». При всем отвращении к туризму как способу времяпровождения Иван со временем смирился с этим прилипшим, как банный лист к известному месту, прозвищем.
Выборы в Горсовет тогда, в его первую кампанию, были суровые и бурные. Шальных денег кандидаты не жалели, и по всем тогдашним правилам сметы раздувались неимоверно. По району шныряли бригады агитаторов, внешне похожие то на банды гопников, то на первомайские демонстрации активных пенсионеров. Друг за другом следили крепкие парни в кожаных плащах до пят и разъезжавшие на тонированных девятках. Бригады имиджмейкеров, журналистов, операторов и еще куча всяких разных рекламно-агитационных специалистов-дармоедов всячески показывали кандидату и самим себе, как важна и решающа их работа на выборах. Они кортежами разъезжали по городу, организовывали мероприятия кандидата, искали новые сюжеты для телевидения и газет и устраивали, как им самим казалось, гениальные, не хуже чем на Западе, скандалы и провокации против других, точно таких же кандидатов. Со стороны могло показаться, что все жители города, за исключением малых детей, профессионально и за деньги занимаются предвыборной кампанией, благо тогда заниматься особо больше и нечем было.
Иван, вникнув в процесс, через неделю был охвачен творческой чесоткой. Он сутки просидел за компьютером и, распечатав материалы, нагло, без приглашения ввалился в кабинет Кандидата, на которого работал.
Кандидат – маленький, лысенький живчик с гусарскими усиками и вечно бегающими глазами. Все советское время он был заместителем по хозяйственной части коммунального техникума, с о-о-очень серьезными по тем временам связями и возможностями. Впрочем, таких персонажей тогда было как навоза весной: куда ни глянь – везде оттаял. А запах навоза, как говорили деревенские трактористы, что толкали по бешеным ценам халявный навоз горожанам, которые в то время массово бежали в пригородные огороды – это запах денег. Главное, что политические персонажи в эту оттепель грамотно вписались в Россию системы девяностых и откуда-то имели деньги, даже фантастические, по меркам Ивана, деньжищи.
Кандидат попивал кофе прямо на ворохе предвыборных газет и листовок с начальником своего предвыборного штаба, знаменитым уже тогда технологом Василием Кузнечко. Они оба вопросительно уставились на тогда еще совсем юного Туриста.
– Тебе чего, юноша? – демократично и весело спросил модный политтехнолог, с легким раздражением отметив про себя, что вообще-то это форменное хамство через его голову заваливаться к заказчику, да еще и с какими-то макетами, которые он предварительно не просматривал. Впрочем, заказчик сам же сразу и успокоил инстинкт конкуренции за доступ к телу финансового источника.
– Вася, чего это за перец? – И дальше срываясь на нервный крик измученного публичным вниманием кандидата в депутаты: – И чего они вообще ходят сюда, как на выставку санфаянса?! А? Мне чего, в собственной конторе охранника к двери кабинета поставить? А, блин?
Иван не дал боссам продолжить диалог. Смело, с непосредственной улыбкой идиота подошел к начальственному столу и с удивительной ясностью глаз, которыми он словно излучал торжество, искренность и человеческую доброту, начал громко говорить:
– Да вы не бойтесь, я ненадолго. Смотрите, чего я придумал. Если вот эти буклеты и плакат сделать, то мы гарантированно возьмем пятьсот голосов в СИЗО и заберем примерно тридцать процентов избирателей у нашей конкурентки. Только надо быстро это сделать и это, как там… тотальная и агрессивная расклейка, во!
На столе оказалось два шедевра начинающего политтехнолога: макет будущего буклета с фотографией самого кандидата напротив фотографии знойной голой красавицы, похожей на девушку из рекламы шоколадки Баунти; и второй плакат: голые, едва-едва прикрытые снизу женские груди формата А3 на белом пустом фоне.
– Гы-гы, – заржал Василий Кузнечко. Кандидат стал бордовым, он не отрывал взгляда от буклета, на котором казался сам себе неприлично толстоватым и староватым рядом с тропической красоткой.
– Вы где этих прыщавых озабоченных дрочеров находите? – продолжая багроветь, взревел кандидат, обращаясь к своему технологу: – Да он же враг, Тамаркин шпион у тебя в штабе! Да я ж его… да его щас в лесу подвесят за одно озабоченное место, в натуре! Ты, пионэр недоделанный, ты не понимаешь, к кому вваливаешься и с кем разговариваешь?!
Кузнечко мысленно согласился с реакцией заказчика в том смысле, что это юное чудо совершенно точно на его, Кузнечко, бюджеты, претендовать не может. Однако, именно с точки зрения его бюджетов и будущих выборов в Государственную думу, инцидент мог отрицательно отразиться на имидже самого модного в городе политтехнолога. Поэтому начальник штаба начал успокаивать кандидата с помощью самых наукообразных аргументов и примеров из практики цивилизованных стран, что действовало в те времена на российских политиков почти так же, как финский санфаянс на советских завхозов коммунальных техникумов:
– Погодите, погодите! Похоть, инстинкт продолжения рода, богатство в образе больших грудей, наконец, сексуальные девиации – это важный аспект жизни электората! Уверяю вас, что тема сисек – это обоснованная еще великим Фрейдом игра подсознательных табу, которую всегда используют ведущие мировые политтехнологи в предвыборной игре в цивилизованных странах! Вряд ли президент Рейган так бы уверенно избрался, если бы не был популярным актером Голливуда и объектом желания зрительниц. А ведь на самом деле он далеко не красавец! Сексуальный скандал – двигатель электорального интереса, вопрос только в том, что хотел сказать своим творчеством наш юный стажер. Вы нам поясните идею вашего, пардон, клубничного творчества, завершите гештальт, но только очень-очень быстро, у нас без вас в офисе масса дел между встречами…
Иван был несколько смущен реакцией на свои макеты, но, подумав, что начальники ничего не поняли, а уже дают оценки, начал пояснять:
– Погодите. Это же не то, о чем вы подумали. Возьмем вот этот будущий буклет для СИЗО, лист сгибаем, получается четыре стороны, и что мы видим? Полезную для заключенного под стражу вещь, которую он не выбросит и которая полностью соответствует его жизненным, так сказать, проблемам. На первой странице знойная красавица – это символ желания, мечта запертого человека, сублимация, так сказать, представлений о свободе в послесоветские времена. Дальше – чистый лист с подписью «Распиши тысчонку». Это для популярной карточной игры, главного способа скоротать время, практическая польза, так сказать. Дальше – календарь на полгода вперед, считать оставшиеся дни до суда. И дальше, понятное дело, сам кандидат, который не просто для рекламы, а который понима-а-а-ет! – Иван высоко поднял указательный палец. – Понима-а-а-ет долю человека на шконке, человека, который это, как там, чалится, вот! А если б вы еще договорились радиоточку изолятора использовать для блатных песен, которые хотя бы без оскорбления вертухаев, вернее, сотрудников, то они вас вообще за своего родного приняли бы, и за такой шансон все голоса будут ваши! – Иван сделал паузу, поглядел на реакцию и для убедительности добавил: – В общем, это не примитивное зомбирование и советское собрание коллектива, а сознательная акция на нашей русской платформе «родственных душ»!
Кузнечко, скривившись, почесал за ухом. Он пытался угадать реакцию кандидата, но тот молчал, сопел и не сводил взгляд со своей фотографии. Потом сказал:
– Да эту фотографию даже моей теще показывать нельзя, не то что задержанным! Какие, едрит твою, родственные души! Типун тебе на язык, каркаешь! – Теперь уже Кандидат подумал, что это такой хитрый ход технолога Кузнечко через молодого дурачка, чтобы опять выйти за пределы обговоренной уже на десятый раз сметы. Поэтому быстро добавил: – Елки-палки, да все уже я перетер со всеми в СИЗО, а вы меня опять стричь начинаете, так сказать!
– А что со вторым макетом? – быстро отреагировал Кузнечко, уводя тему от скользких подозрений заказчика.
– Тут еще проще, – сразу подхватил Иван пас от главного технолога, немного помявшись и думая, как назвать вслух огромную женскую грудь в этом солидном взрослом кабинете: – Не знаю, как там по Фрейду, не все читал пока, но у нашей главной конкурентки, госпожи Скалкиной, в комсомольских кругах было неофициальное прозвище «Скалка-давалка»…
Кандидат в это время заскалился, хитро улыбнулся и слегка качнул головой. Ваня заметил, что попал в точку и продолжил:
– Это прозвище мы просто из узких кругов перетащим в широкое общественное поле. Берем эти, э-э-э, как там, эти… сиськи А-три и наклеиваем на соответствующее место на ее плакаты, которыми она залепила весь город. По тону и цвету все совпадает, смотрите, вот, технически – это ночь работы. Поначалу никто издалека и не заметит накладки, зато, э-э-э-э, сиськи, конечно, заметят все. Поскольку самые дисциплинированная, не пьющая и нравственно устойчивая часть нашего народа – женщины с детьми и пенсионеры, то пошлая соблазняющая реклама должна вызвать резкое неприятие нашего основного оппонента… и это, того, ну вы понимаете. В крайнем случае через пару дней их штаб сам зачистит от своих плакатов наш город. При этом, благодаря сложившейся репутации – тема разврата будет восприниматься вполне… как это… естественно и правдиво, во! И мы с чистой совестью, как Робин Гуды, не врем людям, а наказываем морально разложившихся кандидатов проигрышем на выборах…
Повисла пауза.
– Еще идеи есть? – спросил кандидат. – Ну и кадры у тебя, Вася, и где ты находишь таких дурачков? Эх, рано комсомол закрыли, рано, в общем, сами тут порешайте, как лучше, у меня стрелка важная, потом побазарим с тобой один на один…
Кандидат как ураганчик завертелся по кабинету, собираясь, пожал руку Кузнечко, одновременно ныряя другой рукой в дорогую дубленку, и шумно вылетел из кабинета.
Кузнечко присел за стол, побарабанил пальцами по столешнице о чем-то думая, поглядел на стоящего перед ним Ваню Ежихина и сказал:
– Садись. Кофе будешь? – Кузнечко потянулся к чистой чашке. – Будешь со мной работать, пока. Может, подружимся и я из тебя человека сделаю, может, выгоню без зарплаты, поглядим. Пока запомни самое главное на выборах: никаких выборов у нас нету. Вообще. Ясно? Есть спектакль, цель которого – заработать денег одним и оформить свое право на власть другим. И не важно, кто победит, главное, чтобы победила юная и пока щедрая российская демократия. И да, запомни еще: у нас нету никакого народа, что это вообще такое – народ? Есть электорат и все. Понял? И мы с тобой никакие не Робин Гуды, а просто «охотники за голосами», настоящие охотники, поймаем дичь – будет тебе хлеб с икрой, связи и почет, не поймаем – на рынок пойдем китайскими кроссовками торговать. Все просто. Пока этого с тебя достаточно, но ты это запомни, если хочешь выборами заниматься. Оцени откровенность, пока я добрый. И больше без моего ведома никаких инициатив, если на серьезные проблемы не хочешь нарваться, ясно? Это я тебе как бывший факультетский инструктор комсомола советую…
Так у Вани Ежихина появился первый друг по профессии и сама профессия. Потом были разочарования, дискуссии все с тем же Кузнечко о политтехнологиях и власти, периоды затишья и бурных избирательных кампаний, муки совести и обострения цинизма. К моменту своего появления в дождливом весеннем Петербурге Турист уже стал типичным практикующим дельцом с глубокой внутренней тоской о несправедливом устройстве мира и с удивительным образом сохранившейся детской верой в то, что истинная демократия все-таки бывает.
Черный джип мягко прокатил мимо указателя границы одной из провинций Российской Федерации. Джип, короче, такой, ну, долго описывать, такой, что сразу видно – не фермер и даже не начальник цеха на таких джипах ездят, не иначе как очень состоятельный депутат, бизнесмен или сам московский какой начальник. Область, наоборот, была очень древняя, маленькая, с давно высосанным столицей народонаселением и растасканными по алчным частным рукам под дачи и земельные спекуляции бывшими помещичьими и колхозными усадьбами. Народец в области был все больше престарелый, в современном постмодернистском смысле необразованный, но консервативен, крепок хитростью и традиционно скрытен. Именно так и представлял свою будущую область пассажир черного джипа из рассказов знакомых, чтения интернета и московских сплетен. Этот пассажир – Василий Сергеевич Кузнечко.