Две Москвы: Метафизика столицы
Tekst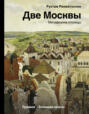


Mine üle audioraamatule
- Maht: 630 lk. 329 illustratsiooni
- Žanr: Vene ajalugu, Ajaloo- ja kultuurimonumendid
Возможное путешествие
С приездом Аристотеля заминка в деле видимо продолжилась, исполнившись невидимого деланья. Болонец принял несомненное участие в таинственных исканиях Ивана. Экспедиция Фиораванти может считаться новгородской, как и государев «любовный» поход, настолько, насколько Новгород владел Заполярьем. Ловчую птицу Москва добывала по соглашению с ним.

Строительство Успенского собора. Миниатюра Лицевого летописного свода. В центре, предположительно, Аристотель Фиораванти
Граф Хрептович, комментируя письмо Аристотеля, реконструировал путешествие зодчего «правдоподобно за отсутствием достоверного»:
«…Великий князь указывает на более ему известный Успенский собор во Владимире, но, вероятно, Иоанн III знает понаслышке и о новгородских храмах и велит Аристотелю осмотреть все лучшее и годное… Предположим, что это было во второй половине апреля <…> Посетив и срисовав владимирские и суздальские храмы <…>, Аристотель <…> спускается к Белому морю, имея теперь в виду добычу белых кречетов для миланского герцога <…> Видит в июне полночное солнце на указанной им высоте. Затем с добытыми серыми кречетами пускается в обратный путь <…>, попадает в Старую Ладогу… а оттуда в Великий Новгород <…> Обогащенный сведениями и рисунками, возвращается он в Москву, быть может в конце сентября, и подробно докладывает великому князю, особенно, вероятно, восхваляя Св<ятую> Софию, имя которой кстати носит великая княгиня <…> Иоанн III готовит тогда свой «мирный» приезд в Новгород и, наслышавшись о Св<ятой> Софии, берет, как мы полагаем, Аристотеля с собой в Новгород, это было 22 октября 1475 года <…> В Новгороде Аристотель еще подробнее изучает и срисовывает храмы, смотрит их вместе с Иоанном III и вместе с государем 8-го февраля возвращается в Москву. Письмо и кречеты 22-го февраля отвозятся в Милан сыном Аристотеля <…> А 12-го мая 1476 года происходит закладка ныне существующего, третьего Успенского собора, в котором нельзя не видеть влияния изученной Аристотелем новгородской Св<ятой> Софии».
Как цепь ученых допущений, история Хрептовича предельно уязвима. Но удивительно точна как сумма интуиций метафизических. В Новгороде Иван Великий стяжал великие дары любви и мудрости, даже Премудрости, софийности. Тем часом первый зодчий государя вез из Заполярья некий знак – белого кречета.
В третьем новгородском походе Ивана, зимой на 1478 год, Аристотель достоверно был рядом с великим князем. Как инженер, наводил мост через Волхов. Именно тогда Иван привел Новгород «во всю свою волю и учинился на нем государем, как и на Москве». И вновь, пишет Забелин, «со стороны Новгорода событие совершилось мирным порядком – войны не было». Со стороны Москвы войска пришли, но не вступили в дело. Их вел, помимо прочих воевод, князь Иван Юрьевич Патрикеев. В лето после похода Фиораванти вывел Успенский собор под кресты. Делать кровлю государь оставил новгородским мастерам. На следующий год расписанный собор был освящен, а вскоре новый русский мир стоял на Угре.
Часть IV
Соломон и Китоврас
Апокриф
Новгородцы сами искали что-то на краю своих владений. То рай земной, то Лукоморье, царство Китовраса – кентавра, царившего в народном бестиарии Северо-Запада и Северо-Востока, Поморья.
Апокрифы, «кощуны» о Китоврасе начинаются там, где оставляет место тайне Писание, стих о Святая Святых Соломона:
«Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни; но ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его» (3 Цар. 6:7).
Смысл этого запрета разъясняется словами, сказанными Богом Моисею на Синае: «Если же будешь делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных. Ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их» (Исх. 20: 25).
Просвещенный государь XV века, у которого упал соборный храм, остановил бы взгляд на этих фрагментах Писания. Упавший храм был именно обтесан, «камнесечцы» – нарочитое словцо в хрониках обрушения.
Но что же делать, если не тесать? Или тесать, но не железом? Чем? Писание молчит – апокриф начинается.
«Сказание о Соломоне и Китоврасе» известно в русском переводе середины XV века, по сборнику, составленному книгописцем Ефросином. Здесь ключ к загадке Аристотелява путешествия:
«Егда же здаше Соломон святая святых, тогда же бысть потреба Соломону вопросити Китовраса», что живет «в пустыни дальнеи».
Китовраса ловят в этой дали и приводят в Иерусалим. «И рече ему Соломон: Не на потребу свою приведох тя, но на вспрос очертании Святая Святых приведох тя по повелению господню, яко не повелено ми есть тесати камени железом.»
Ответ и будет ключом: «И рече Китоврас: Есть ноготь птица мал во имя шамир <…> на горе каменнеи в пустыни далнеи».
Способ постройки Святая Святых знает далекая птица.
А Китоврасу известно, как найти птицу и как ее заставить принести искомое. Нужно накрыть стеклом гнездо с птенцами, и, чтобы пробиться к ним, ноготь-птица принесет в когтях некое что.
Способ поймать самого Китовраса знает царь Соломон. За диковинным зверь-человеком отправляется «первый боярин» с указанием влить мед и вино в три колодца. Китоврас приходил, выпивал и давался на цепь. А вот какой рассказ посла Толбузина об Аристотеле записан летописцем. В Венеции Фиораванти показал послу такую хитрость: лил из сосуда то воду, то мед, то вино – что хочешь, по слову.
Китоврас не умел поворачивать, и на пути его даже сносили палаты. Аристотель же выпрямил в Мантуе башню, в Парме стену и реку Кростоло, в Болонье – реку Рено. Впечатление прямохождения в списке его итальянских работ неотвязно, и в Москве он сперва разбивает устоявшую южную стену собора-руины.
По всему, Аристотель не всадник. Кентавр. Китоврас с белым кречетом на рукавице.
Мудрость и Премудрость
Тексты о Китоврасе могли быть ведомы в ложе болонских каменщиков, где старшинствовал Фиораванти. Помыкая белого кречета, Аристотель ставил мистерию эзотерическую. В Заполярье это почти алхимия: ночное солнце – алхимическая фигура.
И удивительно: заморский Фауст, новый Аристотель по прозванию, работник тайных лабораторий Возрождения, ставивших тайнознание выше или в место душеспасения; и православный государь, способный ссориться с митрополитом о направлении крестного хода: по солнцу или против, – эти двое сложили свои усилия. Сложение и есть Московский Кремль, Италия в Москве, раннее Возрождение в высоком Средневековье. Сложение белейшей чистоты и гармоническое, потому что государь ни в чем не отступил от ортодоксии.

Китоврас мечет братом своим <Соломоном>. Клеймо кованых врат из Новгородского Софийского собора, перенесенных в собор Александровой слободы
Как в будущем царю Петру, Ивану тоже требовались мастера: фортификаторы, монетчики, артиллеристы, архитекторы. За всех в одном лице был Аристотель, после которого явились и другие. Но это не причина государю обрушивать традицию и соблазняться о чужом.
Если Фиораванти добывал орудие, которым обладает птица, то Иван искал, конечно, благодать на храмоздательство. Не тайну, а любовь. Премудрость, а не мудрость тайную. Московский государь, которому в начале нашего рассказа только тридцать лет, был истинный философ символического.
Белый кречет Ивана Великого – знак благодати над творчеством и властью.
Две природы Китовраса
В кентаврической природе Китовраса срощены две ипостаси. Сказание гласит, что он не только первозодчий, но и сводный брат царя, Давидов сын. Кощунственность Сказания отчасти в этом: сын Давида не человек, но человеко-зверь.
А как такой, он есть царь ложный, узурпирующий. Царь зверей, царь ночи, подземелья, Лукоморья, той стороны земли.
Соломону страшно брата, когда тот в городе, царь окружает свое ложе стражей. Тщетно: едва Китовраса спускают с цепи, он закидывает Соломона на край земли. Тот, вероятно, край, где царствовал сам Китоврас. Братья меняются местами.
У Китовраса два пути: встать справа от царя, смыкая свод над храмом, когда сам царь сводит его над царством, – или соперничать царю с мыслью о царственности собственной. О царских знаках, спрятанных под шерстью. На точке выбора, да и на выбранной дороге Китоврас мучительно сражается с самим собой, как подобает всякому кентавру.
Имя Китовраса пора присвоить архетипу. Это архетип первого зодчего. Говорят же, что Барма и Постник одно лицо. В имени Бармы проступают царские знаки, в имени Постника – смирение. Многозначительно зовется первозодчий Годунова: Федор Конь. Биография его оканчивается на покаянии в монастыре.
Часть V
На новом круге
Упущение
После разъяснения случая Аристотеля, случай сокольничего Трифона покажется сближением случайным и сначала отдалится. Но лишь сначала. Даже взятые по расхождению, когда князь-инок ищет кречета уже великокняжеского, отлетевшего, – два случая суть стороны одной истории. Ибо единствен белый кречет. И обратимы две природы Китовраса, первозодчего и брата государева. Князь Патрикеев очень точно выбран олицетворять вторую ипостась: как брат Ивана III, во-первых; как, во-вторых, ближайший из его сотрудников; как, в-третьих, кончивший опалой, замешавшись в династической интриге.
Венчание великим сокняжением Димитрия-внука влекло разлад, к счастью короткий, между Софьей и Иваном. Символически – между Иваном и Премудростью; и Новгородом; и наследием Империи. Новгород в самом деле вздрогнул: открылась ересь. Еретики принадлежали к молдавской партии Димитрия.
Не этот ли разлад означен упущением, отлетом кречета? Треснула государева семья, из трещины вылетел кречет. Князь Патрикеев, действовавший против Софьи, в предании назначен упустить его. Вмешательство невидимых сил, стоящих, как мученик Трифон, на страже у жизненных центров Москвы, обличает серьезность угрозы.
Только ведь белого кречета упустил сам Иван. Это он, стремительно исправивший ошибку, воротившись к Софье, – по слову летописца, «нелюбовь ей отдавший и начавший с нею жить по-прежнему», – возвращается из Напрудного, как некогда из Новгорода. На белом коне, с белым кречетом на рукавице.
Возвращается к любви.
Обновление брака
В те годы от Литвы к Москве переходил весь верхнеокский и деснянский Юго-Запад – древняя Черниговская область. Шла первая война восьмой тысячи лет. История продлилась, светопреставление отложено. Иван перенаправил, бросил за Угру избыточную силу ожидания Конца, предотвратил обрыв этого чувства. Обрыв, часто равняющийся окончанию того, что мы зовем Средневековьем.
Принявшему Чернигов государю открылся путь на Киев. Ивану доставало зрелости, но не достало юности для входа в этот град Святой Софии; для восхождения на новый круг духовного труда с замкнувшегося круга новгородского.
Через размолвку с Софьей обновлялся государев брак, чтобы ответить этим обновлением брачному входу в Киев. Вернуться к Софье как войти в Софию Киевскую.
Перемирие с Литвой синхронно смерти Софьи: 1503.
В закладе
Аристотель исчез из русских хроник раньше. Считается, что он подобно князю Патрикееву кончил опалой. Не видно, чтобы он соперничал Ивану III. Он только попросился у него домой после жестокой казни иноземного врача.
Не видно и того, чтоб Аристотель был слугою двух господ. Отослав господину миланскому кречетов смутного цвета, он словно отсыпал фальшивые деньги.
Эти кречеты, видимо, те же, – гласит итальянское ученое мнение, – которых герцог Сфорца выпускал над Миланским замком в день своей гибели от заговорщиков. В том самом 1476 году, когда в Москве поднимался собор.

Герцог Галеаццо Мария Сфорца (?) на фреске Беноццо Гоццоли «Шествие волхвов». 1459–1460. Капелла Волхвов палаццо Медичи – Рикарди (Флоренция)
Как будто птицы бьют миланца в темя. Но эта смерть принадлежит только эзотерической мистерии от Аристотеля. Ортодоксальная мистерия Ивана III светла, как белый кречет, и не нуждается в кровавой жертве.
Сам герцог Сфорца, в противоположность московиту, был, конечно, эзотериком. Фиораванти в своем письме загадочно перемигнулся с прежним господином, аукнулся с ним Дантом: «Время коротко, коротко, и я не могу рассказать тебе многого (а также всегда об истинах, носящих личину зла, лучше крепко сомкнуть уста, чтобы избегнуть безвинного позора)». Это из «Ада», XVI: 124.
Не нужно смерти герцога, чтобы увидеть состязательность между Миланом и Москвой. Герцогу, помнится, сначала отказала Софья; потом ее премудростью уловлен Китоврас, знающий тайну храмоздательства помытчик белой птицы.
Молодая династия Сфорца лелеяла гордые планы, имевшие градодельную сторону. Однако замок Сфорческо, с бойницами в образе птичьих хвостов, обернулся Московским Кремлем. Кремль стал едва ли не Сфорциндой, любимой мечтой архитекторов Медиоланы.
Ломбардия в закладе за Москву. И когда Аристотель исчез, появились другие Фрязины: Антон, Бон, Марк, два Алевиза, Петр – Пьетро Антонио Солари, потомственный миланский зодчий, «генеральный архитектор Московии».

А.М. Васнецов. В Московском Кремле. Василий III и Алевиз Новый строят Архангельских собор
А там, где Аристотель выбрал глину на кирпич – в Калитниковских ямах; в этом антителе Успенского собора; там, где убавилось, когда прибавилось в Кремле собором, – до наших лет гнездился Птичий рынок.
Царь домов и дом царя
Пашков дом и Кремлевский дворец
ЦИТАДЕЛЬ
Кремль и кроме – Старое Ваганьково – Автоном Иванов
ОПРИЧНИНА
Опричный двор – Живи один – Раздел земли – Определение интеллигенции
ВЛАДЕНИЕ И ОВЛАДЕНИЕ
О княжестве и царстве – Новый Рюрик – Начало западничества – Новый Калита – Преображенец прав? – Эксцентрика – Замок Кремль
МОСКВА – РИМ
Капитолий, Палатин и Форум – Республика
МОСКВА – КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Галата – Попятная Энеида – Жертва царевича
МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ
Арбат и Арбатец – Дворец Ирода – Место Давидово – Вселенское и местное
ЖЕСТЫ И ЛИЦА
Королевский жест – Химера Гоголь – Александр и Николай – Федор Кузьмич
НОВЫЙ КИТОВРАС
Баженов и Казаков – Метафизическая атрибуция – Царь беглый и царь белый

Дом Пашкова. Гравюра Ф. Дюрфельда по рисунку Д. Антинга. После 1787
Часть I
Цитадель
Кремль и кроме
Он царь домов. Иван Великий от жилого фонда. Дом Ивана – царя, царевича ли, дурака.
Но почему-то не в Кремле. Или он сам себе кремль. Возможно, в слове «кремль» таится слово «кроме». Вот корнесловная причина быть чему-либо кроме Кремля. Есть Кремль – и что-то кроме, как этот дом. Впрочем, он кроме всех домов.
В своем классическом эссе о нем Михаил Алленов пишет так: «Частный дом или замок… вознесен и красуется «главою непокорной» на противостоящем Кремлю холме…» «Но в контексте возникшей градоформирующей мизансцены превознесенной оказалась идея – идея отдельного, не зависимого от государственных и общественных институтов, самоценного «я». Того «я», которое есть основа основ европейского индивидуализма, нашедшего гениальное выражение в формуле «государство – это я»».
Старое Ваганьково
Однако нужно вспомнить предысторию Пашкова дома: историю двора и самого холма – Ваганьковского.
Предполагают, что сначала здесь была вторая крепость пра-Москвы, поднявшаяся, парно с боровицкой крепостью, над москворецким бродом, фокусом дорог и торгом. (Вага – вес, тяжесть; ваганец – место сбора пошлины, «ваганного» налога за взвешивание товара.) Когда же Боровицкий холм стал городом, Кремлем, – ваганьковское укрепление стало предместным. Предполагают, это был Арбат в первоначальном смысле слова.

Ваганьковский царский двор на Сигизмундовом плане Москвы. 1610–1611
При первом летописном обнаружении Ваганькова, под 1445 годом, на месте цитадели видим загородный двор Софьи Витовтовны, вдовствующей великой княгини, матери Василия II. Отпущенный казанцами из плена, «приде князь великий на Москву месяца ноября в 17 день и ста на дворе матере своея за городом на Ваганкове». За городом, поскольку Кремль в отсутствие Василия горел и государевы палаты стали непригодны для житья. Двоение дворца, его исход из города и дополнительность арбатского холма опознаются уже в этой, ранней мизансцене. А если бы в Кремле еще сидел Шемяка – узурпатор, враг Василия, бежавший раньше, – опознавалась бы и оппозиция холмов.

Дом Автонома Иванова на гравюре П. Пикарта «Вид с Каменным мостом из Замоскворечья». 1700-е
Итак, укрепленный двор, крепость кроме Кремля, стоял на Ваганькове издавна. И с самого начала обладал способностью вращаться. Вращательность есть коренное свойство предместного холма и всякой городской и подгородной цитадели: быть подле или против города. Смочь защитить его – и повернуться против, если он захвачен неприятелем.
Автоном Иванов
Один из младших внуков Софьи Витовтовны, Юрий, князь Дмитровский, оставил двор («чем мя благословила баба моя») своему старшему брату Ивану III. Двор оставался царским до конца XVI – первых лет XVII века, когда он вместе с окружающим посадом вошел в черту Москвы.
В Новое время статус участка падает. Но не эстетический статус: дьяк Автоном Иванов, владевший местом при Петре, поставил здесь голландский бюргерский барочный с гребешками дом. Уже не царского, но исключительного вида. Вот где начало на Ваганькове царствия частного лица, тем паче Иванова по фамилии, тем паче Автонома («самозаконника») по имени!
Но этот дом не удержался – лишь удержал заряд и статус места, чтобы передать Пашкову дому.
Часть II
Опричнина
Опричный двор
Ландшафтно холм Арбата противостоял Кремлю всегда, а политически – по временам. Ярче всего во времена опричнины.
«Опричь» синоним слова «кроме», откуда и «кромешник» – опричник. Слово «опричнина», существовавшее до Грозного, при нем лишилось точного, нейтрального значения и получило пыточное.
Исторически краткая опричнина выбрала Арбат по силе его вечной географической опричности. Опричнина есть разворот предместного холма и цитадели против города.
Указом об опричнине в ее состав вошла южная половина Занеглименья, от улицы Никитской до Москвы-реки, или Арбат в самом широком очерке. Арбатом при Иване называлась и теперешняя улица Воздвиженка, главнейшая для этой доли города.
Опричный двор стоял в переднем крае доли, на месте дома Пашкова. Но не Петра Егоровича, а его сродника Александра Ильича. Дом этого Пашкова более известен как «Новый» университет на Моховой. Пашковы спорили домами за первенство на этой улице и на холме Арбата. Александр Ильич построил на другом плече холма скупое отражение дворца Петра Егоровича. Дом, недаром вписанный в ученый миф о повсеместном гении Баженова: высокий, трехэтажный, с бельведером, с колоннадами на все четыре стороны. Впоследствии племянник унаследует и дядин дом.
Историки Москвы предполагают, что лучшее изображение Ваганьковского царского двора, на Сигизмундовом плане Москвы 1610 года, заимствует черты двора Опричного: гербовые ворота, башня, каменные стены, как и описывал немец-опричник Штаден. Ваганьковские царские хоромы на рисунке развернуты на Кремль, увенчанные в центре мощной шатровой башней. Похожим образом мы описали бы и дом Петра Пашкова, заменяя башню бельведером.

Дом Александра Ильича Пашкова. Фасад и план. 1800-е. Альбомы Казакова
В устройстве Опричного двора по Штадену тоже опознается некая праформа знакомой композиции Пашкова дома: три мощные постройки под гербовыми орлами, развернутыми грудью к земщине – Кремлю, и переходы на столбах вокруг покоев и до стен.
Опричный двор был в некотором смысле последованием, проекцией Ваганьковского государева двора. Древняя крепость Арбат обороняла стрелку старых киево-смоленской и новгородской (Волоцкой) дорог, теперешних Волхонки и Знаменки. С веками торг, образовавшийся у этой стрелки, ушел на холм Кремля, образовав Красную площадь. Следя за переходом торга, загородные дороги пришли в движение, то замещая друг за другом ложа уже оформившихся улиц, то образуя новые. Так, новгородская дорога перешла на ложе улицы Никитской, смоленская – на ложе Воздвиженки-Арбата. Устья этих улиц и закрепил Опричный двор. Ушедший, в сущности, за торгом, он отнесся к Красной площади так, как Ваганьковский двор – к Боровицкой.
Это отношение модельно повторилось в нововременском архитектурном споре двух Пашковых, из которых Александр Ильич строился позже.
Ваганьково опричных лет предположительно упоминается в нашествие Девлет-Гирея, под 1571 годом, с именем острога «за Неглинною от Ваганьково». Татары взрывают его и поджигают посад, горящий, впрочем, не татарским поджогом, но гневом Божиим: Девлет-Гирей воспринимался наказанием царю Ивану за опричнину. Хронист немедля переводит взгляд с Ваганьковского на Опричный двор, означенный его дворцовой церковью Петра и Павла: «Загореся Петр Святы на Арбате, сорвало с него верх и выбросило в город в Кремль». В этом переводе взгляда сказывается кремлевский, земский адрес наблюдателя: Опричный и Ваганьковский дворы смотрелись из Кремля оплечьями Арбата, угловыми цитаделями опричного удела.
Вскоре после крымского набега опричнина была упразднена, ее название запрещено. Однако мало лет спустя, в 1575 году, Грозный венчал великим княжением (все же не царством) знаменитого Симеона Бекбулатовича, вновь оставил Кремль и съехал на насиженное место – бывший Опричный, ныне безымянный, двор. Теперь Иван назвался Иванцом Московским.
Иванец, смиренный паче гордости, – русская царская болезнь, правда, с различным выходом. Другой раз Иванец оборотился десятником Михайловым, не за Неглинной, но на Яузе, а после на Неве поставившим свою столицу.
Впрочем, и на Ваганьковском холме, в архитектуре бюргерских палат дьяка Иванова, запечатлелся беглый дух царя Петра. Одну седьмую Семихолмия дьяк отдал никоторому не Риму – Амстердаму, городу ниже моря, анти-холму.
