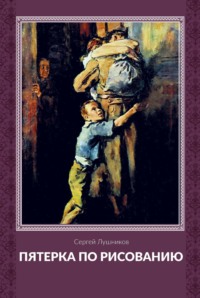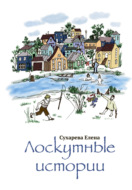Loe raamatut: «Пятерка по рисованию»

На обложке: В. Костецкий. «Возвращение». 1947 г.

© Сергей Лушников, 2022
© Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, поэтов и прозаиков, 2022
Проза
Пятерка по рисованию
Он не умел рисовать. Не получалось – и всё. Все предметы в школе давались легко, можно сказать, на лету, как ловит птица мошку, а рисование – никак. Отец рисовал хорошо, сестры тоже не мучились, а для него рисование было каторгой.
Но он любил чертить на замерзшем окне, пальцем выписывая витиеватые узоры. Палец приходилось время от времени греть и видеть, как рисунки исчезают, покрываясь льдом. А потом нравилось смотреть на окно, когда на улице за минус 45, а в доме затапливали печь. Лёд со стекла начинал оттаивать, как душа от доброго слова, а вода начинала стекать по верёвочке в баночку, которая висела сбоку подоконника. Всё это напоминало ему весну, когда ручьи бегут в реки и озера.
Поэтому часто отец, которому надоело объяснять бестолковому художнику принципы рисования, выполнял сам домашние задания сыну. Именно поэтому у того в школьном журнале были то «5» и «4» от отца или «3» и даже «2» – свои доморощенные, заработанные потом на школьных уроках.
Учитель рисования, бывший фронтовик, не жаловал его, как, впрочем, любой учитель нерадивого ученика по своему предмету, а иногда и выгонял из класса, увидев, что тот пишет какие-то сочинения или свой дневник. А приближалась пора окончания неполного среднего образования, тогда восемь классов…
Судя по оценкам, по рисованию у него выходила твёрдая тройка, показывающая, что он либо не хочет, либо не умеет рисовать. И среди всех предметов, по которым красовались красивые пятёрки, уродливая тройка вызывала не очень приятные эмоции в семье. Но все понимали, что это он заслужил, как, впрочем, и он сам. Оставался один урок рисования. Но что он может решить, если 70 процентов троек и двоек?
Тогда, в 1968 году, в их посёлке было много ветеранов войны – таких, как учитель рисования… И память о войне была в сердцах мальчишек как героическое великое, когда их отцы одолели фашистов, освободили мир от самой грязной и злобной нечисти. Поэтому они часто играли в войну, разделяясь на фашистов и русских, а его, слабого и маленького, часто записывали в фашисты, которые должны все равно проиграть…
Это не нравилось ему, и он стал ребятам со двора рассказывать истории о войне – с увлечением, часто додумывая невероятные подвиги наших бойцов. И чем больше эмоций выказывали слушатели, тем сильнее и убедительнее получались рассказы. И такие посиделки помогли ему прописаться в «русских».
А сегодня он шёл на урок рисования с неохотой, как идёт узник, осуждённый на каторгу за незначительное, как ему кажется, прегрешение.
Учитель рисования развесил три картины на доске. Одна изображала последние дни Гитлера в бункере, вторая – сражение на Курской дуге и третья, в стороне – «Возвращение» Владимира Костецкого. На ней солдат, вернувшийся домой с войны, его обнимают сын и жена.
Учитель стал говорить, что художник, рисуя картину, вкладывает в неё свои эмоции, мысли, что картина, как книга, только читать её нужно уметь. И вот сегодня каждый попробует описать то, что видит и чувствует…
Учитель вызывал всех к доске по алфавитному порядку. Ученики рассказывали о первых двух картинах, описывая свои мысли и художника. Но третья, висевшая справа, совсем не пользовалась успехом у школяров. Виктор тоже хотел рассказать о бункере, последних днях высших чинов Германии, о их растерянности, злобе и понимании конца проклятого рейха и начале новой жизни без нацизма.
Очередь до него дошла нескоро. Взяв указку, он направился к доске, но учитель остановил его:
– Виктор, расскажи об этой картине.
И указал на «Возвращение».
Виктор знал эту картину, дома была марка с её изображением. Но он не любил её рассматривать. Эта картина вызывала чувство жалости, к горлу подкатывал комок, а однажды, когда он на неё смотрел долго, то глаза наполнились слезами.
Он смотрел на репродукцию и молчал. Он смотрел на неё и забыл, что стоит у доски, что его ждёт класс. Он растворился в сюжете – через пять минут был уже там, на месте сына, обнимающего отца…
Голос учителя прозвучал откуда-то издалека, как из другого мира:
– Виктор, мы ждём.
И он начал рассказывать медленно и тихо:
– На картине художник изобразил сцену возвращения отца домой с Великой Отечественной войны. Обстановка в доме мрачная, тёмная, словно она показывает мирную жизнь без отца и в то же время саму войну, трудную работу солдата в грязи, среди дождя, холода и крови, своих товарищей и злобных врагов.
Он помолчал и, набрав воздуха, продолжил:
– Но в центре картины яркий свет от белых рук жены, крепко обнимающих мужа, от глаз сына, его рук, тянущихся вверх по спине отца. И этот небольшой, но яркий свет и есть проблески лучшей жизни в будущем.
Художник специально не изображает пару счастливой. Им повезло, они обрели друг друга. Их счастье мы чувствуем. А сколько несчастных женщин страны не дождались своих мужей, сколько детей остались сиротами?.. И поэтому он не выделяет в картине лица, чтобы не причинять большую боль тем другим, которым не суждено радоваться такой встречи.
С другой стороны, художник показал радость в глазах бабушки, стоящей в дверном проёме. На её изможденном лице именно глаза ещё не верят счастью, но она уже начинает понимать, что кормилец вернулся домой. И она, опираясь на правую, изуродованную голодом и тяжёлым трудом руку, вспоминает, как они жили одни. Вспоминает, как ели картофельные очистки, смешивая их с крапивой; как часто хлебали простой крапивный суп, осторожно откусывая крохотную пайку хлеба; как крошки его она разрешала собирать только внуку. И тот осторожно со стола собирал их рукой, отправлял в рот, облизывая ладошку получше кошки. А ещё она вспоминала, как однажды глубокой осенью они с внуком за целый день поисков на картофельном поле нашли три картофелины, которые ели три дня. А может, она вспоминала, как дочь заболела. И она ради её здоровья украла 300 граммов хлеба из больницы, где лечились раненые, совершив преступление, за которое она могла получить 10 лет тюрьмы. Но этот кусок хлеба поднял дочь.
А посмотрите на сына. Он тянется к отцу, защитнику. Сын верит в светлое будущее, вспоминая, как однажды впервые самодельной удочкой поймал несколько пескарей. Мальчишка нёс их домой, ожидая похвалу матери, что он становится кормильцем… А рыбу отобрали пацаны из враждебного района. Как он плакал, размазывая слезы по лицу от обиды… Может, поэтому у показанных художником лиц нет слез? Они выплакали их за годы войны.
Он остановился – душили слезы, а горло пересохло, словно сутки не пил. Виктор молчал. В классе все молчали, только девчонки всхлипывали в разных местах класса. Повернулся к классу – почти все плакали. У него перехватило дыхание, не мог продолжать, хотя мысли кружились в голове роем пчел. Виктор повернулся к учителю и с удивлением увидел, как тот, взрослый мужик, прошедший горнило войны, молча плакал.
И мальчик медленно продолжил:
– А солдат думал о последнем бое в Будапеште, когда его друг Серёга защитил его своей грудью от ножа фрица в подъезде красивого дворца, который нельзя было разрушать орудиями. Дворец брали штурмовыми группами, теряя своих на каждом метре. Он вспоминал слова друга: «Не горюй, тебя ждут, тебе надо остаться живым. А у меня все равно никого нет». Серёжка был детдомовский. А может, он вспоминал слова поэта Симонова «Жди меня, и я вернусь, только очень жди»? Он, солдат, вернулся к жене, любящей, тоненькой, как ива, растущая по берегам речек, но сильной, вынесшей на своих плечах и работу кочегаром в котельной по 12 часов, и голод, и холод, и слезы после ошибочной похоронки. Такое часто случалось с фамилией Кузнецов.
Художник на фоне мрачной обстановки в квартире, на фоне старой одежды ее обитателей, (обратите внимание – на сыне рубаха, сшитая вручную, и нижние края её неровные, видимо не было ниток). Так вот на общем тёмном фоне светлые объятия жены и есть наша Победа над врагом, победа жизни над смертью, когда смерть сдалась, выбросила белый флаг. И будут жить наша страна, наш народ всегда!
Через час они будут сидеть за столом и есть тушенку с хлебом из солдатского вещмешка. Сын будет примерять медаль отца «За взятие Будапешта», про которую Исаковский напишет пронзительные строки:
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Внезапно он оборвал свой рассказ, потому что учитель странной, сгорбленной походкой вышел из класса. В классе стояла гробовая тишина, которая прерывалась тихим шмыганьем носов.
Из окна было видно, как учитель на крыльце деревянной школы курил одну за другой папиросы. Вернулся он минут через десять почти строевым шагом. Голос у него был бодрый, как будто не было слез.
– Светлов, ты не умеешь рисовать. Но ты умеешь чувствовать, как художник. Ставлю тебе пять с плюсом! Спасибо!
А за весь курс рисования у Витьки красовалась пятёрка!
Домой парень примчался радостный и с порога закричал:
– У меня пять по рисованию! Пятёрка, мама!
Отец вышел из комнаты удивленный:
– Ты что, Мону Лизу нарисовал? Ну-ка покажи.
– Да, нет, ничего я не рисовал!
И начал сбивчиво рассказывать о том, что произошло в школе.
– Да, Витька, ну и везёт же тебе с языком, уболтал учителя.
– Нет, – Витя обиделся, – я ничего не болтал. Я рассказывал то, что слышал от вас… Ну, может, малость прибавил…
А через пару дней учитель подарил ему медаль «За взятие Будапешта»:
– Береги её и расскажи детям и внукам, всем, кому сможешь, о войне, сохрани память о нас. А меня, лейтенанта, в Будапеште спас солдат, но я не знаю ни фамилии, ни имени его. Шёл бой. Жестокий бой. Потом искал его среди мёртвых, но не нашел…
И запомни, эта медаль не за освобождение Будапешта от немцев, а за взятие города. Венгры в большинстве были нацистами, мы уничтожали нацизм там, в Венгрии. Не забывай этого!
Витька Светлов шёл домой. По обеим сторонам улицы Победы тянулись к небу тополя, роняя серёжки с пухом. И тот кружился на земле, образуя пушистые воронки, которые время от времени поднимались вверх и вызывали чих, напоминая о приближении буйства зеленой листвы…
Диван
Диван стоял молча. Это был советской работы диван, достаточно обветшалый, с невзрачной обивкой, но еще прочный, повидавший многих людей, что пользовались им в разное время, и вот теперь он готовился к последнему своему переезду на мичуринский участок. Рабочие попытались его вынести целиком, но не смогли – и пришлось разбирать ветерана, отсоединяя спинку от самого ложа. Ему стало грустно оттого, что он теперь будет часто стоять один, в холоде, без людей, к которым привык за свои неполные двадцать. Подумать только, в далеком 1975 году его изготовили на Искитимской мебельной фабрике из дерева, которое привезли с далекого Нарымского края – из мест, откуда бежал когда-то Сталин и куда потом он же ссылал невинных, которые в основном повымерли, потомки кое-какие остались, работали, заготовляя лес и отправляя его на заводы и фабрики страны. Вот и его основа прибыла на мебельную фабрику, где прошла сортировку и сушку, обработку разными механизмами и соединение всякими шарнирами и шурупами. Обтянутый темно-коричневым гобеленом, он превратился в вожделенную, по советским меркам, вещь.
Он помнил, как раскачивался в вагоне по пути в город N, как было холодно и сыро. Помнил, как грубо его выпихнули из вагона, не в силах поднять громоздкую конструкцию. А потом он красовался в мебельном магазине «Весна коммунизма» во времена Лигачева, совсем недолго, так как его сразу же купили. Он помнит руки женщины, ласково прикасавшиеся к его гобелену и постукивание кулаком мужчины, которое отдавалось эхом где-то внутри. Он никогда не забудет первый день в малосемейке по улице Сибирской, когда, раздев его от упаковки, молодые супруги бросились друг на друга, проверяя его крепость, прыгая и ползая по нему, словно приемщицы ОТК на фабрике. Сначала ему было немного больно, но потом, со временем, ощущение тяжести стало привычным и даже необходимым.
Супруги иногда ссорились, но он великодушно примирял их, завлекая широтой своих объятий, и ему казалось, что именно он самый главный в доме, что он может все или почти все. Через какое-то время в доме появился ребенок – плод той страсти и любви, которым диван был невольным свидетелем. Гордость одолевала, когда он чувствовал на себе маленький комочек, тихо посапывающий и смешно причмокивающий. Иногда, пытаясь привлечь внимание хозяйки к маленькому человечку, начинавшему ежиться и подозрительно ворочаться, он начинал жалобно поскрипывать, стараясь предупредить раздражающие, мокрые пятна. Его же стали, смазывая и подкручивая шарниры, ругать. Ребенок рос, проверяя своими методами его на прочность, прыгая на нем и с него так долго и много, что иногда хотелось плакать. Но диван терпел, оправдывая свое предназначение. Приходили друзья семьи, и тогда ему было весело, сжиматься и распрямляться от их приседаний и вставаний. Он многое видел, но молчал, не вмешиваясь в чужую жизнь, лишь изредка ворчал, скрипя шарнирами. На нем появилась накидка, более светлая, чем он сам, потом подушки, которые грели не только хозяев, но и его.
Диван вспомнил, как ребенок, будучи уже пятнадцати-летним, привел в гости симпатичную девчонку, и устроившись на нем, пытался обнять ее, а она кокетливо сопротивлялась. Потом они целовались… Тайна первого свидания была доверена ему одному. Он только прокряхтел, когда родители, обсуждавшие вечером какие-то дела и не подозревавшие, что их чадо выросло, устало погрузились в подушки. И вновь его смазали и подкрутили.
А как он не любил семечки! Когда супруги садились и щелкали проклятых детей подсолнуха, шелуха падала к нему внутрь, и становилось грязно и неуютно. Зато диван любил тишину вечеров, наслаждаясь ароматом чая и слушая концерты или созерцая серьезные фильмы с картинами чьей-то жизни, которая казалась хозяевам интересной, захватывала их душу, заставляя ерзать по его широкой спине.
А еще ему становилось радостно, когда его отодвигали от стены, подметали грязь и протирали мокрой тряпкой – после этого дышалось легко и свободно. Но время бежало неумолимо: он старел, спинка его прогибалась, шарниры истирались, шурупы ржавели, и ему было все тяжелее выполнять свои обязанности по дому, а здесь еще грянула перестройка Горбачева. «Благодаря» ей однажды он съежился от произнесенных хозяйкой слов: «Пора это старье выбросить, у всех уже импортные, а у нас рухлядь советская». Но муж заступился: «Нормальный старичок». Он же с тревогой стал ждать, ублажая своих хозяев, но это становилось все труднее. И вот это время наступило. Но его не вынесли на помойку, как другие отжившие свой срок вещи. Ему повезло, его везут на дачу, где он летом будет ждать встреч с дорогими ему людьми…
Рыба – что женщина…
Рыба что женщина, клюет по своему хотению. Вот почему рыбалка и заменяет нам на время женщину. Мужики любят этот процесс: не саму плоть рыбы, а сражение с ее хитростью, изворотливостью, умом. Ради победы они согласны на все: летят вертолетами, едут поездами, машинами и пароходами, покупают лучшее снаряжение, варят каши, покупают валерьянку вместо духов, изобретают красивые блесны, воблеры, сидят часами на берегу и в лодках, сжираемые гнусом, или мерзнут в сорокаградусный мороз так, что водка смерзается и становится похожа на кефир, а руки не гнутся вовсе… я уж молчу про более нежные части тела.
Победа одна для одного, поэтому и за ценой не постоим. И выдумаете, из-за какой-то рыбы?!.. Нет, только ради самой борьбы, страстной и непростой, требующей терпения, профессионализма, знания психологии, изучения распорядка дня, привычек объекта. Я неправильно написал выше, что рыбалка заменяет женщину. Нет, ловля рыбы закаляет и подготавливает к охоте за женщиной, поэтому рыбалка – удел настоящих мужчин!
И они часами ждут милости, кидая кашу ведрами, пуская в ход червей, опарышей, перловку, мормышку – все для одной победы. Иногда от безысходности пьют горькую, чтобы утром снова искать взглядом всплеска, красивого прыжка рыбины или пузырей, чтобы бежать к ней со своей снастью – вдруг соизволит? Ловля рыбы превратила обезьяну в мужика, а процесс рыбалки породил любовь, которая и отличает мир животных от человека. У женщин любовь пришла позже, по мере освобождения женщин от рабства, ибо вне свободы есть только привычка… И вот уже мужик пытается поймать свое счастье, иногда как заклинание твердит: чтобы хотя бы клюнула, подергала крючок, чтобы сердце затрепетало, будто красавица одарила томным взглядом…
Несчастный рыбак использует наживки одну эффектнее другой, меняет места свидания, а она клюет у другого. И, уже отчаявшись, почти в изнеможении, он опускается на траву, кладет удилище на берег, а в это время поплавок два раза дергается и плавно уходит в темную воду. Он судорожно хватает орудие лова, тянет его вверх и чувствует яростное сопротивление. Руки потеют, рыбак вскакивает и медленно притягивает добычу к берегу. И вот счастье бьется в его руках, скользкое и ловкое, оно пытается вырваться, но безуспешно. Он бросает доставшееся ему чудо в ведро и ждет нового, иногда посматривая, как рыба прыгает в его тюрьме, пытаясь выскочить наружу, и вскоре затихает. А мужика она уже не интересует, ему подавай свежее, красивее и интереснее… рыбину. Нет, может, рыбалка и способна заменить женщину, ибо в результате получаешь пленницу бессловесную и покорную… Но, с другой стороны, к такой и интерес быстро гаснет. А вот поймаешь в сети женщину, которая выносит тебе мозги… тут жизнь такая «веселая» начинается, что все равно свое счастье только в рыбалке и находишь. Нет, именно рыбалка – самая древняя профессия, ибо журналист появился, когда описал ее процесс, а проституция возникла при распределении ее результатов.
Но все-таки у хорошего рыбака женщина клюет по его велению, хотя хочется ей – по своему хотению. А практика жизни показывает: как у кого получается, так и происходит.
Ну, а мне пора на рыбалку…
Склероз
Сегодня с утра Владимир Михайлович был явно не в себе. Вчера вечером приготовил деньги, целых пятьсот рублей, а сегодня никак не мог найти. «Старый козел! – нещадно ругал он себя. – Куда сунул? Пропади они пропадом. Хотя зря так ругаю. Может, поэтому и пропали. Но куда?» Он обыскал все карманы, но деньги словно провалились сквозь землю. Обессиленный, он присел на старый диван. Посмотрел с тоской на разбросанные вещи: куртку, брюки в клеточку, потертые джинсы, пару рубах, и задумался: «Склероз окаянный начинается. Однако рано. Мне только 70 в прошлом году стукнуло. Или уже пора? Черт, старуху угораздило на дачу уехать! Та про деньги всегда помнит, чует, словно волк зайца! Когда работал, бывало, с мужиками посидишь вечерком, придешь домой – были в заначке деньги, а утром их нет. Все знает, а про деньги в первую очередь! Сейчас, правда, искать сильно нечего, и пенсии обе сама получает. Вот из пенсии оставила 500 рублей и живи теперь неделю. Черт, где же проклятая пятисотка?!»
Владимир Михайлович снова взял в руки джинсы и начал методично обыскивать свои карманы. Там ничего не было, кроме зажигалки. Он отложил их в сторону на диван и принялся вновь перетряхивать рубахи, но денег не нашел. Махнув рукой, словно сообщая о своем решении закончить с поисками, он вышел на балкон. Там на столике лежала пачка «Примы» и сигарета поодаль. Он закурил, глядя на улицу, по которой катился вниз полупустой трамвай, громыхая сочленениями и скрипя на поворотах. Через дорогу напротив стоянка перед баней заполнилась машинами. Ему тоже захотелось в баню, но цена там кусалась – 80 рублей. Поэтому последнее время он ходил туда раз в месяц. Тело вдруг зачесалось где-то под лопаткой.
«Чует грязь или мысли прилипли? – подумал Владимир Михайлович. – Интересно, все-таки, иногда кажется, что мысль материальна. Сколько раз, бывало, только подумаешь, а эта думка уже здесь. Эх, кабы пятисотка так же объявилась», – размечтался он, взяв пачку из-под сигарет в руки, и обалдел – 500 рублей торчали в пачке!
– Надо же! Как я забыл, что туда сунул! Точно, склероз. Ну, смотри, мысль опять превратилась в дело. Чудеса, да и только! – удивлялся пенсионер. Выбросив пустую пачку в ведро, Владимир Михайлович начал собираться в магазин. Через пять минут он был одет в джинсы, серую куртку и полосатую рубашку, которую подарила надень рождения перед самой смертью его любимая теща – Мария Петровна.
Она тоже любила его как мать, и он отвечал взаимностью, помогая во всем, даже в побелке квартир еще при социализме богатых людей. На улице стоял май. Деревья распускали свои листочки, радуясь солнышку и подставляя их теплу. Легкий ветерок обдувал приятно и тихо, словно опытный массажист в начале своего сеанса. Владимир Михайлович улыбнулся и зашагал за покупками. Раньше он очень любил рынок, особенно когда в кармане были деньги, много денег. Любовь к нему осталась, но удовольствия от прогулок по базарчику уже мало.
Улица, названная в честь академика Кузнецова, радовала глаз. Старинные деревянные купеческие свежевыкрашенные дома, чередуясь с каменными добротными домами новых купцов, воодушевляли Владимира Михайловича. Пройдет пятьдесят лет, и народ будет говорить, что купеческие дома на Кузнецова создают неповторимый стиль сочетания XIX–XX веков прошлого тысячелетия. «Молодцы, что красивые дома построили. Дома будут стоять, в них будут жить люди, радоваться жизни, рожать детей, учить их – так будет вечно, пока, жив человек», – размышлял Владимир Михайлович. Он повернул на проспект Кирова. Тополиная аллея легла островком тишины посреди проспекта, но сегодня его путь лежал мимо ее уютных лавочек и компаний студентов и голубей.
Вот и шумный рынок, расположившийся прямо на улице и занимающий целый квартал. Пестрели веселые киоски по обеим сторонам, предлагая людям разнообразные продукцию – только успевай, плати.
Владимир Михайлович начал с самого необходимого – табачного киоска. Он купил пять пачек сигарет «Прима», истратив 60 рублей. «Теперь на неделю хватит», – с удовольствием отметил он. Далее надо мясной посетить, чтобы неделю прожить – приказал он самому себе. Мясо было разное – от вырезки за 250 рублей за килограмм до костей по 70 рублей. «На обед и ужин суп – надо триста граммов, множим на пять дней и получается полтора килограмма костей», – раскинул пенсионер. Косточки были свежие, с приличным количеством мяса – и вскоре они оказались в пакете Владимира Михайловича. «Теперь надо обеспечить себя завтраком, а для этого пойдут каши», – решил Владимир Михайлович и купил гречневую за 35 рублей и овсяную за 25 рублей. Масло сливочное к кашам стоило 32 рубля. Пачка майского чая обошлась еще в 36 рублей. Владимир Михайлович любил чай с молоком, поэтому пришлось взять литр за 36 рублей. Оставался 171 рубль. По идее нужно бы растительное масло, чтобы пожарить свою картошку, но ему уже второй день хотелось селедки… И он взял одну рыбку тихоокеанской малосоленой за 41 рубль. «Ладно, теперь можно и масла взять», – решил он.
Растительное масло стоило нынче дорого, и пришлось выложить 60 рублей. Пакет наполнился. Оставалось еще 70 рублей. «Однако нужно оставить на хлеб и на проезд, вдруг куда-нибудь понадобится», – рассудил Владимир Михайлович, глядя на мандарины. Он любил их и мог съесть целый килограмм, но сегодня на них денег не хватало. Пора домой.
Дойдя до «Живой Аптеки», он вдруг почувствовал, что приближается приступ астмы. Увидел скамейку и сел, достал свой ингалятор. Стало легче, но Владимир Михайлович решил отдохнуть, присев на лавочку. Рядом сидела парочка – молодые девушка и парень. Девушка говорила громко и зло:
– Какая Родина?! Родина там, гдеусловия лучше! У тебя есть шанс уехать в Англию, а ты рассуждаешь! Патриотизм придумали, чтобы дурачить людей, его придумали верха! Сами своих детей там учат, спят и видят, чтобы нахватать и слинять за бугор! А ты уши развесил!
Парень вдруг резко встал и пошел, а девчонка вынула сигарету и затянулась, закинув ногу на ногу. «Ноги ничего, а в голове каша», – обратил внимание Владимир Михайлович, стараясь найти слова, чтобы защитить Родину, но не находил. Они упорно не шли, он понимал, что хотел сказать. Но не мог решиться то ли из-за ее тона, то ли стеснялся чужого человека, но когда девушка ушла, задумался – что же для него Родина? Встал и пошел в обратную от дома сторону. Он шел и вспоминал… и чем больше приходило воспоминаний, тем быстрее ускорял шаг: «Родина! Сразу неосознанно приходит в голову одна картина. Я поступил в институт, а жил в Чернышевске. Поезд из Чернышевска отходил утром рано, в четыре утра. Мы с мамой были одни, а отец находился на работе. И надо же было проспать. Мы проснулись за пятнадцать минут до отхода поезда, а до станции добираться без сумок требовалось времени не меньше. Как мы собирались, не помню, но я помню тот наш бег с мамой, которая страдала астмой. Когда я смотрю в фильме Рязанова „Вокзал для двоих“ сцену бега Гурченко с Басилашвили в тюрьму, то я плачу всегда, как, впрочем, и сейчас, когда думаю. Я не могу не плакать, так как вспоминаю маму, которая падала, задыхаясь в приступе, останавливалась и снова бежала, таща за собой дурацкую сумку с харчами. Бежали через железнодорожные пути, огибая какие-то вагоны, и уже возле поезда, в котором все вагоны оказались закрыты, она опустилась на землю. А я продолжал метаться вдоль состава и искать открытый вагон, который, как назло, оказался в самом начале. Я уже не видел, как моя мама, просидев почти полчаса прямо на земле, задыхаясь и постоянно щелкая колпачком ингалятора, потом еще два часа плача плелась домой, но чувствовал, что ей плохо. И я плакал в тамбуре. Часто ругаю себя. Можно было бы уехать позже, но прошлого не вернешь, как и любимую маму. И стоя над ее могилою, я всегда прошу прощения у самого родного человека…
А мои речки детства Куэнга, Алеур, Олов, по которым пацаном с удочкой прошел не одну сотню километров. Забайкальское солнце слепило глаза, пытавшиеся неимоверными усилиями разглядеть прыгающий на перекатах реки поплавок. Вода приятно омывала ноги, которые щекотали мальки рыб; удилище, постоянно вытянутое, нагружало правую руку так, что отнималось плечо. Но все вместе это было только прелюдией трепета – с приближающейся ко мне рыбой казалось, что я, наконец, поймал ускользающее, мимолетное счастье. А вокруг улыбалась черемуха, осыпая белоснежные цветочки в воду. Шелест ивовых листочков заглушали шумные потоки быстрой речки, и было спокойно и безмятежно на душе, в которой потихоньку шевелились мысли, теплые и родные. А еще приходит на память грязная спецовка отца, брошенная на пол в больнице, и крик матери, предвещающий пугающее и страшное. Отец разбился, упав вниз головой с тендера паровоза, когда разгребал замерший уголь. Помню его слова, что я остаюсь единственным мужчиной в доме и что я должен беречь мать. Потом его без сознания выписали домой. Но отец поднялся – неправильно собранные руки разрабатывал, сначала сжимая грушу от клизмы и падая в обморок от каждого сжатия, а затем гантелями, и уже через семь месяцев работал кочегаром, перекидывая тонны угля.
Нам, детям, было его очень жалко, особенно когда он заставлял работать свои руки. И мы восхищались им, как Мересьевым.
А первый и последний удар ложкой тяти, так звали в деревне деда, когда вперед батьки полез за картошкой в дымящий чугунок… Тяте было уже за 85, а он еще пилил с нами, внуками, дрова, когда мы так хотели сбежать на улицу, где гулял свежий ветер. Тогда нас удивляло, что он хорошо говорил о своем хозяине-кулаке, на которого начал работать с девяти лет. Как любили тятю и как кричали его дочери над могилой! До сих пор этот крик где-то у меня внутри.
Наверное, мне везло в жизни. Скольких людей я еще бы мог перечислить, чьи души переселись ко мне, спасая от многих неприятностей, что бывали в жизни! И что же такое Родина?.. Все мое родное? Родные души, родная природа, родной воздух! Родина – это могилы близких, чьи души во мне будоражат свою круговерть чувств и эмоций! Я понял сейчас, что не смог бы объяснить девушке, что такое Родина, ибо для меня это слишком многое! Это сотни гектаров, очищенных нашей организацией от нефти земель, это очищенные водные объекты, где плещется весело рыба! Это десятки домов, построенных нами в городе! Это дети и внуки со своими проблемами и делами! Это тысячи людей, с которыми делаешь общее дело, доброе и праведное! Я думаю, что чувство Родины у большинства людей нашей страны такое же, и как хочется не ошибаться! Как хочется, чтобы мы помнили все свое родное, ибо прошлое наше есть ступень к будущему, более светлому и доброму!» Владимир Михайлович очнулся от своей тирады и недоуменно смотрел на рынок, весело и шумно, даже издевательски встретивший его вновь.
Он некоторое время недоуменно смотрел на людей, снующих с авоськами, потом развернулся и побрел потихоньку назад, домой. «Точно, склероз начинается», – вздохнул Владимир Михайлович.