Записки кардиохирурга
Tekst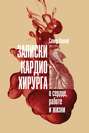


Mine üle audioraamatule
- Maht: 240 lk. 4 illustratsiooni
- Žanr: здоровье и медицина, Kardioloogia, populaarne meditsiin
Глава 2
Кардиохирургия для начинающих
Прежде чем я расскажу, что происходило дальше с Ниной и ее сердцем, мне хочется взять паузу и рассказать о строении и функции самого важного из всех жизненно важных органов. В этой книге речь пойдет о сердце, и мне кажется, что было бы полезно дать неспециалистам некоторое базовое представление о том, что такое сердце, как оно работает, какие в нем могут возникать неполадки и как их устраняют.
Должен сказать, что сердце устроено не так сложно, как думает большая часть людей, и некоторые элементарные сведения помогут читателям понять, о чем, собственно, рассказывается в книге.
В течение многих веков поэты, писатели и музыканты воспевали человеческое сердце, но вопреки их произведениям сердце никогда не хранило никаких эмоций. В камерах сердца нет места личности индивида, и на самом деле оно разительно отличается от привычного всем изображения на валентинках.
Сердце (как бы грубо и прозаично это ни звучало) – обычный и весьма просто устроенный насос. Его работа заключается в том, чтобы перекачивать кровь, которая будет циркулировать по всему телу. На самом деле сердце состоит из двух насосов, соединенных между собой. Правая сторона получает использованную темную кровь, которая уже отдала питательные вещества тканям тела, и перекачивает ее в легкие, чтобы она получила свежий кислород. Алая, насыщенная кислородом кровь поступает в левую сторону сердца, откуда выталкивается во все части тела и несет туда кислород и питательные вещества. После этого кровь снова возвращается в правую сторону сердца – и процесс повторяется.
Кровь циркулирует через сердце и легкие следующим образом. Мы начнем с правого сердца. По двум крупным венам (каждая толщиной с большой палец) в него из органов тела поступает лишенная кислорода кровь. Вены эти впадают в правое предсердие, являющееся приемной камерой правого сердца, откуда кровь перетекает в правый желудочек – это и есть настоящий насос.
Правый желудочек, сокращаясь, выталкивает кровь по крупной легочной артерии прямо в легкие. Там кровь освобождается от углекислого газа, насыщается кислородом и поступает в левое предсердие по четырем крупным легочным венам.
Левое предсердие – приемная камера левого сердца. Оттуда кровь поступает в левый желудочек, работающий как насос. Он выталкивает алую, насыщенную кислородом кровь в аорту – крупную артерию, ветви которой снабжают кровью все части тела.
Строение сердца как насоса весьма несложное – это мышечный мешок. Когда он наполняется кровью, стенки сокращаются, объем камер уменьшается (в этот момент вы чувствуете удар сердца) и кровь выталкивается из мешка. Для того, чтобы кровь текла только в одном направлении, природа снабдила этот орган четырьмя клапанами. Два из них расположены на входе в правый желудочек и на выходе из него, а еще два находятся там же, но в левом желудочке. Эти клапаны позволяют крови течь только в одном направлении, не допуская обратного тока. На входе в правый желудочек расположен трехстворчатый клапан. На выходе – клапан легочной артерии. Это значит, что через него кровь поступает именно в эту артерию. Слева от входа в левый желудочек находится митральный клапан (он называется так, потому что формой напоминает епископскую митру), а на выходе расположен аортальный клапан, через который кровь течет (вы угадали!) в аорту.
В упрощенной форме правая половина сердца («правое сердце») выглядит так, как показано на рисунке. Стрелками указано направление тока крови.

«Левое сердце» выглядит почти так же и может быть изображено следующим образом:

Надо упомянуть еще одну особенность левого сердца: в самом начале аорты, непосредственно за аортальным клапаном, от нее отходят две небольшие артерии, которые направляются обратно к сердцу. Это всем известные коронарные, или венечные, артерии, снабжающие кровью и кислородом саму сердечную мышцу.
Другой малоизвестный факт, касающийся сердца, заключается в том, что анатомы не вполне верно обозначают его главные части. Правое сердце находится скорее спереди, нежели справа, а левое – обращено не влево, а скорее назад. Получается, что правое сердце располагается впереди левого, и на самом деле наш главный жизненно важный орган выглядит приблизительно так:

Описывая сердечно-сосудистую хирургию, многие говорят о ней как о сенсации, используя характеристики вроде «чудо современной медицины», «триумф технологии» и тому подобные эпитеты. Но по-настоящему удивительно в кардиохирургии не то, что она существует и эффективно работает, а то, как много времени потребовалось для того, чтобы внедрить ее в медицинскую практику. Медицина в своих бесконечно разнообразных формах существует тысячи лет. Клятва Гиппократа была написана около двух с половиной тысяч лет назад. Анестезия существует с середины XIX века, и с тех пор почти все операции выполняются под общим обезболиванием. Несмотря на это, кардиохирургия сделала свои первые неуверенные шаги только в 50-е годы XX века, то есть совсем недавно.
Что так сильно задержало ее развитие? В конце концов, сердце – это всего лишь насос, причем устроенный весьма несложно. Когда он ломается, его необходимо чинить чисто техническими средствами. А как еще вы прикажете ремонтировать, например, засоренную трубу или протекающий кран? Приемом таблеток? Тем не менее почти 2000 лет заболевания сердца оставались исключительно в ведении врачей-терапевтов. Хирурги были исключены из числа специалистов, занимавшихся сердечными проблемами. Люди, которые страдали заболеваниями сердца, могли рассчитывать только на пилюли и отвары – руки хирургов не касались сужений и закупорок в артериях, а также подтекающих клапанов. Это табу было настолько строгим, что даже Теодор Бильрот – один из отцов-основателей современной хирургии – в 1889 году сказал, что «хирург, осмелившийся наложить шов на сердце, заслуживает порицания со стороны коллег».
Существует две основные причины, по которым было невозможно оперировать сердце до тех пор, пока не появились соответствующие «умные» приборы и аппараты.
Первая причина на самом деле имеет отношение не к сердцу, а к легким – губчатому органу, где происходит газообмен между кровью и атмосферным воздухом. Проблема заключается в том, что легкие не могут делать этого самостоятельно. Это совершенно пассивные анатомические образования – у них нет мышц и они не способны двигаться. Легкие раздуваются и спадаются, следуя за смещениями окружающих стенок, расширяющихся и сокращающихся под действием дыхательных мышц. Между легкими и грудной стенкой – замкнутое пространство, внутри которого вакуум. Таким образом, следуя законам физики, легкие просто вынуждены следовать за движениями грудной стенки. Если герметичность грудной стенки будет нарушена и в полость попадет воздух, то легкие немедленно спадутся, а дыхание прекратится. Если бы давным-давно какой-нибудь отчаянный хирург решился на вскрытие грудной клетки, то в первые мгновения был бы очень доволен. Спавшиеся легкие освобождают большую часть объема грудной клетки, облегчая доступ к сердцу. Но радость хирурга не продлилась бы долго, ведь через несколько минут пациент умер бы от отсутствия кислорода.
Такова была судьба всех пациентов, которым пытались выполнять вмешательства на грудной клетке до середины XIX века – то есть до момента изобретения эндотрахеальной трубки. Через введенную в трахею трубку в легкие нагнетается воздух независимо от того, вскрыта грудная клетка или нет. Это изобретение сделало более безопасной и контролируемой анестезию во время любых операций. Пациента можно ввести в наркоз такой глубины, чтобы он перестал самостоятельно дышать, после чего анестезиолог берет на себя дыхательную функцию, нагнетая воздух или кислород в легкие через эндотрахеальную трубку. Это изобретение дало возможность проводить операции при вскрытой грудной клетке.
Вторая причина заключается в самом сердце. Эта небольшая мышца размером с кулак каждую минуту перекачивает пять литров крови, чтобы доставить кислород и питательные вещества во все органы и ткани тела. В сосудах и сердце взрослого человека находится около пяти литров крови, то есть за одну минуту сердце перекачивает всю кровь, какая есть у человека. Если сердце останавливается, почти сразу наступает смерть – организм не может жить без крови и кислорода. Однако прекращение доставки жизненно необходимого газа разные ткани и органы переносят по-разному. Нижние конечности полностью восстановят способность к жизнедеятельности после получасового прекращения кровообращения, а вот мозг погибнет, если в обычных условиях его кровоснабжение приостановится всего на пять минут.
Во время операций на сердце к нему прикасаются, его поворачивают, сдавливают, а иногда просто перевертывают. Все эти маневры препятствуют выполнению насосной функции, а любое вмешательство, приостанавливающее перекачивание крови более чем на пять минут, может привести к необратимому повреждению или даже смерти головного мозга. Таким образом, в недалеком прошлом были возможны только кратковременные операции на сердце – например, наскоро проделать в нужном месте отверстие, надеясь на чудо и стараясь не выйти за пределы отпущенного времени. Большее хирургам было неподвластно. Такое неблагоприятное положение вещей сохранялось до середины XX века, когда был изобретен аппарат искусственного кровообращения. Машина могла взять на себя функцию легких и сердца, а хирурги в это время могли проводить необходимые манипуляции. Сразу же после того, как в 1953 году Джон Гиббон в Филадельфии впервые успешно применил этот аппарат, все изменилось: чудесное изобретение отворило врата в новый мир. На свет родилась новая специальность – кардиохирургия.
Для кардиохирургии изобретение аппарата искусственного кровообращения стало моментом старта. Новая специальность развивалась почти неприлично быстро. Уже в 1960-е годы никто не считал вмешательства в работу сердца безумием. Врачи спасали жизни новым и новым пациентам, выполняли сложные и обширные операции, а результаты становились между тем все лучше и лучше. Кардиохирургия из маргинальной специальности, к которой прибегали только в самых безнадежных случаях, стала неотъемлемой и крайне важной частью современной медицины.
Перевод пациента на аппарат искусственного кровообращения относительно прост. Сначала больному вводят огромную дозу гепарина, чтобы предотвратить образование сгустков при соприкосновении крови с пластиковыми и металлическими поверхностями контуров аппарата. После этого надо отвести от сердца венозную кровь, которая, отдав тканям кислород, возвращается в правое сердце. Для этого вводят трубку большого диаметра непосредственно в правое предсердие. По ней кровь поступает в аппарат искусственного кровообращения, где насыщается кислородом (легочная часть аппарата) и перекачивается (насосная часть аппарата) в другую трубку, которую вводят в аорту, откуда кровь поступает во все органы и ткани тела.
После того как трубки вставлены, мы включаем аппарат и регулируем его работу, чтобы он перекачивал пять литров крови в минуту – точно как сердце. Пока машина качает кровь, мы можем делать с сердцем что угодно, и это не угрожает жизни пациента. При включении аппарата искусственного кровообращения происходят две интересные вещи. Во-первых, исчезает пульс. У нас есть пульс только потому, что сердце качает кровь толчками. Оно сокращается и расслабляется, и мы воспринимаем сокращения как стук в груди или как пульсовые волны на артериях, расположенных неглубоко под кожей. Насос аппарата искусственного кровообращения работает иначе. Он качает кровь непрерывно, поэтому во время операции больной остается живым, но пульса у него нет. Во-вторых, на фоне работы аппарата искусственного кровообращения легкие полностью бездействуют: кровь через них не проходит – она вся направляется в аппарат до входа в правое сердце. Это означает, что внешнее дыхание теряет смысл, и анестезиолог отключает аппарат искусственной вентиляции легких (респиратор). Больной остается живым без пульса и дыхания.
В начале операции хирург распиливает грудину вдоль по срединной линии и разводит ее края в стороны – то есть раскрывает грудную клетку и обеспечивает себе доступ к перикарду (сердечной сумке). После этого хирург вводит две трубки, соединяющие больного с аппаратом искусственного кровообращения: одну – в правое предсердие для отведения венозной крови, другую – в аорту для обеспечения поступления туда насыщенной кислородом крови. Машина включается, и можно начинать операцию. Но не сразу. Когда начинает работать аппарат искусственного кровообращения (или аппарат «сердце-легкие»), сердце перестает качать кровь, но продолжает ритмично сокращаться, хотя камеры его пусты. Оно превращается в своего рода движущуюся мишень, и это может помешать работе хирурга, особенно если предстоит сложная операция. Но хуже всего, пожалуй, то, что многие отделы сердца остаются недоступными. Например, чтобы обеспечить доступ к аортальному клапану, необходимо сделать большой разрез аорты. Если разрезать ее в такой ситуации, то все пять литров крови за минуту вытекут на пол. При операции аортокоронарного шунтирования необходимо проделать отверстие в коронарной артерии. Конечно, это не аорта, и ток крови по этой артерии слабее, но все же кровопотеря в этом случае составляет от 50 до 100 миллилитров в минуту. Струя крови, бьющая из поврежденной артерии, попав в глаза хирургу, вполне может его ослепить. Для того, чтобы избежать неприятностей, мы накладываем на аорту зажим, изолируя сердце от аппарата искусственного кровообращения. Теперь можно открыть любую камеру сердца и откачать остатки крови в полной уверенности, что кровь туда больше поступать не будет. Проблема решена! Когда я рассказываю об этом своим проницательным студентам, они немедленно задают вопрос: «Но как быть с самим сердцем? Ведь ему тоже нужны кровь и кислород!»
Конечно, эти студенты абсолютно правы. Как только мы накладываем на аорту зажим, сердце начинает медленно умирать. Единственное, что мы можем сделать, – это заполнить коронарные артерии холодным раствором, содержащим ионы калия. Холод замедляет все биологические процессы, позволяя сердцу дольше выдерживать гипоксию, а калий парализует сердце, обездвиживая его и тем самым в еще большей степени уменьшая потребность в кислороде. Когда больной находится в глубоком наркозе, аппарат отвечает за дыхание и качает кровь, а холодное сердце не бьется, у нас есть около часа, чтобы выполнить вмешательство без серьезных последствий. Если операция затягивается, мы еще сильнее охлаждаем сердце другими возможными способами. Если хирургу требуется более четырех часов, избежать повреждений уже не получится. Таким образом, как только на аорту накладывают зажим, запускается неумолимый обратный отсчет и обстановка в операционной заметно накаляется. Праздные разговоры и шутки прекращаются, движения становятся быстрыми и сосредоточенными. Чем меньше времени аорта будет пережата, тем лучше для сердца, а значит, и для больного.
Ниже перечислены этапы подготовки к операции на открытом сердце:
● Вскрытие грудной клетки.
● Введение гигантской дозы гепарина для предупреждения образования тромбов.
● Введение трубок в аорту и правое предсердие, подсоединение их к аппарату искусственного кровообращения.
● Включение аппарата искусственного кровообращения.
● Наложение зажима на аорту.
● Введение холодного раствора калия.
● Начало операции на сердце.
Глава 3
Начало операции на сердце
Нине заклеивали рану после кесарева сечения, а мы с Бетси мыли руки. Плаценту удалили, пришлось выждать 20 минут, чтобы дать матке возможность сократиться и тем самым снизить риск обширного кровотечения на ее внутренней поверхности. Джон превосходно справлялся с поддержанием артериального давления – по крайней мере пока. Положение было настолько стабильным, насколько это вообще было возможно в такой ситуации. Операционные сестры убрали хирургическое белье. Кожу Нины заново обработали антисептическим раствором, а затем снова покрыли стерильным бельем, оставив обнаженными только грудь и ноги. Ноги оставляют открытыми для того, чтобы быстро обеспечить доступ к ним в случае, если возникает необходимость экстренного шунтирования, так как самый лучший сосудистый протез – вены нижних конечностей.
После того как больную укрыли стерильным бельем, открытой осталась только узкая полоска кожи, на которой предстояло выполнить разрез. Теперь Нина перестала – мне страшно не хочется писать эти слова – быть для хирургической бригады человеческим существом и превратилась в техническую проблему, которую нам предстояло решить техническими же средствами. Такой подход необязательно плох и порочен. Хирурги лучше всего выполняют задачу именно тогда, когда принимают наилучшее техническое решение, соответствующее клинической ситуации. То, что наша больная – молодая женщина, мать двух новорожденных детей, работает в службе спасения и замужем за обожающим ее офицером, имеет значение при обследовании и планировании лечения. Когда обследование окончено, выбрана тактика лечения и уже началась операция, все эти личные обстоятельства в лучшем случае отвлекают. В худшем – они становятся информацией, мешающей ясно мыслить и принимать клинически обоснованные решения, которые так необходимы в операционной. Когда я делаю разрез, мое холистическое отношение к больному улетучивается, и это очень хорошо. Если до разреза я испытывал какие-то трепетные чувства, то теперь от них не осталось и следа. Нина перестала быть Ниной, передо мной была только расслоенная аорта, которую надо было восстановить – по возможности наилучшим образом и не навредив пациентке.
Вид хирургического вмешательства во многом зависел от того, что мы обнаружим после разреза. В самом лучшем случае нам предстояло заменить участок аорты, расположенный выше места отхождения коронарных артерий. Аортальный клапан, который из-за расслоения стенки аорты деформировался и сместился, предстояло каким-то образом подвинуть на место или «подвесить» заново так, чтобы он снова начал выполнять свою работу. Это был бы наилучший сценарий, но если коронарные артерии оказались бы оторванными от аорты и основание аорты было повреждено, то пришлось бы заменять и его, имплантировать устья коронарных артерий в протез аорты и устанавливать протез аортального клапана.
В самом худшем случае могло случиться так, что расслоение распространилось бы на дугу аорты, откуда отходят сосуды, питающие головной мозг. Если бы нужно было протезировать и этот участок, нам пришлось бы проделать гораздо больше работы, а мозгу Нины грозила бы серьезная опасность.
Я вскрыл перикард – гладкую блестящую сумку, в которой находится сердце. Моему взору открылась расслаивающая аневризма аорты во всей своей зловещей красе. В норме аорта представляет собой трубку кремового цвета диаметром 2–3 см. У Нины аорта непомерно раздулась и выглядела как гигантская багрово-красная сарделька. Под призрачно тонкой оболочкой были видны завихрения потока крови – а ее там не должно быть ни в коем случае. Оболочка была единственной преградой, разделяющей жизнь и смерть. Если бы эта тонкая пленка порвалась, то развилось бы катастрофическое кровотечение. Диагноз был подтвержден. Безобразная, вздутая, багровая аорта, готовая вот-вот разорваться, являла собой разительный контраст с сердцем – молодым, розовым, жаждавшим жизни органом, который изящно и ритмично сокращался в грациозном танце жизни. Участок расслоения аорты не годился для введения соединительной магистрали аппарата искусственного кровообращения, ведь при малейшей попытке проткнуть аневризму она разлетелась бы на куски. Надо было искать другую артерию. К счастью, артерии организма – большая сеть, в которой сосуды тела сообщаются между собой, поэтому нагнетание пяти литров крови в минуту в любую артерию позволяет снабдить кислородом весь организм. Конечно, при условии, что выбранный сосуд достаточно велик (например, для этой цели не подойдут те, что снабжают кровью мизинец). Мы сделали дополнительный разрез над подмышечной артерией в том месте, где она выходит из-под ключицы, и соединили ее трубкой с аппаратом «сердце-легкие». После этого, стараясь действовать как можно дальше от пораженного участка аорты, который едва удерживал бурлящую в нем кровь, мы ввели другую трубку в правое предсердие и включили аппарат искусственного кровообращения. Темная, лишенная кислорода кровь потекла из правого предсердия в аппарат, а оттуда светлая, алая, насыщенная кислородом кровь начала поступать в подмышечную артерию – и растеклась по всем другим артериям тела. «Полный поток!» – сказала женщина-перфузиолог, и это означало, что мы достигли пяти литров в минуту. «Легкие отключены!» – оповестил нас анестезиолог, выключая респиратор. Теперь мы могли заняться протезированием аорты.
Я попросил перфузиолога на время уменьшить поток, чтобы я мог без риска повреждения наложить зажим на аорту. Перфузиолог не стала откликаться традиционной шуткой: «Дайте отдохнуть старику потоку». Она просто сказала: «Поток уменьшен». Случай был серьезный, и в операционной все были настроены тоже очень серьезно.
Я осторожно наложил на аорту зажим с прокладками на браншах – как можно выше, но не доходя до артерий, питающих головной мозг. Перфузиолог снова увеличила поток, и с этого момента все ткани и органы тела начали нормально снабжаться кровью. Конечно, за исключением самого сердца, которое теперь было полностью выключено из кровообращения и не получало кислорода. Сразу после наложения зажима сердце начинает умирать, и каждая секунда приближает конец. Мы ввели раствор калия, и сердце остановилось. Теперь, до того момента, когда оно вновь начнет сокращаться, жизнь Нины целиком и полностью зависела от потока крови и аппарата искусственного кровообращения. Я вскрыл аорту, откачал кровь и удалил сгустки, которые скопились между разошедшимися слоями стенки.
После этого я приступил к осмотру поражения. Вот что я увидел: разрыв интимы (внутренней оболочки аорты) находился в основании, непосредственно над клапаном, но, к счастью, далеко от обеих коронарных артерий. Необходимость протезирования основания аорты отпала. Я иссек восходящую аорту и ту часть основания, где находился разрыв. С помощью специального хирургического клея я соединил слои стенки. Тремя швами я зафиксировал на нужном месте аортальный клапан, проверив его состояние, и остался доволен – судя по внешнему виду, он мог работать как следует.
Мы взяли искусственную аорту подходящего диаметра. Этот протез представляет собой белую дакроновую трубку. Я вырезал из нее протез нужной формы, чтобы поставить его на место восходящей аорты, и оставил «язычок», который должен был заменить вырезанный мной участок основания. Пришлось наложить два ряда швов: на сердце, непосредственно выше клапана, а также перед местом отхождения артерий, питающих мозг.
Наконец, когда протез был установлен, мы удалили из полостей сердца воздух. Его пузырьки устремились бы в кровоток после начала сокращений сердечной мышцы и привели бы к неприятностям в любом органе, в который попали. При попадании в мозг такой пузырек может стать причиной инсульта. При всем желании вымывание воздуха нельзя назвать изящной процедурой. Перфузиолог направляет часть крови из аппарата искусственного кровообращения в сердце, и мы используем эту кровь для промывания полостей, встряхивая, взбалтывая и сжимая орган до тех пор, пока полностью не избавимся от воздуха. Если пузырьков не осталось, это значит, что операция близится к завершению. Наступающее в операционной оживление выводит анестезиолога из полудремы, извещая его о том, что работа подходит к концу.
Протезирование было закончено, и я снял зажим с аорты. Вся операция продолжалась 72 минуты – вполне приемлемое время для сердца. Как только зажим был снят, кровь потекла по коронарным артериям, вымывая калий, и сердце снова начало самопроизвольно сокращаться. Мы дали ему несколько минут, чтобы оправиться от потрясения, которое мы устроили. Похоже, теперь сердце опять было готово работать насосом. Джон включил аппарат искусственной вентиляции, и мы отсоединили Нину от аппарата «сердце-легкие».
Сердце Нины работало превосходно. Я оставил Бетси зашивать рану и вышел из операционной с чувством невероятного облегчения. Все прошло по плану. Никаких непредвиденных осложнений не возникло. Теперь у Нины все будет хорошо, а Элфи и Эви не потеряют маму.
