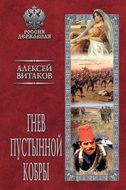Loe raamatut: «Тайна смуты»
Моей Юлии… ибо тайной любви побеждается всякая смута
© Смирнов С.А., 2019
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
* * *
Сказ про то, как молодой козак1 с запорожским войском на Москву ходил, как тайны русской Смуты на себе возил, как злой Маринке Мнишек приглянулся и что из всего этого вышло
Вступление. Лето 1608 года. Корешки и вершки смуты
Поветрий немало разных проносилось по Руси.
Смертоносные, иные выкашивали, аки траву, всю человечью жизнь на сотни, а то и тысячи вёрст и оставляли села чернеть и тонуть в бурьян, а города – усыхать, подобно трупам лошадей в голодной степи. В такие времена Русская земля казалась пустой и безвидной. Однако ж она оставалась, несомненно, русской, русской подразумевалась невидимой вышней властью – и не приходили таборами, не заселяли пустые земли иноплеменники, а проклёвывалась новая русская жизнь, снова поднимались свежие срубы, и начинали орать во дворах петухи и дети.
Иные поветрия были вовсе таинственны и непонятны. Вдруг начинали синеть кожей люди и перхать синей слюной, но оставаясь на ногах и в трудах понемногу двигаясь, а через неделю-другую загадочная напасть проходила сама собой куда-то дальше, забыв о людях. Заносили те пугающие чудеса в книги летописцы, и потом ученые люди веками ломали головы – что за недуг промчался, как ветер, с такой стороны света, какой и не бывает…
Однако в тот век налетело на Русь поветрие, коего и досель никогда не бывало, да и в будущие века не наблюдалось. Пришло оно, когда десятью годами позже гибели своей в Угличе от рук злодеев вдруг объявился из дальней тьмы воскресшим, невредимым и даже не по годам окрепшим царевич Дмитрей Иванович, а вот дотянувшийся в его отстуствие до шапки Мономаха боярин Борис Годунов напугал весь народ явлением голода на Руси да взял и помер в одночасье, как удрал обратно во тьму от всякой вины перед Русью.
В то чрезвычайное время едва ли не каждый, проснувшись поутру, вдруг начинал мучительно задумываться: а вдруг я вовсе не тот, кто есть, каким себя знаю, каким, помнится, мать меня родила, а некто вовсе другой, званием куда выше. Иные начинали искать на себе, на своем теле вместо оспин и вшей некие важные, тайные знаки, указующие на княжескую и даже на царскую кровь. Ходили на озера и реки, присматривались к своим отражениям, вертелись так и сяк и щупали свои тела, будто сомневаясь в их собственности… А вот это, на оборотной стороне плеча, не корона ли какая-нибудь?.. А под левым соском не похожа ли родинка даже на головастую царскую державу, какой описывал ее проезжий московский гость. А ведь сказывают деды, будто сам царь Иван Васильич тоже проезжал мимо, так всякое могло стрястись-то, а мать померла да скрыла тайну.
Как никогда много объявилось по дорогам странников, феней с их неведомым для всех наречием и каликов перехожих. Появлялись дрожащими черными точками вдали, а уже вблизи обретали вид человеческий, простой и рассказывали одно и то же, будто выученное всеми ими в одном неизвестном, тайном месте: отроком спасся истинный-то, Божий помазанник, царь Дмитрей Иванович от злодеев-убийц, скрылся и явился, а вскоре облагодетельствует Русь. И собирает он, кличет силы со всей Руси – выбить из Москвы бояр-воров, захвативших его державу и скипетр. А тех, кто придет к нему, к истинному царю и великому князю, всех из холопов разом возведет в ближних дворян, а все старое дворянство порешит за ненадобностью как изменников.
Расходились в словах странники лишь в том, в какой стороне объявился, явил себя народу истинный царь, с какой стороны ветра пойдет он на Москву, однако ж любому такому сказу-слуху мужики верили тотчас, без оговорок, – лукавая надежда на вселенское счастье с настоящего царского плеча колом запирала им разум, – и еще по весне сомневались сугубо, стоит ли сеять, дабы к осени уж не думать-болезновать о сборе урожая, а знать при царе лишь свое дворянское достоинство.
Да и не важно было, в которой стороне забрезжит на окоёме истинный царь. Русь для русского беспредельна. Есть где укрыться, хоть и от чёрта, если шибко захотеть и если Бог на то сподобит. То, бают, у немцев, царства с птичий коготок. Встанешь с утра, обернёшься – и все плетни уже видны те, за кои только ногу перекинь, как отсекут ее стражи иного короля – не лезь к нам, своих ртов хватает с лишком! На Руси не так – широка Русь, окоёмы ее темны от далей, предел только Богу с небес и виден. Вот во тьме далей и таится всегда какой-нибудь истинный царь!
Иные и вправду вопрошали в бане своих жён:
– А вот глянь, не царский ли знак на мне?
– Сдурел ли? – содрогнувшись грудями, вопрошала в ответ женщина и крестилась по волглому телу.
Которые и угомонялись, а иные тотчас отвечали на женин вопрос кулаком и после бани шли к другам:
– А гля-ка, Ванька, не царский ли знак на мне?
И горе миру, ежели один Ванька, всем своим умом приглядевшийся, чесал макушку и смелел предполагать:
– А может, и так…
Вот тогда, в тот же миг, бесовский огонь охватывал разом и остальных, весь мир – и уже к вечеру в селе все косы бывали выправлены из добрых хозяйственных в боевые, а рожь на полях начинала клонить зеленую верхушку, едва показавшись из земли.
И вот уже вместо странников, появлявшихся вдали не больше черных мушек в глазу и подходивших медленно, стали приноситься, прямо падать на головы мужиков настоящие царские глашатаи на тёмных мастей аргамаках – уже не со сказами, а с указами идти на помощь государю, царю и великому князю Дмитрею Ивановичу. А в указах тех, печатями скрепленных, киноварью горели предвозвещённые странниками, а писаны были царской рукою обещания дать полную волю и дворянство всем, кто придёт.
И страшные, неизмеримые силы тотчас вливались в жилы мужиков, и забывали тотчас мужики о всяких пределах жизни, обо всех извечных, с детства пестованных матерями и бабками страхах, что уже за околицей и за межами, а тем паче за первым дорожным крестцом поджидают всякого селянина опасности великие и бесы. Теперь все опасности были нипочем тем, кому бесы уже в заплечные котомки сели!
Радовались мужики своей дальновидности и удали, радовались правленым загодя косам, радовались новой своей воле, брали спрямлённые косы в руки и сбивались в ветер-толпу, тотчас отбиваясь от родной земли. И тотчас на том месте переставала быть Русь, а становилась одна полая кромешность.
Когда великая река гибельно выходит из своих берегов, заливая просторы до окоёмов, что с ней происходит? Остаётся одно название, не определяемое ни порядком земли, ни взором. Где-то вместо реки – безбрежные озёра с водоворотами, где-то – бескрайнее топкое болото… и на утлых островках жмётся последняя уцелевшая живность, не зная, где искать истинное спасение, а не краткую передышку пред гибелью, водной или попросту голодной… А река-то где? Ее нет! Вместо нее – кромешность!
Так было в тот век с Русью.
Веря указам брезжившего в слухах свежего царя-Дмитрея, потянулись со всех сторон, особенно – с южной и плодородной, толпы мужиков с правлеными косами к главному водовороту, к Москве, куда уже раньше, напуганные тенью Болотникова да бесов-аггелов его, да бунтами челяди, набились до отказа со своими женками и дочками, побросав имения, их же господа.
По дорогам бывало вот что. Отбившись от своей земли, мужики тотчас ударялись в разбой. Грабя иные села, послабее, наливались все большей диавольской силой. Тщась грабить голодного страха ради иные села, покрепче, сами бывали биты и затоптаны в чернозем тамошними мужиками, вовсе не думавшими выправлять косы, а своим умом державшимися. Резня с кровью – не мужицкое дело, потому и затаптывали в землю без всякой жалости чужих, безумных и окаянных живьем да с хрустом грудных костей. Мужик не жалостлив… А в иных селах одержимые сливались в одну силу с уже готовыми идти к Москве, да еще мешкавшими. Тогда шайка обращалась в малую пешую орду, а уж коли по пути обрастала боевыми холопами, прогнанными за голодом с хозяйских дворов, то и малая орда обращалась в сущих гуннов, в гогов и магогов… Тогда поток срывал по пути брошенные усадьбы, как вспучившаяся река – кусты и вётлы. И горе барам, не успевшим унести ноги, а большее горе – их жёнам, кормившим сосцами в те дни.
Открывалась на месте Руси кромешность – и сразу потянулись в неё силы пестропёрых разгульных аггелов – и со всех степей, ногайских да прочих, и из Речи Посполитой. Те магнаты ляшские и литовские, коим круль Сигизмунд-Жигимонт на его же земле был окаянным старостой с розгами, почуяли, где отвести одержимую душу, не страшась немедленного разгрома и плахи… Им не нужна была никакая власть и никакая родина. Их грёзой, их целью была великая, богатая ярмарка, на которой можно наотмашь погулять да её же, ярмарку, и разбить великим погромом себе на потеху. Такой ярмаркой они увидели Русь. Рожинский, Лисовский, Сапега и прочие душой и силой неприкаянные.
Прорвались меха и Сечи – и потянулись на север орды запорожцев, и десять, и двадцать тысяч сабель потекло тех, коих на Великой Руси знали – страшным, чужим, в бесерменских шальварах-пузырях чубатым племенем, как и бесы – без баб. Племенем, чьей лютости дивились даже татары, оставлявшие себе хоть пленных ясырей на продажу. Запорожцы оставляли за собой только покрытую жжёной кровяной коростою землю и подкопчённое небо… В Речи Посполитой, под коей и Сечь себе же на потеху тоской томилась, был для них удерживающий. А на Руси – уже не предвиделось.
Сама же Русь разделилась в себе и разлилась кромешностью меж двух царей, каждый из коих был для всех, их в лицо знавших, не то чтобы царем, а временной, но необходимой болванкой, как та же булава для Сечи, для ее кошевых и гетманов. Был недоразумением, ряженым на ярмарке, коему и неизбежная судьба – быть битым под конец ярмарочного дня. У Фили пили – Филю же и били… такими и были в тот год начала века оба царя на Руси, и вкруг них кипела безумная гульба.
Два царя сидели друг напротив друга, немногим больше чем на пушечный выстрел. Были они не схожи ничем – ни происхождением, ни ликом, однако ж получались по положению как бы близнецами, спорившими за одно, утвержденное лишь одному из них место бытия. А близнецы издревле вызывали удивление и опаску даже у матери своей. Как же это Бог сотворил двух одинаковых на одно и то же место? Близнецы олицетворяли собой царство, разделившееся в себе, – меж ними стояла невидимая щель бытия до самой преисподней… Издревле боялись люди вставать меж близнецами, а ныне пёрли прямиком в ту адову щель.
Один царь, вновь кликнувший самого себя до самой смерти воскресшим и явившимся государём и великим князем Димитрием Ивановичем, сидел ещё за пределами града московского, в Тушине, и пока не в силах был одолеть себе стольный град, казавшийся ему буреломом. Поверила ради хмельной радости в его новое явление уже вся главная, не видевшая его вблизи Русь. Иным словом, вся Русь, кроме Москвы. Ладно, перекатиполе-ярославцы, шибкие в торговых делах, легкие на отход! Но и крепкие собой и градом своим, любившие строй и порядок, лучшие каменщики на Руси, костромичи, и те издали, сквозь туман и тьму, целовали крест тому, кто, может, только для виду его держал, сам будучи нехристем!
Радовался явившийся сам по себе Дмитрей Иванович, и радовались присные его бесы-аггелы, радовались державшие его болванкой-булавою ляшские гетманы-магнаты, радовались они вестям, приходившим быстрее новых сил. А силы подданства, с ними же и деньги пёрли к царю Дмитрею со всей Руси.
А в Москве, как медведь в берлоге, заваленной в ураган буреломом, сидел другой царь и великий князь, один Шуйский из прочих Шуйских – избранный наспех и посаженный наудачу, а не посланный Богом на Русь, как некогда славный Рюрик из великих тёмных далей, а потому Шуйский-царь ни чем не крепкий. Пусть сам из Рюриковичей, да с отшиба, с суздальской ветки яблоко, не с московского ствола-верхушки. Посему для жителей московских и людей ратных Шуйский был недоцарем, но, уже раз обжегшись на одном самозванце, не спешили верить вновь явившемуся Дмитриею Ивановичу и за тем на всякий случай выкидывали со стен и с посадов нестройное того казацкое да ляшское войско, когда оно, опохмелившись в Тушине, вновь ударялось в посады, тыны, стены и ворота.
Москвичи годили верить. Они ждали. Чего ждали? Хоть бы и знамения! Вот же посадили Бориску на царство – и пришёл на всю Русь голод. Знамо дело, Господь указал, как опростоволосились православные. Вот явился вдруг в первый раз целый, невредимый и возросший в борова своим видом Дмитрей Иванович, коего в Угличе помнили тростинкою нежной. Пришёл на Москву. Сел. Глада не было, зато с ним поляцкая гусарская шляхта истинно египетским наказанием, перистою саранчой да скнипами, на Москву пала. Чем не знамение? Да и Маринку-католичку самозванец в жёны брал в Успенском без причастия. Ясное дело, оборотень и пришёл под видом царя! Придавили и разметали его прах из пушки, чтобы черти вовек не собрали и не прислали вновь его же… А позже-то открылось, что был он беглым чернецом. А новый-то кто? Тянутся-то слухи из Тушина, что и вовсе жидок он чернокудрый, лихо накрашенный да ряженый, и даже во хмелю не раз себя новым Исусом Навином величал. Да и с Шуйским не ясно, туманы и враны стоят над Кремлём. Одним словом, надо ждать. Ударит мраз или мор, тогда Шуйского долой – и, приняв на время хоть и Дмитрея нового, подождать и новой же настоящей беды – как уж Бог укажет, тогда и прояснится. Москва умеет ждать да ловка принять беду.
Да и сам Шуйский из Шуйских сидел сиднем и страдал тем, что шапка Мономаха ему на самые очи наползает, и ничего не видно – маловата голова. Больше не на себя, а на свою широкую братову надеялся: не дадут порвать в мясные лоскуты. Да еще – на крепкое слово святейшего, патриарха Ермогена. Тот грозил анафемой всем, для кого Шуйский – не царь.
Бояр Шуйский угощал широкой раздачей не ощутимых им вотчин – и те знали теперь, за что постоять: ляхи все и щупанное, и нещупаное отымут да и самих порубят, а Шуйский – не Иван Васильич и даже не царь Бориска, у него сил отнять потом обратно не станет, а позарится – так другого царя, как ляхи у себя в Речи, посадить можно. Потому и выбивали тушинцев, надеясь, что те сами вот-вот да и порвут во хмелю своего жидка, устав пред ним скоромошничать.
Одно нынче у Шуйского получалось дельно. В неделю раз подкатывал к его палатам затосковавший народ московский, подкатывали съезжие, истинно прибеглые дворяне, жаловались на скупую жизнь, на жадную злобу житопродавцев. Слёзно уверял царь, что сбираются и уже идут к Москве полки верных ему князей. Молил потерпеть ещё, подождать немного, недели три всего, ну, никак не месяц. На колени грузно припадал тот, кто еще недавно прославил себя победами на поле брани. Теперь он даже, бывало, распластывался перед градскими и посадскими на камнях покаянным крестом… Какие войска? Откуда? Ничему не верили москвичи, а такому царскому представлению верили тотчас и, гордые тем, что снова поглядели на распростёртого царя сверху вниз, расходились по домам, себя куда выше своего истинного значения почитая. Особенно ублажались прибеглые дворяне: живи они тихими временами в своих усадьбах по окоёмам земель – нипочём не видать им сего чуда!
Услаждённый тем зрелищем, шёл домой и один московский купец. Жалоб к царю не имел. А что жаловаться, коли сам же криком да сытой силою московского купечества сажал Шуйского на Великий Стол? Да и неделю за неделей смута созидала его главным богачом на Москве. Он не был житопродавцем, потому зримо не страдал от его выгод народ. Раз в неделю гонял он в Тушино возы мимо всех застав и стражей, серебром соря им в глаза. Радовался он своей прозорливости, что порохов умно запас и теперь сплавляет десяторицею. Зелья другого, не порохового, а целебного, им тоже возил от московских жидов – для ран и порченых животов. Сам зажимал нос на въезде в Тушинский стан. Назад вез из Тушина, от татар, вяленое мясо, конину тож, и втридорога сваливал в запас, на остатошный в погребах лёд тем небедным прозорливцам, кои ждали пережить знатный голод, когда цари окончательно на взаимный измор понадеются… Да разве только он один гонял возы!
На большую часть барыша купец переманил с царского двора сотню наёмных немецких пищальников, совсем заскучавших ждать государево жалование. С теми рослыми молодцами и городец какой не слишком великий играючи бы взять. Не столько для стражи амбаров и закромов держал, сколько – на ту беду, ежели бедовые ляхи с козаками осилят-таки Москву и в разумение его, купца, заслуги пред ними не возьмут. Тогда с сотней тех мушкетёров пробиться из Москвы и уйти на Ярославль, к родному брату, а там отсидеться до тишины. А уж золото своё купец так прикопал, что копать триста лет, пока до него докопаешься (так потом и случилось)!
Вот вернулся он домой с царской потехи и решил дальше потешить себя – доброй трапезой. Была у него особая единоличная трапезная с чудом света – веницейским зерцалом в рост человечий и чистотой такою, что вошь из дальнего угла на себе в том зерцале узреть не труд. В цену того зерцала целая вотчина утонула! Зерцало стояло на другой стороне стола – и купец зрел в его потусторонней кромешности единственного себе достойного сотрапезника.
Прочёл купец молитву, перекрестился на иконы и повернулся трапезовать. И вдруг нечаянно да вроде шутя и спрашивает того, кто за столом перед ним в зерцале:
– А ты-то, братец, не боярином ли в Тушине ужо, пока тут передо мной Шуйский скоморошничал?
Вгляделся с прищуром купец в своё отражение и внезапу похолодел от чрезвычайной мысли: «А может, он и есть настоящий? А вовсе не я». Поперхнулся ботвиньей купец, веки опустил и стал молиться, едва языком во рту шевеля: «Свят, свят, свят…» И решил, что пора бы ему благословиться у самого патриарха. Только к какому идти?
Теперь их тоже было два – патриархов Московских и всея Руси. Дмитрей Иванович в Тушине уже успел подпереться своим. Взяли казаки-донцы в полон на Ростове воеводу да митрополита. Воеводу – в расход, а митрополита сберегли. Из знатных бояр был митрополит Филарет, из Романовых. Вот ему царь и великий князь Дмитрей Иванович и сделал царское предложение: главой или в Москву-реку, или – в патриаршую куколь. А уже и побывал Романов в той куколи, да недолго, пока Шуйский ее не смахнул да и прогнал в Ростов. Теперь обиду легко было тяжкой неволей утолить.
Разумел купец, что у Романова будет ему легкое благословение, а Ермоген, суровым пророком прослыв уж, как бы не прозрел его фокусы купеческие да вместо благословения как бы анафемой не ошеломил, а там и плаха перед глазами купца встала заместо зерцала: а у тела-падла глаз нет, чтобы после в очи отрубленной голове поглядеть, как в последнее зерцало…
– Однако ж и заслуга есть, слышь, братец, – обратился купец к зеркалу, как бы разделившись сам в себе. – Кто полтысячи посадских пищалями снабдил и осадных мест по стене на полверсты держит? Считай, до четверти обороны на мне же… Вон и Пожарский-князь похвалил. Таково-то перевесит. На барыш тушинский я тут еще тыщу снаряжу, другую. Чего щуришься-то?
И тотчас нашел виновного в своем разделении умный купец.
– Эх, зря ты баловал с царёвой властью, государь ты наш грозный, Иван Василич, – обратился он уж чуток мимо зерцала, в темную стену. – Ведь от тебя корень смуты и пошёл, когда ты в Александровке в черноту иноческую облачился да ещё и татарина заместо себя болванчиком на престол усадил. Слыхал, что фряги тебя надоумили против Масленицы свою фряжскую карневалу затеять. Мол, у них тоже государи рядятся иноками на карневалу ради любви холопской против князей, престолу опасных… Так что ж ты карневалу ту из забавы в закон возвел? Кого нам за царя было считать тогда? Сами в себе разорвались-то! Вот и свело нам ум, и доныне отпарить веничком не справляемся. Недаром старицы баяли, что на полпути от Боровицкого до Александровки царство твоё, Иван Васильевич, расселось и щель до самой преисподней на той меже разверзлась, и бесы из межи-то и полезли. Загони их теперь обратно! Эх!
Однако ж от суда Божьего не скрыться, а патриарх Ермоген оставался для купца и всех жителей Москвы с царём Шуйским во главе единственно истинным печальником и предстателем за всю Русь, последним столпом и утверждением дней земных.
Вздохнул купец и, по русскому обычаю сшибаться с судьбою до искр в очах, решил дойти до Ермогена…
Шуйский же едва ли не ежеденно спешил к Ермогену за благословением и советом. Что говорил ему святейший, коего Шуйский отвлекал от сугубой и непрестанной молитвы в Успенском соборе, никто не знает. Только видели: иной раз выходил Шуйский повеселевшим, и даже полы его царского кафтана взмётывались, точно крылья петуха, встрепенувшегося крикнуть последнюю стражу. Чаще выходил Шуйский сумрачным и потяжелевшим, однако ж и в таком случае – словно налившись новыми силами для терпения и боя.
Какой бы совет или даже выговор ни получал Шуйский от святейшего, чуял царь одних лишь московских стен, что многого недоговаривает суровый старец гробового возраста, и тщился угадать, что же тот прозревает в грядущем – не конец ли всему?
Озабочен был неизвестными прозрениями святейшего патриарха и его келейник, тоже в возрасте немалом, однако любознательный от роду. Познал он на своем горбу суровый нрав святейшего, но всё же как-то вновь не сдержался и потщился что-нибудь тайное выведать у предстоятеля намеком вслух да вскользь на «ряжение Романова». На что удовлетворился советом-указом о чужой судьбе не рядить и к тому в придачу – епитимией, от коей голова у келейника уже гудела, как у звонаря от набата, после ежевечерних трёхсот земных поклонов…
И вот однажды в ночь, после такого набата видит келейник сон. Идёт он по пустому чёрному полю, ни зги не видать: здесь тоже глухая, безлунная и беззвёздная ночь. Спотыкается он на каждом шагу – вроде пахано под ногами поле. Впереди три крохотных огонька мерцают. Подходит к ним келейник и различает во тьме самого святейшего: стоит старец Ермоген пред тускло освещаемыми хлебами благословения и Царскими вратами алтаря. Ворочает головой келейник: а где же храм? Никаких стен вокруг нет и свода над головой нет. Мысль пронзает его: значит, и за вратами, кругом престола и горнего места, тоже никаких стен, а сплошь чёрное, кромешное поле? Да и сами Царские врата удивительны: напоминают-то Святые врата Троицкой Сергиевой обители, а сам иконостас по сторонам от врат – истинно крепостная стена с боевым ходом, заборолами поверху…
«Что же здесь?» – вопрошает потерявшийся в своём сне келейник. «Здесь и есть ныне вся Русь!» – вдруг слышит ответ. Да только то не патриарх отвечает, голос не его, а будто – вся тёмная высь над головой. «Где же? Пусто здесь!» – «Истинная Русь и остаётся тогда, когда земным взором уже вовсе не видна, а лишь…» – приходит ему ответ, и тотчас просыпается келейник, так и не услышав что «лишь».
– Что «лишь»? – невольно вопросил он явную тьму вокруг.
И, не получив из тишины ответа, занялся монах тяжкой ночной думой о том, с какого плеча был ему тот глас, от ангела знак или же от лукавого насмешка…