Сердце Москвы. От Кремля до Белого города
Tekst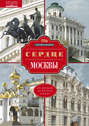


Mine üle audioraamatule
- Maht: 1430 lk. 241 illustratsiooni
- Žanr: Arhitektuur, Antropoloogia, Üldajalugu
Сенат
Напротив Арсенала – здание Сената, их разделяет Сенатская площадь, которая в советское время называлась по имени террориста-убийцы Каляева.
Сенат был высшим государственным учреждением, призванным, по мысли Петра I, осуществлять надзор над государственными учреждениями. Екатерина II разделила Сенат на шесть департаментов, из которых два («по отправлению государственных текущих дел» и «по апелляционным делам и герольдии») заседали в Москве, в Потешном дворце. Для них потребовалось новое помещение, долженствующее соответствовать значению Сената, и Екатерина повелела архитектору Матвею Казакову выстроить таковое, и, конечно, в Кремле.
Для нового строительства выбрали обширный двор князя Трубецкого, двор государевых духовников (обычно протопопов Благовещенского собора), а также конюшенный двор соседнего Чудова монастыря, да еще сломали несколько церквей. На образовавшемся участке треугольной формы в 1776 г. стали строить новое представительное здание.

Сенат
Казаков спроектировал его так, чтобы оно полностью заполнило участок неудобной формы: в плане новое здание представляло собой равнобедренный треугольник со срезанными углами. Два парадных этажа – второй и третий – поставлены как бы на мощном пьедестале высокого первого, отделанного крупным рустом, в вершине треугольника размещен парадный Екатерининский зал, отмеченный куполом, – это центр всей композиции здания. Но его довольно трудно увидеть: особенно эффектно замысел зодчего раскрывается для тех, кто сможет войти во двор через пышно отделанный вход. Неординарное решение – почему-то спрятать от глаз зрителя самую интересную часть здания, прекрасную ротонду круглого зала.
Екатерининский зал – шедевр русской классической архитектуры. Его купол имеет пролет почти 25 м и высоту 27 м, причем толщина свода в самой верхней части составляет только один кирпич. Сохранился рассказ о том, что рабочие боялись убирать подмостки и кружала, по которым выкладывался свод, и как Казаков встал на вершине свода и стоял там, пока не убрали все подмости, причем «делал разные прыжки и притоптывания, чтобы выказать полную уверенность в прочности работы». Зал окружают пышные коринфские колонны, в простенках между ними помещены барельефы, изображающие великих князей и царей (копии скульптур Ф.И. Шубина). Фриз за колоннами прославляет деяния императрицы Екатерины II, представленной в виде Минервы, богини мудрости и покровительницы искусств и ремесел. Под лепными изображениями надписи: «Своей опасностью других спасает» (для того чтобы доказать безвредность прививки по методу английского врача Дженнера, Екатерина привила себе и своим внукам оспу, эту неизлечимую тогда болезнь), «Везде светит» (на учреждение училищ), «Назирает и украшает» (украшение городов замечательными постройками), «Погибавших сохраняет» (учреждение Воспитательного дома, лучшего тогда в Европе заведения для брошенных детей), «Великому великая» (открытие памятника Петру I), «И вы победно подвизайтесь» (награда воинской доблести), «Восходит и живит» (общее оживление России и развитие сил ее), «Отторгнутое присоединяет» (на присоединение черноморского прибрежья) и др.

Архитектор М.Ф. Казаков
Здание – или, как оно называлось, Дом присудственных мест – начало строиться в 1776 г. и было окончено к 1 июля 1787 г. Стоимость его была исчислена с обычной тогда тщательностью – 759 395 рублей 731/2 копейки.
Здесь предполагалось также разместить Вотчинный департамент с большим архивом и Межевую канцелярию с чертежной и архивом, а также использовать для собраний московского дворянства. В дальнейшем, после переделки купленного дома в Охотном ряду, дворянство собиралось уже там. После 1790 г. это сооружение получило название Сената, в котором работали 3, 7 и 8-й департаменты, рассматривавшие уголовные и гражданские дела.
Екатерина посетила новое здание и не преминула заметить, что «благородные дворяне, при первом своем собрании здесь… припомнят, что я дала им и всему их потомству Грамоту с правами и преимуществами важными». Она обратилась к архитектору М.Ф. Казакову: «Как все хорошо, какое искусство! Нынешний день ты подарил мне удовольствием редким; с тобою я сочтуся, а теперь вот тебе мои перчатки – отдай их своей жене и скажи, что это на память моего к тебе благоволения». Кроме перчаток Казаков получил драгоценный перстень, следующий чин и значительную пенсию.
В продолжение первой половины XIX в. в здании находилось много различных учреждений, нещадно его эксплуатировавших. Так, инспекторский департамент Военного министерства занял великолепный Екатерининский зал и заполнил его доверху папками архивных дел, а в середине поставил винтовую лестницу, чтобы добираться до потолка. На втором этаже располагалось Московское дворцовое архитектурное училище, сыгравшее большую роль в подготовке кадров зодчих.
С судебной реформой Александра II и введением новых судебных учреждений здание было отдано для них: там в 1866 г. открылась Московская палата судебных установлений. Тогда купол, на котором до наполеоновского нашествия стояла статуя Георгия Победоносца, увенчали колонной с гербом и надписью «Закон» (в советское время это все вместе с законами исчезло), а позже в Екатерининском зале установили скульптуру императора Александра II – «царю-законодателю». Изменение архаичной судебной системы, в которой произвол и взятки играли первенствующую роль, вызвало необыкновенный энтузиазм: публика буквально осаждала здание Сената, желая присутствовать на судебных заседаниях.
В этом здании выступали лучшие русские адвокаты, в переполненных залах звучали речи А.И. Урусова, Ф.Н. Плевако, В.М. Пржевальского, Н.П. Шубинского и многих других. Председателем Московского суда долгое время был Н.В. Давыдов, оставивший интереснейшие воспоминания о Москве второй половины XIX в. Здание это помнит много нашумевших процессов: тут в октябре 1874 г. судили игуменью Митрофанию, в миру баронессу Розен, занимавшуюся подделкой векселей, сообщников, которых оговорил Каракозов, покушавшийся на императора Александра II, «червоных валетов», большой группы мошенников, знаменитого предпринимателя и мецената Савву Мамонтова, попавшего под жернова междуведомственных амбиций, генерал-майора Л.Н. Гартунга (мужа Марии Александровны Пушкиной, дочери поэта), несправедливо обвиненного в присвоении денежных документов и застрелившегося в комнате рядом с судебной залой. Он оставил такую записку: «Клянусь Всемогущим Богом, я по настоящему делу ничего не похитил; и врагам моим прощаю». В 1899 г. проходил громкий процесс по злоупотреблениям в Московском городском кредитном обществе, затронувший многих тогда. Общество почти 40 лет производило операции с ипотечными вкладами, создав целую систему незаконной наживы.
В советское время после переезда правительства Ленина из Петрограда в Москву, в Кремль, в здании судебных установлений, на втором и третьем этажах, разместились Совнарком (Совет народных комиссаров, председателем которого был В.И. Ленин) и ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет, председатель Я.М. Свердлов). В бывшей квартире прокурора поселился Ленин, где он жил с 1918 по 1922 г., а Екатерининский зал тут же переименовали в Свердловский, который стал клубом и местом проведения разного рода собраний и заседаний. Там же заседало правительство, созывались пленумы Центрального комитета коммунистической партии, вручались Сталинские и Ленинские премии, в том числе международные. В здании Сената была и квартира Сталина, куда он переехал после смерти жены. Его дочь вспоминала, что «на новой квартире в Кремле отец бывал мало, он заходил лишь обедать. Квартира для жилья была очень неудобна. Она помещалась в бельэтаже здания Сената, построенного Казаковым, и была ранее просто длинным официальным коридором, в одну сторону от которого отходили комнаты – скучные, безликие, с толстыми полутораметровыми стенами и сводчатыми потолками. Это бывшее учреждение переоборудовали под квартиру для отца только потому, что его кабинет – официальный кабинет председателя Совета министров и первого секретаря ЦК – помещался в этом же здании на втором этаже, и оттуда ему было очень удобно спуститься вниз и попасть прямо „домой“ обедать. А после обеда, продолжавшегося обычно часов с шести-семи вечера до одиннадцати – двенадцати ночи, он садился в машину и уезжал на Ближнюю дачу. А на следующий день, часам к двум-трем, приезжал опять к себе в кабинет в ЦК. Такой распорядок жизни он поддерживал до самой войны». Сохранились воспоминания о сборищах на его квартире: «…обычно первый тост произносил Хозяин. Все напряженно ожидали. Бывало и так: Сталин выходил из-за стола своей медленной, переваливающейся походкой, поднимал бокал за одного из „высоких гостей“ и, перечисляя его достоинства, облобызав, заканчивал шуткой: „Если бы товарищ (имярек) не был таким молодцом, то товарищ Ульрих (председатель судебной военной коллегии. – Авт.) давно бы подписал ему смертный приговор“. Все смеялись. Аплодировали. Смеялся и тот, к кому был обращен тост. Нередко он оказывался пророческим. Вот уж действительно „поцелуй Иуды“!»
После смерти Сталина в квартире поместили архив VI сектора, как назывался строго секретный архив Политбюро компартии. Хрущев, придя к власти, приводил его в «должный порядок», основательно почистив: отсюда документы пачками вывозили на хрущевскую дачу и там сжигали в камине.
Ту часть здания Сената, ближайшую к Никольской башне, в которой находились кабинет Сталина и кабинет его долголетнего секретаря Поскребышева (им же арестованного в конце карьеры), вместе с приемной называли «уголком» (потому что тут два крыла здания Сената сходились под углом друг к другу). Зал заседаний Политбюро, которые проходили по заведенному церемониалу, находился в той же части здания на третьем этаже.
Недавно здание Сената капитальным образом отремонтировали и отреставрировали для резиденции президента, где теперь находятся представительский и рабочий кабинеты, залы для приемов и заседаний, кабинеты помощников, библиотека. В Екатерининском зале поставили круглый стол для переговоров. В здании также находится так называемый ситуационный центр, который собирает разнообразную информацию.
Дворец съездов
Так назвали новое здание, возведенное при Хрущеве в Кремле – надо было ему оставить свой след здесь. Ведь, казалось бы, вполне обходились раньше залом в Большом Кремлевском дворце, выкроенным из двух старых царских, где собирались многочисленные съезды – большевиков, передовиков, интернационалистов, стахановцев, писателей, но нет – надо было обязательно оставить память о себе…
Для постройки Дворца съездов снесли несколько строений XIX в. – Офицерский, Кухонный и Гренадерский корпуса, почти весь Кавалерский корпус, а также старое здание Оружейной палаты. Они не были выдающимися произведениями, однако Оружейная палата, хотя и перестроенная и обезображенная в николаевское время при переделке ее в казармы, была все-таки весьма замечательным сооружением и вполне могла бы быть восстановлена в прежнем блеске. Вместо этого приступили к строительству нового здания, предназначенного для различных собраний.
И его надо было соорудить очень срочно, чтобы поспеть к открытию очередного собрания. Надвигался XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, и он, по желанию ее руководителей, должен был собраться в новом здании. В 1960 г. сломали старые здания, прорыли коллектор на глубине 12 м (его прокладывали тоннельным способом – трудно даже представить себе, сколько бесценных сокровищ уничтожили при этом) и начали рыть огромную яму глубиной в пятиэтажный дом. Вскоре над ней, аккурат к открытию съезда 17 октября 1961 г., возвели здание «дворца».
Создатели тут же получили Ленинскую премию – это были главный архитектор Москвы М.В. Посохин и его товарищи. Грубо влезший в окружение старых зданий, совершенно чуждый и по архитектуре, и по материалу, из которого его построили (хотя облицован мрамором, который издали не отличается от вездесущих бетонных панелей), он никак не совмещается не только с древними соборами и с соседним Патриаршим дворцом, но и с более поздними Арсеналом и Сенатом. Его стена с жесткой схемой пилонов и неуклюжей надстройкой вылезает из-за Кремлевской стены со стороны Воздвиженки и непоправимо портит вид древней крепости. Как говорили, огромный фундамент нарушил гидрогеологические условия, в которых находились фундаменты кремлевских соборов, что создало угрозу для их существования.
Ядро нового строения – огромный зал на 6 тысяч мест, сделанный широким амфитеатром, с большим балконом и со сценой, считающейся одной из самых больших в мире. В зал ведут несколько эскалаторов. Над ним оборудовали банкетный зал, рассчитанный на 2500 сидячих или на 4500 стоячих посетителей. В здании много подсобных помещений – малых и больших залов, кухонь, гостиных и прочего – всего более 800.
Теперь во Дворце съездов эти съезды как раз-то не проходят: он отдан под балетные постановки и концерты.
КРЕМЛЬ УТРАЧЕННЫЙ
Исторический обзор
Как и любой другой город, Кремль на протяжении многих сотен лет не раз перестраивался. Причиной тому были не только многочисленные пожары и войны или амбиции очередных правителей, но и чисто практические соображения: ветшание здания, необходимость его расширения, несоответствие новым функциям, причем это относилось не только к гражданским зданиям, но и к церковным сооружениям.
В Кремле наряду с великокняжеским дворцом, большими соборами находилось и множество других самых разнообразных построек. Там с древних времен располагались монастыри и их подворья, вместе с большими боярскими усадьбами мелкие дворы дворян, а также простые дворы приказных и ремесленников. Со временем они вытеснялись из Кремля за пределы его стен на Посад, а кремлевские усадьбы переходили к князю и царю.
При этом терялись и прекрасные памятники русской архитектуры, о которых нам известно лишь по упоминаниям летописей и редким изображениям. Этот процесс был какое-то время вполне естественным, ибо тогда не было такого понятия, как памятник: оно появилось только в конце XVIII столетия, да и то ему приходилось десятки лет доказывать свое право на существование. Наши предки вполне утилитарно относились к любым строениям – если они приходили в негодность или становились малы и неудобны, то их просто заменяли новыми, вне зависимости от того, что это было, простая изба или великолепный каменный собор. Так, историк Н.А. Скворцов насчитал более тридцати церквей, по разным причинам уничтоженных в Кремле. «Постройка новых зданий, расширение улиц и площадей, ветхость церквей, удаление из Кремля предержащих властей – все это подавало повод к совершенному их уничтожению», – отмечает он.
Начиная примерно со второй половины XVIII столетия мы встречаем уже определенные высказывания, правда нечастые, о сравнительной эстетической и исторической ценности того или иного строения, а через столетие проблемы сохранения архитектурного, живописного, исторического наследия приобретают общенациональное значение, особенно усилившееся после Второй мировой войны.
В Кремле на протяжении сотен лет было снесено множество строений.
У Фроловской (Спасской) башни купец Таракан (Тараканов) в 1471 г. построил палаты – первое здание из кирпича, возведенное частным лицом, что было отмечено летописцем. Позднее дома этой богатой семьи находились в Китай-городе. Палаты были снесены, вероятнее всего, при построении новой башни. Рядом, на подворье Кирилло-Белозерского монастыря, стояла церковь Афанасия и Кирилла, существовавшая еще в конце XIV столетия. На подворье останавливались высшие церковные иерархи, приезжавшие в Москву с Ближнего Востока. Тут жил антиохийский патриарх Макарий, сын которого архидьякон Павел Алеппский оставил замечательное описание своего путешествия в 50-х гг. XVII в. Известный в истории Смутного времени патриарх Гермоген, противник изменников-бояр, был заключен здесь и отсюда переведен в Чудов монастырь, где и скончался. Как и многие другие монастырские владения в Кремле, это подворье в XVIII в. было занято самыми разнообразными учреждениями – и Коммерц-коллегией, и конторой «следования мужского полу душ» (производившая перепись), и «магазейною продажей», пока его не снесли в 1776 г. Примерно ту же историю можно рассказать и о других подворьях и дворах. Так в XIV столетии Дмитрий Донской пожаловал Сергию Радонежскому место для застройки подворьем, где он мог останавливаться в приезды в Москву. Так образовалось Троицкое подворье, где построили Богоявленскую церковь (иногда подворье именовалось монастырем), а в 1557 г. возвели шатровую Сергиевскую церковь, одна из самых замечательных церковных построек в Кремле, изображение которой сохранилось в книге об избрании на царство царя Михаила Федоровича. Как церковь, так и подворье Троице-Сергиевого монастыря, где она находилась, разобрали при тотальной чистке Кремля, предпринятой в начале XIX в., сравнимой только с разрушениями советского времени.
Каждое большое строительство в Кремле сопровождалось потерями. При сооружении огромного здания Сената на месте двора князей Трубецких, конюшенного двора Чудова монастыря и двух подворий снесли вместе с кладбищем церковь Козьмы и Дамиана, известную по документам с 1475 г., к которой позднее был пристроен придел, иногда обозначаемый как отдельная церковь во имя митрополита Филиппа.
В конце XVIII в. Кремль едва избежал грандиозных разрушений, могущих сравниться только с тем, что произошло в советское время. Когда Екатерина II затеяла строить в Кремле новый дворец, то разобрали большую часть кремлевской крепостной стены с южной стороны, Запасной двор с набережными садами, а также сломали любопытнейшие здания приказов, стоявшие длинной линией (124 м) по южной бровке кремлевского холма. Они были возведены по указу царя Алексея Михайловича в 1675 г. и надстроены при его сыне вторым этажом, куда вели длинные лестницы с крыльцами. Над палатами приказов стояли две церкви – Александра Невского и Черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина его Федора. Мощи чудотворцев определили перенести в Архангельский собор, причем случился конфуз: когда вскрыли гробницу, то оказалось, что «болярина же его святаго Феодора мощей в оной раке и церкви не явствует», однако сложили все, что обнаружилось там, обратно и унесли в Архангельский собор.
Восхищенный пиит Сумароков откликнулся на грядущую перемену:
Низвержена гора Монаршескою волей,
И Кремль украсится своею новой долей:
Со славою придет Паллада к сим местам
И будет обитать, ко славе Россов, там.
Однако из-за финансовых затруднений постройку колоссального дворца остановили и даже восстановили разрушенные стены и башни.
Особенно большой урон нанес Кремлю П.С. Валуев, заступивший в 1801 г. на должность руководителя Дворцового ведомства, ярый сторонник порядка и неистовый противник старых зданий, внушавших ему отвращение. Он обратился к императору Александру I за разрешением снести некоторые кремлевские строения, которые «помрачают своим неблагообразным видом все прочие великолепнейшие здания», и получил carte blanche, а просвещенный император лишь озаботился, «не произведет ли уничтожение сих древних зданий какого-либо предосудительнаго замечания». Замечаний Валуев, конечно, не услышал, и снесли прекрасные Колымажные ворота, двор царя Бориса Годунова, дворцовые церкви, уникальную Богоявленскую церковь и многие другие здания.
После изгнания наполеоновских войск волна «приведения в порядок» не пошла на убыль.
Справа от Спасских ворот стояла церковь Николы Гостунского, построенная в 1506 г. на месте более древней деревянной церкви Николы Льняного (туда приносили льняные початки для освящения урожая, а также и готовые холсты). В новую церковь перенесли Никольскую икону, украшенную «златом и камением драгим и бисером», прославившуюся чудесами в селе Гостунь (около города Белева). В этой церкви дьяконом служил московский первопечатник Иван Федоров. Никола Гостунский был весьма популярен в Москве – сюда приходили помолвленные и новобрачные пары с родителями и заказывали молебны перед образом святителя Николая, вручая ему таким образом свою судьбу. Имена их записывались в особую книгу, хранимую в церкви. После пожара 1812 г. церковь отремонтировали, но… вскоре снесли, несмотря на то что она была весьма почитаема москвичами.
Сохранился выразительный рассказ декабриста В.И. Штейнгеля, бывшего тогда адъютантом московского генерал-губернатора А.П. Тормасова: «Его (собор Николы Гостунского. – Авт.) предположено было обнести благовидною галерею по примеру домика Петра Великого; но полученное известие, что с государем прибудет и прусский король, подало мысль: собор сломать, а площадь очистить для парадов. Граф (Тормасов) послал меня переговорить об этом важном предмете с Августином. Преосвященный в полном значении слова вспылил, наговорил опрометчиво тьму оскорбительных для графа выражений; но, как со всеми вспыльчивыми бывает, постепенно стих и решил так: „Скажите графу, что я согласен, но только с тем, чтобы он дал мне честное слово, что, приступив к ломке по наступлении ночи, к утру не только сломают, но очистят и разровняют все место так, чтобы знака не оставалось, где был собор. Я знаю Москву: начни ломать обыкновенным образом, толков не оберешься. Надо удивить неожиданностию, и все замолчат. Между тем я сделаю процессию: торжественно перенесу всю утварь во вновь отделанную церковь под колокольней Ивана Великого и вместе с тем освящу ее“. Довольный таким результатом переговоров, граф сказал: „О, что до этого, я наряжу целый полк: он может быть уверен, что за ночь не останется ни камешка“… Гостунский собор действительно исчез в одну ночь. Этому не менее дивились, как и созданию в 6 месяцев гигантского экзерциргауза (Манежа. – Авт.)».
И действительно, москвичи дивились такой прыти: «Проходят Кремль. „Что это такое, точно что-то не так?“ – обращаются друг к другу супруги с вопросом. „Да и мне кажется, что какая-то будто перемена“. Осматриваются внимательно. „Ай, да где же собор Николы Гостунского?“ Его нет, место чисто; даже незаметно, где стоял». Вот как усердие перед высоким начальством все превозмогает…
Церковь перевели на третий этаж звонницы рядом с колокольней Ивана Великого, но посещалась она очень редко, так как надо было подниматься высоко по лестнице, а зимой в неотапливаемой церкви царил жуткий холод.
Другой пример беспредельного угождения властям связан с судьбой первой московской церкви.
У Боровицких ворот стояла церковь Рождества Иоанна Предтечи, по уверению летописца, записавшего бытовавшую тогда легенду о ней: «Глаголют же, яко то пръваа церковь на Москве, на том месте бор был и церковь та в том лесу срублена была тогды, та же и соборнаа церковь была при Петре митрополите и двор митрополич туто же был, иде же ныне двор княж Иванов Юрьевич», «преже древяна прьваа церковь на бору, в том лесу и рублена». Рядом с церковью, как говорит летописец, поставил свой двор и митрополит Петр. Известно, что в 1460/61 г. построено каменное здание великим князем Василием Темным, но уже во время пожара 28 июля 1493 г., о котором «старые люди сказывают, как Москва стала, таков пожар не бывал»», оно сильно пострадало: «…и церковь Иоанн Предтеча у Боровицкых ворот выгоре и западе…»; тогда сгорела и казна великой княгини Софьи Фоминичны, хранившаяся в церковном подвале. В 1509 г. новая церковь была освящена митрополитом Симоном. В память рождения сына Ивана Грозного царевича Дмитрия в церкви устроили придельный храм Святого Уара, так как он родился 19 октября 1582 г., в день этого святого, и, как было обычно, носил два имени – Дмитрий и Уар. Перенесенные из Углича мощи царевича сначала поместили в этом храме, а затем в Архангельском соборе. Придельная церковь была весьма популярна в Москве, и даже сам Рождественский храм часто назывался Уаровским, так как сюда родители обращались с молитвой об исцелении детских болезней. Петр Великий заботился о церкви – он повелел в 1722 г. приступить к исправлению ветхостей и неисправностей. Однако в следующем веке власти решили вообще избавиться от древней церкви, и в этом намерении им деятельно помогал и оправдывал их варварские действия высший церковный иерарх московский митрополит Филарет.
После испытаний 1812 г., выпавших на долю Москвы и Кремля, церковь, по сравнению с другими строениями, пострадала незначительно и в ней нашли приют бездомные и безместные попы. Управляющий Московской епархией просил начальника Кремлевской экспедиции князя Н.Б. Юсупова определить, что надо сделать для поправления этой церкви, и позднее ее отремонтировали. Тогда же открыли основание древнего деревянного строения, которое посчитали жилищем митрополита Петра.
При постройке новых зданий при Николае I – Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты – оказалось, что древняя церковь помешала еще одному ревнителю порядка, на этот раз самому императору. Ему не хотелось видеть такое неприглядное здание рядом с новыми, с иголочки, величественными, по его мнению, строениями, и церковь была приговорена к уничтожению: Николай, осматривая новые постройки, повелел «церковь Св. Уара перенести в башню Боровицких ворот; ныне же существующее ее строение разобрать». Чтобы как-то утихомирить приверженцев старины, вице-президент Дворцовой конторы сообщил министру императорского двора следующее: «Находящуюся в Кремле церковь во имя св. Иоанна Предтечи Высочайше повелено сломать и перевести в Боровицкую башню. А как этот храм принадлежит к первейшим московским древностям, то, дабы совершенно отстранить все могущие возникнуть по сему предмету в народе разнаго рода толки, я полагал бы на стене башни, обращенной ко дворцу, сделать на особо вделанных камнях надписи, объясняющие причину сего перенесения. Высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Московский, одобрив с своей стороны эту мысль, составил две надписи, одна из них поместится на правой стороне наружнаго портика устроенной в башне церкви, а другая – под верхним крестом. Крест над портиком поставится тот же самый, который находится ныне над приделом Св. мученика Уара, а вверху над храмом – во имя святаго».
Известный в XIX в. духовный писатель А.Н. Муравьев вспоминал, как «всячески старался спасти древний храм» – он не мог примириться с надругательством над древностью и святыней московской. Муравьев обратился за содействием к митрополиту Филарету и близкому ко двору сановнику князю С.М. Голицыну. От Филарета, который, казалось бы, обязан был заботиться о сохранении церковной древности, он получил отповедь: «…я покланяюсь древним иконам и прочей святыне, а не разседшимся камням Василия Темнаго», а обращение к Голицыну ничем не кончилось, ибо «двор был заграницею, и слишком скоро исполнилось данное повеление».
При сносе церкви обнаружилось, что под жертвенником оказались кости животных (лошадиная голова, голени быка и коровы) – вероятно, на этом месте было языческое святилище с жертвоприношениями. Ведь известно, что христианские церкви при насильственном обращении местного населения ставились именно на месте разрушаемых языческих храмов, а день памяти Иоанна Предтечи намеренно отмечался на Ивана Купалу, главный языческий, самый веселый и разгульный день в году.
Церковь в 1847 г. снесли, иконостас перенесли в Боровицкую башню, где он страдал от сырости и, по сути дела, никем не был видим. Филарет освятил новое помещение церкви 2 мая 1848 г. и произнес проповедь в оправдание разрушителям.
У входа со стороны Кремля поставили крыльцо с каменным шатром, выше которого прикрепили подлинный крест, снятый с церкви, и две мемориальных доски, повествующие о переносе церкви.
В советское время никаких следов – ни надписей, ни креста – от бывшей там церкви не осталось.
При том же Валуеве снесли подворье Троице-Сергиева монастыря и Годуновский дворец у Троицкой башни и на освободившемся месте выстроили здание для размещения сокровищ Оружейной палаты, которые ютились в нескольких малоприспособленных и тесных помещениях – только в 1485 г. выстроили двухэтажное здание на Соборной площади между Архангельским и Благовещенским соборами, но и оно со временем оказалось тесным.
Новое здание Оружейной палаты построено в 1806–1809 гг. (отделка продолжалась до середины 1812 г.) по проекту талантливого архитектора И.В. Еготова, автора таких шедевров классицизма, как здания Военного госпиталя в Лефортове, усадьба Дурасова в Люблине и др. Новое здание явилось заключительным аккордом образования классического кремлевского ансамбля у Никольской башни, состоявшего из здания Сената, Арсенала и Оружейной палаты. Как писали тогда, «конечно, по важности сего хранилища древностей отечественных в Москве нет здания другого ему равного: кажется с сим согласовался и архитектор, сочиняя план сего Музея – какой величественный вид! Главный фасад обращен к Никольским воротам на площадь, окруженную Сенатом и Арсеналом, – самое соседство сих двух зданий придает важность нашей Оружейной Палате – Оружие и Закон ограждают путь к Святилищу славы наших предков».
Напротив Никольских ворот стояло протяженное двухэтажное здание, с выделенным восемью колоннами и куполом центром, щедро украшенное барельефами и скульптурами (над наружной отделкой здания работал скульптор Г.Т. Замараев). На карнизе находились фигуры Добрыни, крестившего Новгород, воеводы Претича из Повести временных лет, героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби, покорителя Сибири Ермака Тимофеевича, освободителей Москвы от польско-литовских захватчиков Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Рядом с ними стояли статуи государственных деятелей Д.Д. Холмского, А.Л. Ордин-Нащокина, А.С. Матвеева, В.В. Голицына и др. На стенах поставлены барельефы, изображавшие сцены из русской истории. Оружейная палата работала в этом здании до 1851 г., когда все экспонаты были перемещены в новое здание, а старое было перестроено любителем шагистики Николаем I под казармы по проекту архитектора Тона, основательно испортившего прекрасное здание. Его снесли перед строительством хрущевского «шедевра» Дворца съездов, а ведь как было бы хорошо и разумно его восстановить и устроить там музей истории Кремля.
После самой крупной перестройки в николаевское царствование в XIX столетии Кремль жил спокойно до прихода коммунистов. После переезда ленинского правительства из Петрограда в марте 1918 г. в Кремле начались переделки, сносы и постройки, не прекращавшиеся весь XX век, и самое почитаемое место России изменилось неузнаваемо. Писатель Владимир Солоухин говорил о том, что «Кремль, который действительно был когда-то русской православной святыней, давным-давно осквернен сносом Чудова монастыря, Вознесенского монастыря, Спаса на Бору, памятника Александру Второму, многих других памятников старины, прекращением богослужений в кремлевских соборах…».
