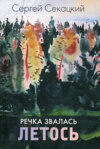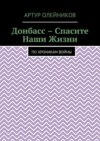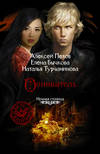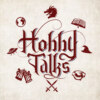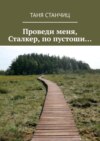Loe raamatut: «Речка звалась Летось»
© Сергей Секацкий, 2020
© ООО «Издательство К. Тублина», 2020
Четыре свадьбы / Наташа
Сергей
Речка звалась Ле́тось. Она разделяла наши обжитые, милые сердцу места на левом, низком берегу от необжитого и неуютного правобережья. На том, противоположном – да, почему-то именно на том, высоком, – изобиловали болотца, овражки, колючие кусты, ямы, буераки… какие вы еще знаете слова для всего этого неудобья? Недалеко от нашего поселка там был и настоящий большой лес – глухой, неухоженный, заросший и почему-то не грибной. В центре леса находилось довольно значительное болото, именуемое, что поражало мое воображение с детства, горелым – как может болото гореть?!
Места эти считались проклятыми, и люди там исстари не селились. До ближайшей, заброшенной вскоре после войны деревни правобережья было добрых километров восемь, и звалась она под стать всей этой чертовщине: Черепы. Советская власть в эпоху бури и натиска пыталась, конечно, освоить и правобережье. Там что-то осушали, орошали, мелиорировали, косили – заготовляли, пасли, на целое лето посылались какие-то бригады то ли лесорубов, то ли животноводов… Но не хотели течь воды Летось-реки, куда велят большевики: скотина дохла, земля не родила, с трудом сведенный овраг следующей весной расходился опять. После войны, когда мужского населения резко убыло, от этого всего отказались, и правобережье постепенно вернулось к своей привычной мерзости запустения.
Как следствие, на много километров вокруг не было через Летось и ни одного моста. Речка была неширокая, неглубокая и небыстрая – метров пятнадцать-двадцать в ширину и чуть больше человеческого роста на тальвеге; переплыть ее было несложно. Мы с ребятами, когда были детьми-подростками, летом нередко так и поступали и наведывались на противоположный берег: и к горелому болоту ходили, и к Черепам. Но не было там ничего интересного, одни байки и легенды, что живут, дескать, здесь лешие да водяные, что встречаются в омутах речки русалки, всегда готовые утянуть зазевавшегося с собой в водную стихию, что ходят по ночам на правом берегу неупокоившиеся мертвецы, упыри да вурдалаки – Летосьская Застава… На практике же водились там лишь дикие кабаны (свинку с выводком полосатых поросят и мне пару раз доводилось увидеть), но не было ни хороших грибов, ни толковых ягод. Зато волчьей ягоды да вороньего глаза было выше крыши, благоухал дурман, а из грибов изобиловали ложные белые, научно именуемые сатанинскими, – и это было, пожалуй, единственное реальное проявление присутствия здесь дьявольских сил. На местном диалекте грибы эти именовались хозяиновыми, или попросту хозяйскими: запрет называть черта по имени у нас строго соблюдался. Наконец, в речке и рыбы особенно не было, мелочь одна. Поэтому никого, если честно, правый берег не интересовал десять месяцев в году.
Все менялось в июле и августе. Осколком иных времен, средневековой карнавальной культуры, если еще не греческих дионисийских или каких-то там прочих игр, засел в наших краях один странный обычай. Во время свадеб, что проходили в эти летние месяцы, в погожие дни, на левом берегу, правый отдавался на разгул и разврат, на всяческую трансгрессию и отмену социальных условностей и ограничений. После установленного сигнала – Летось открылась! – всяк кому не лень мог переплыть туда на лодке, а то вплавь, и оттянуться по полной. Некоторые ограничения предусматривались лишь по возрасту: девочек пускали лет с четырнадцати (но многие перебирались и раньше, если родительский контроль на минутку ослаб), а парней где-то с шестнадцати (и этим вольничать не позволялось: накостыляют и обратно отправят), да еще и по факту замужества: замужним разрешалось переплыть реку, только если ее мужик уже отправился туда ранее. Обходилось это так: мужа следовало напоить и бесчувственного на лодочке перевезти, складировать на противоположном берегу под присмотром какой бабули – и тогда гуляй, дивчина: замужняя, не замужняя – за Летосью условностей нет. Ну да беременным еще не полагалось, но, говорили, молодые девки этим запретом пренебрегали – кто по слабости, не в силах похоти преодолеть, а кто и в греховном поиске выкидыша.
На языке наших западных соседей «летось» означает «в прошлом году», а в переносном смысле «как прошлогодний снег»: когда это было? Да летось: то есть то ли было, то ли нет, может, когда-нибудь, а может, никогда. Именно этот смысл удержался в нашем говоре. Историк, Иван Афанасьевич, дальше шел:
– Летось, ребята, это Лета. Река забвения. То, что было за ней, того не было: это не считается.
Ну это он загнул.
Я в своем детстве-юношестве на разгуле за Летосью не был. Формальная причина – возраст: после восьмого класса я поступил в Колмогоровский интернат, математику-физику на Москве, как у нас говорили, учить, и как бы по возрасту не успел. А реальная причина состояла в том, что и я, и мама моя по-настоящему своими здесь не были. Моя мама попала в поселок в сорок первом, беженкой, с простуженной и харкающей кровью матерью (воспаление легких? туберкулез?), когда было ей года три. Мать ее не смогла идти дальше, приютили ее с дочуркой добрые люди, да от силы через месяц – в оккупации уже – и схоронили. А дочку, соответственно, приняли в семью. Рассказывали, что по-русски она не говорила тогда, бормотала слова какие-то на неизвестном языке (на идише?) и после смерти мамы своей замолкла (надо было, чтобы выжить?). Думали, даже больная; но нет, через пару лет отжилась, и разговаривать стала, и язык свой забыла, и происхождение свое тоже (но добрые люди-то не забыли и при случае всегда напоминали). Так что вроде и росла она полноправной дочкой в большой крестьянской безмужней семье (на войне хозяин погиб), и не обижали, еду в голодное послевоенное сталинское время поровну на всех делили, но… Еще и оттого, что была не в меру умна – по здешним понятиям, и «неправильно красива» – не широколицая русская красавица, высокая голубоглазая блондинка с косой до пояса, а какая-то худенькая остролицая да остроносая томная темноволосая гречанка (еврейка?) с курчавыми волосами и карими бездонными глазами. Не первая красавица, но – говорили мне многие – кто видел тогда тот ее взгляд, когда хотела мама устремить его тебе прямо в душу – пропал. В общем, слишком сильно и дерзко на чужое покушалась залетная малая пташка, пигалица, имя тебе никто, – а когда отхватила себе, как многие почему-то считали, обманом, самого лучшего парня… в родной поселок лучше было не возвращаться: ясны соколы заклюют.
Но в чем обман-то? Просто и мама моя, и Владимир (отец мой), двое лишь из всего поселка поступили учиться в Москву, и там, на чужой стороне, легко и естественно сошлись их пути и судьбы. Да и незачем было возвращаться: что делать в такой глуши перспективному физику-ядерщику (МИФИ) и специалистке по романо-германской филологии (МГУ)? Иные манили их горизонты – для начала завод по обогащению урановой руды в Чуйской долине, в Киргизии – там я родился. Папа стал там вскоре начальником цеха, а потом и главным технологом. Ох, и жизнь была: постоянные командировки в Москву, привозные вкусности-шмотки, спецраспределитель, отдых в Крыму и Сочи, приглашаемые на комбинат на концерты барды с оплатой дороги в Киргизию и обратно (так!)… И вот здесь беда: пошли они спаянной командой альпинистской на соседний Тянь-Шань, и накрыло группу лавиной. Половину руководства завода.
Мне было тогда одиннадцать лет. Мама попробовала было остаться в Киргизии, но трудно и бедно все шло без мужа, воспоминания давили, да и бабушка Тоня – что приютила девчонкой, от верной смерти закрыла крылом, как наседка, – резко сдала и нуждалась в помощи. По всем человеческим и божеским законам именно маме, младшей, да овдовевшей, да приемной дочке, чей долг никогда не может быть искуплен, только смерть освободит, надо было с ней сидеть. Работа учительницей английского и французского и в нашей глуши найдется.
Вот так в конце седьмого класса я вернулся в родные места – где раньше особо и не был (заезжали пару раз в отпуск на пару недель, не более того). Что сказать вам о них? Устройство советской империи было во всем неправильным, в том числе и в том, что окраины жили много лучше сердцевины. Если даже порой и не лучше чисто материально, то человеческий материал уж точно не шел ни в какое сравнение: одно дело имперская элита, концентрировавшаяся на окраинах, и совсем иное – остатные людишки, ни на что, кроме как охранять, да и то абы как, отеческие гробы, не способные. Как там у классика: скисли душами, опрыщавели… испокон веков в грязи, в шепоте, под иконами в черной копоти.
Для меня, подростка, тут была еще и масса дополнительных трудностей. Нелегка была жизнь в Киргизии, но там были строгие и абсолютно ненарушаемые законы. Все делилось на общины, так их назовем – русские, киргизы, узбеки, дунгане, казахи, да еще и какого жуза казахи, южные или северные киргизы, да не потомки ли Чингиз-хана? Как член общины ты мог спокойно ходить в любом районе, зная: ты не один, за тобой стая – поэтому понапрасну не пристанут, не оскорбят, не попытаются побить. Не унизят достоинства! А если унизят – то сознательно, провоцируя – зная, что за базар надо отвечать, и отвечать серьезно. Разумеется, внутри общины ты должен играть свою роль, подчиняться неписаному Уставу, но роль четко определенную: не обижать слабых, слушаться справедливых требований старших, быть всегда готовым к спросу, выходить на стрелки, никого не закладывать; но и тут тебя понапрасну не обидят, никогда не унизят: ты солдат, рабочая сила против врагов, ты нужен сильным и гордым.
А в нашем поселке… Не было там никаких правил. Попросту, ни за что унизить, слегка побить, осмеять мог каждый более сильный – и не более сильный физически индивидуально – если бы так! – а ближе находящийся к вожакам, шавка, иными словами. А что за вожаки… я сам видел, как унижались они перед любым ментом – да у нас в Киргизии после этого тебя опустили бы по полной: коль вожак, так будь им, не морочь нам голову! Будь готов «отвечать за свою культуру: песнями, ребрами и арматурой». А не можешь… лучше не знать, что за этим последует.
Из всех известных мне слов для описания ситуации более всего подходит гнусь: гнусные здесь были нравы, и жить тут долго я не собирался. (Не сочтите мои слова за русофобию: они выстраданы и идут от сердца.) Какой мог быть выход: Колмогоровский интернат! Я уже и в Чуйской долине шустрил по физ-мат-олимпиадам, но там я все еще колебался: гуманитарные дисциплины интересовали меня не меньше, я с большой охотой изучал с мамой английский и французский, зачитывался историей, от избытка сил шумерский язык и клинопись стал учить (папа по моей просьбе привез из Москвы пособия). А здесь ясно все: лирику побоку. Вопрос стоит о выживании. Я засел – охотно, не было настоящей альтернативы – за учебники и сборники олимпиадных задач; не поверите, но правда – в восьмом классе начал за плату решать заочникам задачи по высшей математике: интегралы с подстановками, простейшие диффуры, максимумы… «линейная функция принимает экстремальные значения только на границах, поэтому будем их последовательно анализировать» – те, кто платил мне за решения, слов-то таких не знали. Без малейшего труда выиграл я все (математика, физика, химия) олимпиады районные и попал на областные. А там и на всесоюзную по математике.
Короче говоря, своим я не был – и не стоило, поверьте, было здесь им быть. Не было у меня и близких, всяких братьев родных да двоюродных, чтобы прикрыть: родственники папы еле признавали, лелея, как скрипку, нелепейшую обиду на уже умершего за то, что взял некогда бедную и безродную вопреки родительским советам. (Какие глупцы: неужели непонятно, что самую лучшую невесту он здесь в глуши оторвал?!) И друзьями настоящими не обзавелся: были, конечно, приятели, с которыми рыбу ловили, за Летось ходили, в волейбол играли, но…
Впрочем, нет, один друг у меня все-таки был. Говорю здесь намеренно друг, а не подруга, хотя это была она: Наташа. Девочка старше меня на год и по классу, и до моего прихода была в школе бесспорной лучшей ученицей, участницей-призершей областных олимпиад, записной героиней школьных вечеров, когда надо было вначале почитать стихи, комсомолкой-активисткой; на Доске почета висела ее фотография у развернутого знамени ЦК ВЛКСМ – во как! С этой позиции (только учебной, никаких знамен) я вытеснил ее легко, не думая и не напрягаясь: вытянуть со мной все эти олимпиады она не могла. Самое интересное, что Наташа этой утрате отнюдь не расстроилась и как-то сказала мне:
– А я рада, что сейчас не лучшая ученица! Не поверишь, лучше стало. Раньше все видели во мне прежде всего отличницу – комсомолку, зубрилу, это мешало, а сейчас видят прежде всего девушку-женщину, это помогает. Хорошо! Тебе, парню, не понять.
– Почему же?! У шумеров есть пословица: «Дерзкий мужчина ест соль, дерзкую женщину втаптывают в грязь».
– Серьезно?!
– Абсолютно.
– А еще что у них есть?
– «Не спи с рабыней: она будет называть тебя непочтительным именем».
Я выразительно посмотрел на Наташу. Она нисколько не смутилась.
Эта беседа проходила уже в самом конце моего восьмого, и ее девятого, класса. А подружились мы, когда вместе готовились к областной олимпиаде по математике – частью в школе с тогдашней математичкой, учительницей и завучем (бесполезно), а частью у меня дома (полезно, но…). Предполагалось, что Наташа меня готовит, как старшая, но на самом деле, конечно, я готовил ее – параллельно осваивая программу олимпиад по девятому классу. Ученица была способная и благодарная. Постепенно наши занятия становились все более неформальны, все больше обсуждались вопросы школьной жизни и текущей политики – не забывая, впрочем, о деле, – так что в какой-то момент не выдержала моя баба Тоня. Занимались мы, как я уже говорил, у меня дома: мама, как правило, была еще на работе, а бабушка Антонина, совсем слабая она уже была и редко вставала, лежала себе тихонько в соседней комнате, ни во что не вмешивалась, не присутствовала, не мешала. Но слушала.
И вот после очередного занятия она вдруг позвала меня в свою комнатку:
– Вижу, нравится тебе Наташка.
– В каком смысле?
– Да не придуряйся. Как баба. Видно же! Ох, берегись, внучек! Она с двенадцати лет за Летось бегает…
– Да мы только друзья! Математикой занимаемся.
– У друга с ж… штаны не стащишь. А эта – сама снимет. Ты, Серега, берегись этой ведьминой породы. Русалки они, не бабы! Во как было. Я еще совсем девчонкой была, как на Летоси вдруг двое парней утопли. Стали говорить: русалка появилась, утянула. Вроде и раньше такое бывало иногда. А дед ее, Петром звали, отчаянный малый был и красавец писаный, все девки сохли. Решил он эту русалку разыскать да еще и снасильничать, за дружков отомстить. Выслеживал долго. И место нашел, где вроде как она отдыхает, – далеко где-то вниз по течению. Из надежного укрытия вначале долго наблюдал. А потом вот что сделал: днем вырыл возле самого берега яму, где спрятаться можно и что с реки не видно, камышом забросал, на ночь затаился. Как русалка подплыла, на берег выбралась, волосы-то распустила, на луну через реку смотрит, он сзади подкрался, схватил ее со спины, как смог, и со всех ног с ношей такой подальше от берега. Потому что нельзя ее в реке-то: она кого хошь осилит. Бежит, на вой ее и царапанье внимание не обращает. Отбежал подальше, бросил на землю. Та бьется, как рыба, просит его, молит, он ни в какую. Подождал, пока обессилит – как рыба, опять же, свое дело-то сделал и, полуживую, снулую, обратно в реку отнес. Отжилась, уплыла. А потом ходил он смотреть на нее издаля каждую неделю. Приплывает та и пузо показывает: беременна я. И объясняет, как может: человек это, не русалка, в реке не выживет, приходи забирать, как срок придет. Вот так в апреле-то он девчонку новорожденную домой и принес. Рассказывают, жуткая ночь была: буря и дождь такие, что собаку из дома не выгоняли. А он все равно исправно встречать-то пошел… Бабка это ихняя, Русланой назвали. А Петр тогда молодой был, неженатый, вот на мамашу и отписали: оттого брат он вроде как ей, не отец.
Никто Руслану эту замуж брать не хотел. Но приданое дали знатное, да и семья у них справная, зажиточная. Нашелся и на нее от безнадеги-то муженек. От той Русланы четверо дочек родилось, и Маша, Наташкина мать, младшая, а она, стало быть, русалкина правнучка. Да ишо мамка ее в четырнадцать лет за Летосью нагуляла, никто не знает, от кого, как бы не от нечистой силы опять, ох, берегись…
Я перебил свою бабулю:
– А как же это можно, с русалкой? Она же очень нефункциональна.
– Чегой-то?
– А вот смотри, – я нарисовал, не так красиво, разумеется, диснеевскую русалку, – как ей пользоваться? Куда ее?
– Э-э-э, паря… Русалки, они ить не такие. Два у них хвоста, – бабуля талантливо пририсовала еще один, – вот между хвостами и причинное место, как у бабы, все чин по чину.
Представьте себе мое удивление, когда много позже именно таких, двухвостых русалок (сирен) я стал находить и на фронтонах западноевропейских средневековых церквей – например, в итальянской Модене (первое, что приходит на ум), и на гербах.
А в тот момент ее рассказ не произвел на меня должного впечатления:
– Ну русалка, так русалка. Что в них плохого? И в школе хорошо учатся, и детей рожают. Многие бабы нормальные позавидуют!
Обескураженная Тоня не нашла, что ответить, но я успокоил:
– Не бойся, бабушка! Учиться надо, не до девиц. Олимпиада вон скоро.
Если честно, немного все же странно, что между нами отношения не развивались, застряв на стадии чистой дружбы с дозволенной фривольной шуткой и поцелуем в щечку на прощание. (Что бы ни говорили теоретики, очень неустойчиво это состояние – дружба между мужчиной и женщиной (мальчиком и девочкой): не устоит монета на ребре, либо туда, либо сюда.) Мы оба почему-то к этому не стремились. Ну я, понятно, прежде всего от своего рода страха, а точнее сказать, следуя Маканину, от нежелания пускать свое сердце в рост: здесь, в этой гнуси, никакое чистое развитие, по типу кинофильмов и книжек для юношества, было невозможным. Мне, в некотором смысле, по мнению вожаков да шавок, Наташа была не положена, и пробиваться пришлось бы трудом и потом, и не без разбитого носа. Дело не в этом малом мордобое: просто, коротко говоря, слишком много пришлось бы нахлебаться дерьма – неподходящим местом для запуска сердца в рост был наш поселок.
А Наташа… Ну, может от малой части от сочувствия ко мне, из понимания ситуации. Но главное не это, а вот что… я не знал и не знаю. Что-то мешало. Давайте считать – любовь к другому (но к кому?).
Областные олимпиады прошли, я пробился дальше, и встречи наши стали более редкими. Но не прекратились – учебные поводы находились легко и регулярно. Лишь в самом конце учебного года, в июне, когда я вот-вот уезжал в летнюю школу при своем интернате, Наташа сделала решительный шаг, опуская, за ненадобностью и отсутствием времени, все промежуточные стадии. Тоном абсолютно серьезным, каким о предстоящих экзаменах говорят, она предложила:
– Конец июня. Летось вот-вот откроется. Чего ждать? Давай сходим в воскресенье вечером искупаемся, а?! Я отличный пляжик знаю. Далеко, правда.
Пара дней прошла в ожидании, всю гамму которого мне вам не передать. А в воскресенье утром Наташа визит на пляж отменила. Почему? Не знаю. Не думаю, что ее ссылка на плохое самочувствие была тут реальной причиной. Попробовать, что ли, так прокомментировать: купание со мной было, конечно, смелой, далеко рассчитанной и, скорее всего, многообещающей инвестицией в будущее. Но – в будущее, и только уменьшало котировки настоящего.
Да нет, тоже ерунда. Давайте еще раз повторим: любовь к другому (но к кому?!).
Так вот и окончился, не начавшись, школьный роман, обойдясь без поцелуя напослед и без руки на прощание. Ну а когда я стал учиться в интернате и на физтехе, встречались мы редко; я вообще в родные места старался без лишней надобности не наведываться. Но встречались, остались друзьями. Иногда, между прочим, даже письмами обменивались с вложенными фотографиями: Наташа, в своем студенческом театре областного Политеха, играет роль Наташи (из «Мастера и Маргариты», избранные сцены) – ну чистая ведьма, соглашусь с бабулей! Я, с автоматом Калашникова в руках, принимаю участие в соревнованиях по стрельбе от военной кафедры…
* * *
Короче говоря, не было ничего удивительного в том, что, когда я после стройотряда на четвертом курсе заехал на последнюю неделю августа в родной поселок, Наташа была первой из тех, кто в гости заглянул:
– Очень ты вовремя приехал! Через два дня, в воскресенье, свадьба: Танечка, Первая Красавица наша, замуж выходит. Грандиозное мероприятие, пароксизм всех местных традиций. Триста гостей, десяток вызываемых женихов: Первую Красавицу выдают, с рук сбывают! Позиция вакантна!
– Слышал. Но не имею чести быть приглашенным.
– Как? – она искренне удивилась. – Неужели?
– Ну я же не знаю толком ни Таню, ни Колю Козлова, жениха ее. Они и старше заметно, да и вообще как-то не общались.
– Ну Таню хоть помнишь?
– Кто же Первую Красавицу не помнит? Но это ты ведь ее подруга, всегда рядом можешь побыть, а мне, маленькому, о ней даже и мечтать было не положено, не то что приблизиться. Но тут покаюсь, – я брал привычный между нами фривольный тон, – благодаря тебе, мечталось.
– Благодаря мне?!
– Угу. За давностью лет могу признаться, что, когда ты мне свою фотографию подарила, при отъезде в восемнадцатый интернат, помнишь, – она кивнула, – строгую такую, разве что не у красного знамени, – так вот тогда я не переборол искушения и выкрал из твоего альбома еще одну: где вы с Таней вместе на пляже на Летоси, на левом берегу, стоите в купальниках.
– Так это ты?! А я думала…
– Я, я. Извини. Но ты-то ведь, если бы захотела, могла бы и новую сделать. Или вообще целую фотосессию устроить. А я… вот эпиграмму сам на себя написал. Римский поэт Сергеций, современник Овидия с его «Наукой любви», первый век нашей эры. Гекзаметр, или почти. Дай только вспомню:
Наглая ложь, что ты ложе делил с нашей Таней
И что с Наташей делил его, тоже ты врешь.
Правда же: с фоткой в руке, запершись, неустанно
В душном сортире себя лишь, увы, познаешь.
– Талантливо.
– Вашими молитвами. Не эпатаж, а, как на физтехе говорят, точность самоотчета: смеясь, расстаемся со своим прошлым.
Потом мы поболтали еще о разной ерунде, местных новостях. Я узнал, что Наташа, окончив Политех, поступила в аспирантуру по теме «огранка драгоценных камней». Интересно!
На следующий день она прибежала с утра:
– Сергей, гениально! Есть для тебя работа. И червонец заработаешь, и на свадьбе побываешь.
Оказалось, Танины родители (отец и мачеха) ищут извозчика, чтобы развозил на их жигуле гостей: в поселок и обратно к Дому культуры, где сама свадьба проходила: традиционное место – лучшая переправа через Летось, самая узкая, с отличными подходами с обоих берегов, рядом. Развозить надо всю ночь. Стоит десятку (торг уместен; да они еще добавят – свадьба же!). Распространился слух, что ГАИ специально устраивать будет ночью проверки, пьяных водителей ловить для плана, так что ни капли; тут-то и проблема.
– Но тебе же это легко!
Я кивнул.
– И права ведь есть.
Да, писал ей об этом:
– Получил через военную кафедру.
Я не видел никаких причин уклониться от этого приключения. Вечером принял от Таниного отца ключи от машины и инструкции. Тани дома не было.
На свадьбе я сидел от молодых далеко, тостов не произносил, тих был и незаметен. Да и то: кто я таков? Даже, по сути, не гость (хотя место на краешке стола нашли, отдельно не посадили): шоферюга, развозчик… Лукавлю, конечно. Известность моя как «местного гения» уже в узких кругах существовала и по аудитории как-то сама собой распространилась. Я порой ловил заинтересованные взгляды, пару раз пожилые тетки беседовали со мной, как там у нас учиться, как к нам поступить. Осознал даже, что, от небольшой части, здесь не только развозчик, но и свадебный генерал – а точнее, позволим себе сказать, «свадебный майор»: смотрите, кто у нас шоферюга! Местный гений, не вам, сиволапым, чета – и всего лишь таксует. Во как!
Невеста мне казалась невероятно красивой (что правда или почти правда) и словно из другого мира (что полная чушь). Когда смотрел на нее, вспоминались Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, о которых я, конечно, ничего не знал, и представлялось – Таня оттуда. Казалось так. Дело было отчасти в воспоминаниях; о многом я уже сказал, о чем-то умолчал, а еще я ведь помнил ее, первую школьную-поселковую красавицу, старшую на три года (физически), на два класса, на школьных линейках и дискотеках, помнил какие-то нелепые слухи, распускаемые о ней девчонками-завистницами, пустейшую похвальбу старших парней за передаваемым по кругу стаканом самогонки:
– Вчера я вашу Таньку отъе… – в которую не верил никто, даже они сами – но надо было помалкивать, а если ты шавка, то и поддакивать.
Коктейль, короче говоря, взрывоопасный, и ясно было – этой ночью мне мыслей о ней не избежать – впрочем, не в первый раз. Таня, с невестиной своей высоты, заметила-таки мои взгляды и как-то раз украдкой, очень откровенно понимающе, улыбнулась в ответ. Я устыдился и старался больше на нее не смотреть.
Нет, к тому, что уже сказано, надо еще добавить, чтобы вы лучше поняли, что такое Первая Красавица. В наших местах титул этот был скорее официальный, чем просто комплимент: Первые Красавицы – это те, кого не пускали за Летось. Нельзя им туда, так как присутствие Первых Красавиц все испортит: обесценит остальных и заставит каждого стремиться только к ней, и что же это будут за дела? Было их всегда немного: одна-две на поселок; Таня была у нас одна.
С высот дня сегодняшнего я бы этот момент тоже прокомментировал. Вот примерно так: уже один из первых дошедших до нас кодексов, индийские законы Ману, предписывают, что излишне красивых девочек можно и нужно из обычного порядка (обращения) изъять: превратить в храмовых проституток и сделать доступными всем. (Не в этом ли, кстати, и главный секрет храмовой проституции?) И здесь – с обратным знаком – все то же изъятие из общего порядка. Может, вся история Троянской войны, то есть Елены Прекрасной, и есть прежде всего борьба с этими исключениями? Не зря ее первый раз крадут (и насилуют?) Тезей с кем-то уже в десятилетнем возрасте, а потом ее только и знают, что крадут да насилуют: «всю жизнь, сквозь все метаморфозы, грозят ей свадьбы и увозы». Не должна такая женщина, в традиционном обществе, принадлежать только одному, хоть и царю: отживающее старое борется с прогрессивным новым, и щепки летят. Это как у любимых моих шумеров читаем пословицу: «царская дочь пребывает в святой таверне» (eš2-dam, месте для храмовой проституции). Это сухой формальный перевод, климакс сегодняшнего точного знания – увы, не слишком осмысленный. Как реальный смысл придать? Сейчас принято: «и царской дочери не избежать таверны», то есть богатые тоже плачут. А может, наоборот: раз уж ты царская дочь, то место среди Первых Красавиц – храмовых проституток тебе обеспечено, какая ни будь уродина. Не поднимается точный смысл в сегодняшний день.
Но это я отвлекся. Коротко: Первых Красавиц из обычного обращения изымали. От такой подчеркиваемой недоступности – и так-то ведь поди подъедь к знающей себе цену – разумеется, о них еще больше все мечтали, и статус этой девочки-девушки поднимался до высей заоблачных… Правда, им, похоже, ничего особо хорошего это не приносило.
Таня была старше Наташи на класс, но приходилась подругой. Не самой, наверное, близкой, но, бесспорно, самой надежной, подругой – той, которой все можно доверить. Вот помнил я еще одну Наташину оговорку – когда обсуждали мы ее русалочьи корни, она поддержала разговор охотно:
– Разное болтают. Мамка мне говорила, что, когда девчонкой была, ее мама, бабушка моя, Руслана Ивановна, перед смертью послед свой, с которым родилась, ей показывала в огромной рыбьей чешуе… Ну да ясно, что глупости это. А правда, я думаю, в том, что нагуляла с Петром какая-нибудь девка ребенка, открыться не могла, вот с ним и договорилась, что тот в срок чадо свое заберет. Парень не подвел, дождичка не испугался. А с кем он там снюхался, кто сейчас узнает. Разные были варианты: и нищие, и, наоборот, барыни расфуфыренные городские. И цыганки могли. Хотя нет, непохожа она: это у Танечки цыгане, – она осеклась, осознав, что проболталась, – я этого не говорила!
– Понятно, – подтвердил я, – ты не говорила, а я не слышал.
– Приятно иметь дело с умным человеком.
Не слышал-то не слышал, но, смотря сейчас на Танечку, осознавал, что сведения у Наташи точны. Зная о цыганских ее корнях, многое объяснялось: вот откуда могло взяться это невероятное сочетание черт.
Через два – два с половиной часа ко мне пересела – из первых рядов, где находилась на правах «второй после свидетельницы» подруги, Наташа:
– Как ты смотришь на нашу Танечку… Не боишься, что дружки жениха побьют?
– Нет. Слишком мелкая сошка. Да и что-то напились они уже сейчас не в меру. Не справятся. Убегу.
Чистая правда – и сам жених Николай уже вот-вот был готов клюнуть носом.
– Это точно. Что, нравится наша красавица? Хотелось бы с ней того самого, а? Ложе разделить?
– Спрашиваешь. Кто бы отказался. Ну так ведь и у нас будет не хуже, – здесь я, как мог, подыгрывал ей. (Не переиграть бы…)
Наташа пересела ко мне не просто так – на этот раз дело стремительно шло к развязке: она выходила покурить, я за ней (хоть и не курил): поцелуй первый, второй, третий; рука, протянутая к ее грудям (маловаты), а вот уже и рука, проникшая под платье, она задержала ее, но не стала сдвигать чуть-чуть раздвинутые ноги. Наконец, она прозрачно намекнула приходить утром, после развоза, к ней домой.
– Посмотрим, – сказала Наташа. – Все может быть.
Как там, в известном анекдоте: если девушка говорит «может быть», это означает да, так?
Но Наташа имела в виду не это.
К тому времени уже началась моя служба-развозка. Вначале какие-то спешащие дальние родственники, родители с детьми, еще кто-то. Свадьбы я в сущности не видел: забегая на короткие перерывы между развозами, успевал лишь стакан сока выпить, кусочек красной рыбки съесть, частушку подслушать, бросить беглый взгляд на зал. Сценарий проходил мимо, лишь видно было, как редеют ряды. Иногда забежать и вовсе не удавалось: ты возвращаешься, а тебя уже ждут новые пассажиры. Так постепенно дошел черед и до жениха с невестой, устроившихся на заднем сиденье: их провожала вся оставшаяся публика по́шлыми шутками. Николай был пьян изрядно, он тут же, в машине, опять заснул, и Наташа вызвалась помочь мне и Тане довести его до квартиры. Впрочем, жила она рядом, все было логично: заодно и ее отвезу домой. (Чтобы она там ждала меня по окончании извоза?!)