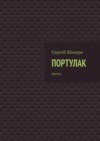Loe raamatut: «Портулак. Роман»
© Сергей Шикера, 2020
ISBN 978-5-0051-4535-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая
I
Несмотря на позднее время, расходиться и не думали. Помню, как сейчас, тот восхитительно теплый апрельский вечер с высокой луной над садом и неподвижной цветущей черешней за распахнутым окном. Кто-то предложил прогуляться к лиману, возражений не последовало, но все как сидели, так и продолжали сидеть. Тут-то и зашел разговор о редких, по преимуществу курьезных фамилиях, включая и говорящие. Почти у каждого из полутора десятка гостей нашлось что рассказать. Так Вяткин вспомнил парадоксальную парочку из своего далекого армейского прошлого: брутального, с пудовыми кулаками прапорщика Лилейного и похожего на поэта Блока анемичного лейтенанта Битюгова. У меня для такого случая был припасен пожарный инспектор Ужес. Как всегда, искрометной импровизацией повеселил публику наш штатный рассказчик фотограф Жарков. Следом за ним и как бы ему в тон, отчасти подражая, а отчасти соперничая, выступил сын нашего известного горожанина и, кстати, сам обладатель не совсем обычной фамилии, Кирилл Стряхнин-младший. Он только неделю назад женился, со дня на день собирался отправиться в свадебное путешествие и постоянно находился в некотором возбуждении.
– В конце девяностых годов, – начал он, – в число самых востребованных наемных убийц входила одна интересная особа. Профессионал высочайшей пробы. Прославилась, кроме всего, тем, что своих жертв поражала исключительно в сердце. Звали девицу – внимание! – Жизель. Фамилия: Катигроб. Жизель Катигроб – черный ангел девяностых.
Слушатели иронически переглянулись, а хозяин дома Чернецкий, чей день рождения мы в тот вечер праздновали, заметил, что до сих пор говорили о людях и фамилиях настоящих, а не вымышленных.
Выставив указательный палец, Стряхнин-младший весело продолжил:
– И это я еще не успел сказать, что мать её звали Джульеттой, а старшего брата – Гамлетом. Гамлет Катигроб. Как вам?
– Нам, – отвечал хозяин, – этот нехитрый прием известен: подкрепить одну небылицу другой, иногда еще большей.
– Извините, но тут вы ошибаетесь. Такие имена часто встречаются у представителей некоторых южных темпераментных народов. Мать Жизели, Джульетта, как раз и была одной из них, работала библиотекаршей в детской библиотеке. А отец… Ну что отец – Тарас Катигроб, водитель. Одарив своей звучной фамилией жену, он предоставил ей право называть детей как она пожелает. Вот и всё объяснение.
– Гамлет Катигроб мне понравился, а вот Гамлет Тарасович уже меньше, – заметил из угла Жарков. – Отец, надеюсь, был водителем катафалка?
– Увы, всего лишь рейсового автобуса.
– Жаль. Но откуда такие подробности о семье?
– В наше время тайное становится явным с пугающей быстротой. Я вижу, вам мой рассказ тоже кажется выдумкой. Но попробуйте представить: вот тебе достается такая славная фамилия да еще в комплекте с именем, которое в переводе с древнегерманского означает «стрела». При таких исходных данных наверное трудно отмахнуться от мысли, что всё это неспроста и жизнь говорит с тобой почти открытым текстом. И вот для начала ты из всех видов спорта выбираешь стрельбу, как это сделала наша героиня, ну а дальше… Дальше – больше. Так или иначе, есть тут связь или нет, но факт остается фактом: жизнь Жизели Тарасовны Катигроб складывалась непросто. Непросто оказалось и с первой большой любовью, которая с ней приключилась аж на двадцать шестом году. Чтобы не отнимать время, не буду вдаваться в детали. Итак. Известная исполнительница Жизель Катигроб по кличке Катя однажды, возвращаясь из командировки, знакомится в аэропорту во время длительной задержки рейса с неким молодым человеком, одесситом, и этих нескольких часов ей хватает, чтобы влюбиться в него по уши. Разъехавшись, они продолжают сообщаться всеми доступными средствами и ждут не дождутся возможности увидеться вновь. Однако… Чутьем женщины, спортсменки и опытного ликвидатора Жизель чувствует присутствие третьей особы. Да и было бы странно, если б у такого молодого человека никого не было. Ощущение это крепнет день ото дня, и вот уже та, что без промаха била в чужие сердца, сама оказывается жертвой серьезного сердечного недуга, который временами её как будто лишает разума, и если бы это был балет, какая-нибудь «Новая Жизель», здесь обязательно присутствовал бы танец со снайперской винтовкой, передающий все нюансы и градации любовного помешательства, от окрыляющих надежд и неземных восторгов до приступов черной ревности и адского отчаяния. Не в силах больше выносить жгучую неопределенность, она отправляется в Одессу, где начинает вести наблюдение за возлюбленным. Скоро выясняется, что у нее действительно есть соперница, некая Катя. И хотя Жизель Катей была только по прозвищу, в этом совпадении она видит какой-то особый вызов. К тому же ей хочется думать, что её избранник сам рвется из ловушки остывшей случайной связи к большому настоящему чувству, и нетрудно догадаться, к какому решению её подталкивают полная неопытность в любовных делах с одной стороны и специфический жизненный опыт с другой. Определившись, Жизель сообщает любимому, что находится в Одессе – она должна своими глазами увидеть его реакцию на потерю той Кати. Они встречаются, проводят у него бурную ночь, а днем молодой человек со всей решительностью объявляет одесской Кате, что между ним и ею всё кончено. Увы, Жизель этого так и не узнает. Для того чтобы всё выглядело как несчастный случай, а именно убийство в ходе ограбления, она вызывает брата. И вот уже проработавший полжизни шашлычником Гамлет Катигроб, прихватив свой рабочий топор, прибывает в Одессу, и через день-другой проникает в квартиру Кати. Как говорится, гул затих, он вышел на подмостки. Знаете, тут уж, пожалуй, и я разделю с вами ваше недоверие к моему рассказу. Потому что с появлением брата, благодаря одним лишь именам участников, история совсем скатывается в фантасмагорию, в дурной сон. При таком замесе возможны любые невероятные повороты и совпадения. Более того: здесь их не может не быть. Выбранный Гамлетом день выпадает на день рождения несчастной Кати. На работе её лучшая подруга крадет у нее ключи, чтобы вечером с друзьями напугать именинницу криком «Сюрпрайз!» и, прибыв чуть раньше других на место, падает сраженная топором незнакомца, обнаруженного ею в кухне. Едва Гамлет успевает удостовериться в ошибке и спрятать труп в кладовке, как через оставленную приоткрытой дверь весело вваливаются остальные сослуживцы. В заблаговременно обесточенной квартире на тот час уже почти темно, и пока молодые люди, бродя впотьмах, зажигают праздничные свечи, надевают на головы цветные колпачки и достают бутылки, никем не замеченный Гамлет пробирается к входной двери, запирает её на все замки, и в твердой уверенности, что одна из прибывших девиц уж точно Катя, берется за топор. Тем временем сама Катя, обнаружив по дороге домой пропажу ключей, использует её как повод встретиться с бывшим возлюбленным. Получив у него вторые ключи, она уговаривает его провести этот праздничный вечер вместе, распить прощальную бутылку шампанского, вспомнить прошлое и расстаться добрыми друзьями. Поколебавшись, тот соглашается, и… так уж выходит, что в устроенной Гамлетом кровавой бойне Катя оказывается заключительной жертвой. Вот, собственно, и всё. Ну а наша снайперша, спросите вы, Жизель? Что стало с нею? Увы, на этом заканчивается и её история: узнав о вероломном предательстве возлюбленного и его гибели, вполне им, впрочем, заслуженной, она впадает в тихое помешательство, в котором прозябает и по сей день. Спасибо за внимание, я кончил.
К сожалению, мой пересказ не может передать, насколько увлекательно да еще и с некоторым артистическим блеском это было рассказано. Помню общее одобрение и веселые возгласы. Побежденный Жарков, кажется, даже немного приревновал. Единственным недовольным оказался сидевший у дверей Витюша Ткач, в ту пору совсем юный. «Когда речь идет о смертях и крови, юмор неуместен!» – с вызовом произнес он и, смутившись, вышел.
Стоит также добавить, что в те дни много разговоров ходило о местном сочинителе и близком приятеле Кирилла Стряхнина Антоне Чоботове, чью оглушительно-кровавую повесть опубликовал один из толстых российских журналов. Так что рассказ Кирилла большинство слушателей расценило еще и как пародию на чоботовский дебют. «Чоботов кусает локти!», «Чоботов отдыхает!», слышал я тем вечером то от одного, то от другого.
II
Любым делом я привык заниматься добросовестно, с полной отдачей и без суеты. И, как правило, остаюсь доволен результатом. Не должны были стать исключением и эти записки, посвященные событиям, потрясшим наш городок в августе 201… года, то есть спустя пять с лишним лет после вышеописанного вечера. Взявшись за перо более года назад, я с должной усидчивостью, в чинной манере педантичного хрониста исписал первые три десятка страниц. Это несколько, может быть, тяжеловесное, похожее на медленный разъезд театрального занавеса вступление включало в себя как подробное, снабженное обширными историко-географическими справками, описание городка с его знаменитой средневековой крепостью и с античным поселением у её подножия, так и очерк его нынешнего состояния с попутным представлением всех действующих лиц, вплоть до второ- и третьестепенных. Однако, подобравшись к пункту перехода на сами события и запнувшись раз, другой, третий, я в растерянности остановился и долгое время, сколько ни пытался, не мог двинуться дальше. Дело тут было вот в чем. При том непосредственном участии, которое я в этих событиях принимал, продолжать скрываться за маской бесстрастного хроникера или, претендуя на некую объективность, писать от третьего лица, как пишется большинство романов, становилось всё труднее, и то, что выходило из-под пера, казалось мне насквозь фальшивым. Я бросал, возвращался, опять бросал и опять возвращался – всё было тщетно. Переход не давался. В этом межеумочном состоянии – продолжать? не продолжать? – я пребывал довольно долго. Пока однажды (не знаю, не уловил, с чем был связан произошедший перелом), как бы очнувшись и мысленно оглядевшись, не задал себе простой вопрос: а что мешает мне выступить вольным, не стесненным рамками жанра рассказчиком? И сам себе ответил: да вот эта нелепая затея и мешает. К тому же, все мои занимавшие так много места исторические комментарии при свежем, после долгого перерыва, прочтении оказались лишь неуклюжим пересказом трудов нашего славного историка и краеведа Константина Чернецкого, написанных живым увлекательным языком. Так не проще ли отослать читателя прямиком к первоисточнику, а себе оставить роль безыскусного повествователя? Словом, отодвинув в сторону прежние притязания, я решил начать с какого-нибудь яркого эпизода, чтобы сразу окунуть в гущу событий не только читателя, но и себя самого, а там будь что будет. Тут-то и пришло свободное дыхание и как-то сама собой написалась приведенная выше сцена с выступлением Кирилла Стряхнина, почему-то так ярко отпечатавшаяся в моей памяти.
В процессе писания количество героев оказалось большим, чем представлялось мне изначально, соответственно возросла и плотность повествования, а потому сразу хотелось бы предупредить: предлагаемые записки не менее чем на четверть состоят из описаний не совсем достоверных. Там, где я не был очевидцем событий, их пришлось восстанавливать по чужим, принятым на веру свидетельствам; в описании же сцен, где очевидцев быть не могло, а участников нет больше в живых, я не чураюсь и прямых домыслов. Тут же оговорюсь, что человек я литературы хоть и не чуждый, питающий к ней слабость, но в крупной прозе пробовал себя лишь однажды (и то неудачно) много-много лет назад, и потому рассчитываю на снисходительность читателя. Надеюсь, что он простит мне как шероховатости изложения, так и некоторую свойственную дилетантам наивную витиеватость.
Коротко о себе. Родился и живу в Одессе. Несмотря на университетское образование, а может быть и благодаря ему, начинал трудовую деятельность с мелкой коммерции, потом пробовал торговать недвижимостью (тогда-то и приобрел здесь дом), а последние двенадцать лет с подачи школьного друга, пригласившего меня в свое дело, и ныне, увы, покойного, занимаюсь установкой саун и бань. В городке я бывал в раннем детстве, пока тут жила подруга матери. С тех пор приезжал сюда редко, лишь по делу, и только обзаведясь жильем и познакомившись с Константином Чернецким, стал здесь частым гостем. Дом с участком я купил по случаю для перепродажи. Используя его все эти годы как убежище от невзгод, а в определенные месяцы как дачу, иногда просиживая в нем подолгу, я постепенно к нему привык и начал подумывать о переезде. В мае четырнадцатого года я почти уже переехал, но вскоре дела опять позвали в Одессу, и окончательный переезд пришлось отложить.
Находясь в городке или приезжая сюда на выходные, я по субботам обязательно посещал дом Чернецкого, который издавна был одним из очагов культурной жизни городка. Возникший там литературный кружок просуществовал с переменным успехом и с некоторыми перерывами почти четверть века и со временем превратился в своего рода клуб. Традиция этих собраний уже совсем было захирела, когда вдруг несколько лет назад появился благотворитель и вдохнул в них новую жизнь. В двухэтажном кирпичном особнячке румынской постройки, в правой его половине (левую занимали вдовые мать и старшая сестра Чернецкого, обе учительницы) вновь стали по субботам собираться гости. После бокала-другого вина с легкими закусками поднимались в уютный кабинет хозяина, а в большие холода оставались в не менее уютной столовой. Играли в буриме, делились новостями и говорили обо всем на свете, кроме политики. Неизменными участниками суббот были: я, фотограф Александр Жарков, пенсионер Иван Михайлович Вяткин, Витюша Ткач, диктор местного телевидения Глеб Глебов с женой, редактор городской газеты Андрей Изотов, сестра Чернецкого Анна и наш благодетель Виталий Кучер. Обязательно приходил кто-то еще, так что меньше десяти человек редко когда собиралось. А тем летом, о котором речь, так и поболее, в иные дни доходило и до двух десятков.
За исключением Чернецкого, готовившего к изданию уже четвертую книгу, никто из нас давно ничего не писал, если не считать каких-то выплесков в виде случайных зарисовок или стихов к юбилеям. Фотограф Жарков взялся было за пьесу о пророке Ионе, начало получилось многообещающим, мы шумно отметили написание первого действия, но дальше дело застопорилось. Больше других судьбой сочинения интересовался Вяткин. Запомнилась одна из их с Жарковым тогдашних пикировок:
– Как там твой шедевр, Саша? Двигается?
– С трудом, дядя Ваня, с трудом. Ты же знаешь, великие вещи рождаются в муках.
– Ты уж постарайся, Саша, помучайся ради всех нас, не подведи. Вот, послушай, недавно попалось на глаза: «Ввергнутый в сущую нищету тьмы лукавых страстей» – как звучит, а?
– Это о ком?
– Неважно. О всех нас. Вот как надо писать! Чтобы воздух гудел от напряжения. А не эти ваши почёсывания в затылке или еще где.
– Да куда уж нам!
III
Неожиданной особенностью того лета явилось невиданное доселе нашествие приезжих. Помню, в какой-то момент меня вдруг поразило количество подростков – сколько же их! Уткнувшись облупленными носами в телефоны, таскали за родителями кошёлки по рынку долговязые юнцы; под уличными шелковицами, звонко перекрикиваясь и отбиваясь от комаров, стайками паслись смешливые отроковицы; на закате и те и другие сходились на пустырях для игры в бадминтон или мяч, оттуда шли в крепость, на лиман, потом возвращались в город, и до позднего вечера слышались отовсюду их ломающиеся голоса, визг и смех.
С начала июня в городе перегостили, кажется, все покинувшие его в разное время, включая и тех, кто прежде не приезжал. У меня от того лета осталось общее впечатление пестрой сутолоки, безостановочного мелькания загорелых беззаботных лиц, среди которых то и дело попадались знакомые, давно забытые. В связи с небывалым наплывом ощущался какой-то особый подъем, какая-то веселая нервозность – все радовались, обнимались, приглашали друг друга в гости, обильно выпивали. Пик пришелся на середину августа – время, когда семейные отпускники еще не разъехались, а вольные ценители красот и щедрот угасающего лета как раз подтянулись, что, впрочем, происходило каждый год, пусть и в масштабах поскромнее.
И вот что интересно: многие из них, включая тех, кто отгостился раньше, то есть до начала событий, на следующий год говорили, что будто бы еще тогда, сквозь тот подъем, почувствовали приближение какой-то беды. Якобы что-то такое, не только веселящее, но и тревожащее, витало в воздухе. И вроде бы имели место кое-какие знаки. Не могу с этим согласиться. Конечно, с ощущениями, как и с рассказами о них, спорить глупо, но признайтесь: кто из нас задним числом не обнаруживал в себе способность прозревать будущее? Все мы, как потом выясняется, что-то такое чувствовали. Обычная в таких случаях присказка. То же касается и упреждающих знаков – задним числом их можно отыскать в любой истории, было бы желание. А уж при буйной фантазии нашего народа и его неистребимой склонности к вольным, ничем не стесненным интерпретациям даже самых твердых непреложных фактов знаки можно соорудить из чего угодно. Примером тому история с «мертвым монахом». Судите сами. Одним апрельским утром пронесся слух, что накануне вечером в городе убили и ограбили монаха. С разбитой головой его нашли на остановке возле ж.-д. вокзала. Рядом с убитым лежал пустой фанерный ящик для сбора пожертвований. Случилось это за неделю до пасхи, так что шум поднялся большой, и из Одессы прислали следователя. Не помню на какой день, но довольно скоро стали известны результаты экспертизы: найденный молодой человек умер от передозировки, а голову ушиб при падении. Дальше одна за другой начали открываться подробности. Так стало известно, что ни в одной из обителей области никто из монахов не пропадал, а вот у насельника Н-ского монастыря, собиравшего пожертвования на восстановление храма, во время купания в море исчезли подрясник и ящик. Затем выяснили и личность покойного – им оказался 22-летний житель поселка О., наркоман со стажем. Однако это, похоже, никого уже не интересовало. Несмотря на очевидность, все упорно продолжали твердить про монаха-наркомана, толкуя его смерть от передозировки как некое предзнаменование. Уже самым детальнейшим образом и не один раз эту историю осветили в уголовных сводках, уже и отец Иннокентий, наш соборный протоиерей, и по телевизору, и в местной газете опроверг «монашескую» версию – всё было напрасно. Всем нужен был монах. Спросите: зачем? Думаю: на всякий случай, как знак – вдруг что-то произойдет, мало ли. Рано или поздно что-то же произойдет? А какой из мертвого торчка знак? Так и превратился наркоман, переодевшийся монахом, в монаха-наркомана и остался в памяти народной дурным предвестьем всего, что бы ни случалось после. Помню, у меня тогда машина была не на ходу, и я в электричке разговорился с попутчиком – немолодым, с виду разумным человеком, дачником. Коснулись и этой истории. Внимательно выслушав мой рассказ, получив подробные ответы на все вопросы, он тем не менее в конце сказал: «А что, среди монахов нет наркоманов? Я слышал, что полно». Ну вот как разговаривать с такими людьми! Добавлю только, что высосанный из пальца монах стал-таки частью городского фольклора наряду с убитым молнией гимназистом, чья неприкаянная тень вот уже второе столетие смущает покой наших обывателей.
С середины августа я, как обычно, стал потихоньку готовиться к бархатному сезону, то есть подбивать дела так, чтобы провести его весь, сколько бы он ни продлился, безвылазно в городке. Не передать словами, как я люблю эту череду погожих безветренных дней, уже с утра напоминающих долгие летние вечера в преддверии сумерек, с тем же невысоким, но еще жгучим солнцем, бесчисленными лучами которого как бы во все стороны сразу пронизан неподвижный воздух улиц и дворов! Такого благодатного покоя вы не найдете ни в какую другую пору года. Вся округа, словно засмотревшись в саму себя, пребывает в какой-то отрешенной задумчивости, и всюду, куда ни пойдешь – та же чуткая тишина, те же пятна света, день-деньской мерцающие драгоценными россыпями по затененным углам и закоулкам, то же грустное, сладко-назойливое звяцанье насекомых в полинявшей за лето, прибитой пылью листве… У одного местного стихотворца это недурно описано:
Тишь кругом, только скорбные лязги
престарелых сентябрьских цикад
да сверчков бесконечные дрязги
вместо прежних весёлых рулад.
Впрочем, с наступлением темноты, когда строения и деревья сходятся потеснее, а из садов начинает ползти вечерняя прохлада, доходит дело и до рулад, вгоняющих слушателя в ту же мечтательную негу, что и месяцем раньше, хотя и уже с хорошо различимой ноткой печали – лето-то тю-тю. Вот еще стихи того же автора, несколько, правда, фривольные и не совсем по теме, ну да ладно, пусть будут:
Я хитёр, я зажгу ночничок
и поставлю его на окно —
пусть летящий во тьму огонёк
из неё тебя выманит, но
торопись, пока кровь горячит
топография впадин и по-
лушарий, пока ворожит
мой сверчок с погонялом Ли Бо.