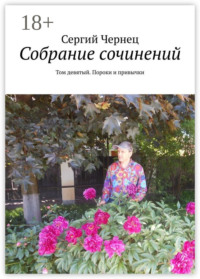Loe raamatut: «Собрание сочинений. Том девятый. Пороки и привычки»
© Сергий Чернец, 2020
ISBN 978-5-4498-6389-8 (т. 9)
ISBN 978-5-4498-5657-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пороки и привычки
Собрание сочинений том девятый
Начало и конец. О времени
А вот, – что такое время? – поставим вопрос и ответим: «Это плодотворная нива, великая сила и великая возможность».
И кто хочет в нем чего-то добиться, должен стараться добросовестнейше заполнять его. Не оставлять времени не заполненным, пустым.
Человек бывает молод или стар в зависимости от того, каким он сам себя ощущает. Поэтому надо начинать новые и новые дела, пусть конца не будет видно.
И всегда, прежде чем может быть возведено что-то новое, изначально, должен быть поколеблен авторитет старого, уже существующего. Чтобы на фундаменте старого построить новое.
Начало великих действий и великих мыслей ничтожно. Великие деяния часто рождаются на уличном перекрестке, от писка комара на вечерней прогулке по парку, или у входа в ресторан.
Неизбежно только одно: смерть. «Всего остального можно избежать», – так говорили древние.
Во временнОм пространстве, которое отделяет рождение от смерти, нет ничего предопределенного: все бывает можно изменить, и можно даже прекратить войну и жить в мире, если желать этого как следует – очень сильно. От желания человека всякое начало.
__________________
Всё несчастье художника в том, что он живет – и не совсем в монастыре, и не совсем в миру, причем его мучают соблазны и с той и с другой стоны жизни.
Сама диалектика – это не есть ни начало, ни конец; по существу своему она лишь середина, – она является путем.
Художник – работник культуры, он причастен к её созданию.
Но Культура – это та веревка, которую можно бросить утопающему и которой можно удушить своего соседа. Развитие культуры идет на пользу добра столько же, – сколько на пользу зла. Растет кротость – растет и жестокость; растет альтруизм, но растет и эгоизм. Дело не происходит так, чтобы с увеличением добра уменьшалось зло. Скорее так, как с электричеством: всякое появление положительного заряда идет параллельно с появлением отрицательного. Поэтому в мире, борьба между добром и злом не угасает, а обостряется; она и не может кончиться, и не может, наоборот, по-видимому, не кончиться. Все исчезнет как при вспышке электрических зарядов при соединении плюса и минуса.
Ты должен сжечь себя в своем собственном пламени, как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сначала в пепел. Правы были сказания о птице Сирин, сгорающей и возрождающейся из пепла: это символ к возрождению человека и мира нашего, к сожалению.
Не начинайте дела, конец которого не в ваших руках, – работать будете на другого.
Если же ждать той минуты, когда всё, решительно всё будет готово – может статься, что никогда не придется начинать. Надо начинать даже при недостатках некоторых вещей.
Но начала (азы, знания начальные) надо знать. Только проследив явление от самого истока, мы можем получить о нём верное понятие. Предварительное знание того, что хочешь, дает и легкость и смелость.
Завершив одно дело, пусть ученый забудет, что он сделал, и пусть думает о том, что он еще должен сделать другое новое.
Почти во всех делах самое трудное – начало.
_____________________
Человек удачного завершения. Это тот, кто входит в чертоги Фортуны через врата радости – выходит из них через врата скорби, и наоборот.
Поэтому думай о конце дела, заботься о том, чтобы счастливо выйти, а не о том, чтобы красиво войти. Это обычная беда баловней Фортуны – громкое начало и горький конец. Штука не в том, чтобы тебя при входе приветствовала толпа – приятно войти сумеет всякий, – но, чтобы о твоем уходе жалели: важно быть желанным. Счастье редко сопутствует уходящим: оно радушно встречает и равнодушно провожает.
Вообще не надо начинать жизнь с того, чем бы следовало закончить. Иные люди располагаются отдыхать в начале пути, едва немного потрудившись, оставляя труды свои на конец. Нет, сперва – главное, а если останется время – второстепенное. Другой хотел бы одержать победу до сражения, что невозможно. Есть и такие, что в учёбе начинают с менее важного, а знания почитаемые и полезные оставляют на конец пути обучения. А кое-кто даже начинает сколачивать состояние, когда сам при этом на последнем издыхании. Надо было в молодости этим заниматься. В жизни, как в учении, важна метода.
Только заканчивая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало бы его начинать. – Конец дела обдумай уже перед началом его, будет легче взять ориентир.
Однако мудрецы советуют: «В четырех случаях не следует высказывать ни одобрения, ни осуждения о деле, пока оно не закончится:
Во-первых, о кушании, – пока оно не переварится в желудке.
Во-вторых, о беременной женщине, – пока она не разрешится.
В-третьих, о храбреце, – пока он не закончил битву и не покинул ратного поля.
В-четвертых, о земледельце, – пока он не соберет урожай.
Лучше не начинать, чем останавливаться на полпути. Хорошее начало не мелочь, хотя иногда начинается с мелочи.
И любое начало, как вера в победу – уже половина победы.
2 Время
Время – это мираж, оно сокращается в минуты счастья, всё, кажется, мало, мало; и растягивается в часы страданий, всё, кажется, долго тянутся и часы, и минуты.
Время идет медленно, когда за ним следишь…. Это счастливые часов не наблюдают. А время, оно чувствует слежку. Оно, это хитрое время, пользуется нашей рассеянностью, что мы не всегда успеваем за ним наблюдать. Возможно даже, что существуют два рода времени: то, за которым мы следим и то, которое по-хитрому идет себе и идет – и преобразует, старит нас.
Время всегда будет уважать и поддерживать то, что крепко, но обратит в прах то, что окажется непрочным.
Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность этого времени…. Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. А между тем, – ты еще не увидел и сотой доли того очарования мира, какое жизнь разбросала вокруг.
Розанов Василий Васильевич красиво изобразил в свое время:
«Божественная комедия.
С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историею железный занавес.
– Представление окончено. (Империя пала).
Публика встала. – Пора надевать шубы и возвращаться домой. —
Оглянулись (вокруг). Но ни шуб, ни домов не оказалось».
И следующая сценка от него:
«Собственно, от чего мы умираем? Мы умираем от единственной и основательной причины: неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся. Не столько «солнышко нас гонит», сколько мы сами гоним себя: «Уйди ты, черт!» (Это) Нигилизм. (Да) это и есть нигилизм, – имя, которым давно окрестил себя русский человек, или, вернее, в которое он раскрепостился.
– Ты кто? Блуждающий в подсолнечной? —
– Я нигилист. Я только делал вид, что молился. Я только делал вид, что живу в царстве. На самом деле – я сам по себе свой человек. Я рабочий трубочного завода, а до остального мне дела нет. Мне бы поменьше работать (за восьмичасовой рабочий день). Мне бы побольше гулять (два выходных в неделю).
– А мне бы не воевать. —
И солдат бросает ружье (на Первой мировой войне). Рабочий уходит от станка.
– Земля – она должна сама родить. —
И (крестьянин) уходит от земли (на гражданскую войну): известно, земля Божия. Она всем поровну. Да, не Божий ты человек. И земля, на которую ты надеешься, ничего тебе не даст (отсюда голод 20-х годов в Поволжье, самом посевном районе). И за то, что она тебе не даст, ты обагришь её кровью (братьев и отцов твоих же)».
Времена были, конечно, тяжелые. Человек не должен жаловаться на времена, из этого ничего не выходит (т. е. выводов извлечь не получится). Время дурное: ну и что же, на то и Человек, чтобы его улучшить (хотя бы вокруг себя).
__________________
Нельзя убивать время, не навредив этим Вечности.
Время ничего не может сделать Великим мыслям, которые так же свежи и теперь, как тогда, когда в первый раз, много веков тому назад, зародились в уме своих авторов.
Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый стремится его использовать.
Все изнашивается, даже горе. Будущее нас тревожит и волнует, а прошлое нас держит. Вот почему настоящее от нас ускользает, и мы не видим его красоты.
Известны афоризмы:
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать.
Время – это капитал работника и умственного труда.
Всё человеческое умение (опирается) – не что иное, как смесь терпения и времени.
_______________
Время – это есть бесконечное движение, без единого момента покоя – и оно не может быть мыслимо иначе.
Гибнет в потоке времени всё только то, что лишено крепкого зерна жизни и, следовательно, этой жизни не стоило. Из всех критиков самый великий, самый гениальный, самый непогрешимый – это именно время. Оно всё просеивает, как через сито, оставляя истинные зерна, дела.
Всё, что пройдет, то будет мило.
Какое горе не уносит время вдаль,
Какая страсть в ней уцелеет, и любовь,
В неравной с временем борьбе
Что было, то не будет вновь
Нам прошлого не повторить
Мечтам и годам нет возврата
Как нам поэт сказал когда-то.
Солнце движется по небосклону по тем же путям, по которым двигалось до появления Рима: так и гражданские общества (государства) не переменили своих уставов; всё осталось, как было на Земле и как иначе может быть. (У нас до сих пор в ходу Римское право. А если посмотреть законы еще древнее, на железном столбе написанные, царя Хамурапи – то общественное управление не менялось тысячелетия).
Если время самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим мотовством. Человек таким образом (человечество) – великий транжира.
Как в море льются быстро воды рек, так в вечность льются наши дни и годы!
Конец.
Историю читая…
Греки дали миру культуру.
Греки дали миру выдающуюся культуру, в основе которой лежали мифология и религия. И наука, и искусство сегодня далеко не ушли от древнегреческого наследия.
Ранний Эллинский период начался, примерно, около 2800 года до нашей эры. И вот, на протяжении пяти тысяч лет человечество разнообразило свое искусство, считая его всякий раз новым, оно также совершило тысячи научных открытий – но!
Это пресловутое «но» – как сказал Экклезиаст: «нет ничего нового под солнцем…» и так далее.
Сегодня в нашей социальной политике мы прославляем демократию и «изобретаем» новые законы, а по сути – возвращаемся к древнему. Как, например, правитель Коринфа, который жил 627 – 585 году до нашей эры, боролся против родовой знати (по сути, с коррупцией и клановостью властей). Он ввел чеканку монеты, учредил государственные таможенные пошлины. И, тогда еще – до нашей эры, – установил закон против роскоши (о котором в сегодняшней нашей думе думают)!
Или, вот, – Солон, считающийся одним из семи мудрецов Древней Греции, тоже был реформатор. Он провел экономические, социальные и политические преобразования в пользу простого народа: отменил старые поземельные долги, отменил рабство соплеменников – греков, и создал совет 400 (парламент, по сути), а также суд присяжных впервые в истории.
Так что прав Экклезиаст: «всё возвращается на круги своя».
Как ни странно, и наука, открывшая заново атом в 20-ом веке, не ушла от корней своих. Пифагор дал учение о числах, развитое Платоном, который перенес эту концепцию на космические масштабы. И «миром правят цифры» – слова Пифагора воплотились: мы сегодня переходим на цифровые технологии во всем. Конечно, это несколько другое толкование цифр, – но суть была верно указана Пифагором.
Философия материализма, так торжествующая в науке сегодня, тоже вышла из Древней Греции. Один из первых – это Гераклит Эфесский, в своем труде «О природе», в наивной форме выразил диалектические принципы бытия.
И Демокрит – основатель теории атомизма, первый энциклопедист, изучивший все тогда существующие науки – этику, историю, философию, математику, астрономию, медицину, филологию, механику, теорию музыки и другие, – оставил нам в наследство свои труды. Современникам Демокрита было известно до 70 его книг. Демокрит распространил учение об атоме на духовную и мыслительную деятельность человека, полагая, что атомы воздействуют на все человеческие чувства. И в чем-то он был прав, интуитивно предугадывая, что мельчайшие гены могут влиять на развитие человека…, наука пришла к этому сегодня.
Что уж говорить об искусстве – и трагедия и комедия, и весь театр – вышли из Древней Греции.
Драматург и поэт Еврипид, который жил 480 – 406 году до нашей эры, входит в триаду великих трагиков, наравне с Эсхилом и Софоклом. Их произведения стали достоянием не только античных зрителей, но, пережив века, часто ставятся и в современном театре.
Это подтверждает, что общечеловеческие ценности и проблемы волнуют людей всех времен одинаково. Нравы и мораль очень мало изменились за эти 5 тысяч лет.
Вот краткая мораль от Софокла:
«Блаженна жизнь, (когда) пока живешь без дум».
«Кого бог хочет погубить, того он разума лишает вначале».
«Как страшен может быть разум, если человек не управляет им».
«Мудрость – вот родная мать счастья».
«(Но) не помогает счастье нерадивым (людям беспечным)».
«Ум, несомненно, первое условие для счастья».
И Еврипид, как бы вторит Софоклу:
«Жизнь есть борьба».
«Если ты ценишь свою жизнь, помни, что и другие не меньше ценят свою».
«когда двое говорят и один из них сердится, тот. Кто уступает – умней».
А от Эсхила мы возьмем завершение в краткой морали древних:
«Легко счастливому почать несчастного» – (вместо помощи ему).
И – «Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны» – (приносят пользу людям).
Все знают Диогена, который в бочке жил и с фонарем средь бела дня ходил, спросившим отвечая, что «ищет человека». Тот самый Диоген, который, сидя в бочке, Александру Македонскому сказал однажды дерзко: «Отойди! – не загораживай мне солнца».
И, не смотря на кажущееся внешнее помешательство, тот Диоген говорил великие мысли на все времена остающиеся актуальными:
«Отцы и дети не должны дожидаться просьбы друг от друга, причем первенство принадлежит отцу».
Отцы должны разъяснять детям премудрости жизни. И у детей отцам можно многому «научиться», – вспомнить свою непосредственность восприятия мира детскую…
Наука жизни по Диогену проста и трудна одновременно:
«1 Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных. 2 Гадание и астрономия – сделали самым безумным. 3 Суеверия и деспотизм – самым несчастным». Надо бы прислушаться к древним мудростям Древних Греков!
Конец.
К писательству
из «Цитатника»
Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации (чувства реальности) до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации.
Мечтаем мы все и всегда. Если отнять у человека эту способность мечтать, – то отпадет одна из самых мощных побудительных причин, которая и рождает культуру, искусство, науку и желание бороться с миром во имя прекрасного будущего.
Сознание человека насыщено мыслями, чувствами и заметками памяти – и в сознании возникает искра, так же как молния – замысел рассказа, повести, картины, скульптуры, облик нового здания у архитектора. Все это накапливалось исподволь, медленно, пока не дошло до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. И тогда весь этот сжатый и еще хаотичный мир в сознании художника рождает молнию – замысел.
Необходимо нужно любому писателю знание всех смежных областей искусства – поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки – все это необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе.
Тогда проза наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойственным поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки. Все это добавочные богатства прозы, как бы ее дополнительные цвета.
А знание органически связано с человеческим воображением (с мечтаниями). Этот, на первый взгляд, парадоксальный закон можно выразить так: сила воображения увеличивается по мере роста познаний.
Все наше творчество предназначается для того, чтобы:
1красота земли,
2призыв к борьбе за счастье, радость и свободу,
3широта человеческого сердца и
4сила разума – преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце.
Пусть всегда будет Солнце….
Конец.
Нравственность
Как категория – нравственность появилась до нашей эры со времен Аристотеля, который определял: «Нравственный человек много делает ради своих друзей и ради отечества, даже если бы ему при этом пришлось потерять жизнь».
Не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми, (обладающими добродетелями). Добродетели все известны, все наслуху, но – «равнодушие к плохим поступкам и словам – есть нравственное уродство» – считал тот же Аристотель.
«Нельзя жить приятно – не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, не будет жизнь разумной, нравственной и справедливой – если жить неприятно», – говорил вслед за Аристотелем философ Эпикур.
Неприязнь связана с нравственностью, а нравственность воспитывается с самого раннего детства.
От древности нравственность ценилась высоко, – вот Цицерон ещё, от Римской империи, от тех времён, оставил мнение своё: «Ценить дороже то, что кажется полезным (материальное), чем то, что кажется лишь нравственным – в высшей степени позорно».
Но и в те времена…, с нравственностью было не всё так просто.
«Какая польза в напрасных законах там, где нет нравов? Что значат пустые законы без обычаев?» – вопрошали философы. «Серебро дешевле золота, золото – дешевле нравственных достоинств» – говорили древние.
Поведение, дела и поступки, нравы говорящего – убеждают больше, чем его речи. «Что не запрещает закон, то запрещает стыд» – говорил Сенека. Марк Аврелий, хоть и император, но прослыл философом и сказал о том же: «Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с правдой. Соблюдай это самое важное – и ты выполнишь всю задачу своей жизни». Совершенство нравов в том, чтобы каждый день проводить так, как если б он был последний: без трусости и без притворства.
Собственная нравственная нечистоплотность – это знак презрения к самому себе. – Стыд и честь – как платье: чем больше потрёпаны, тем беспечнее к ним относишься (ах, да оно старое, изношенное, бог с ним, – не буду штопать, – говорит себе человек, не желая исправлять свою нравственность).
Не на то надо смотреть, где человек родился, а каковы его нравы, не в какой земле, а по каким принципам решил он прожить свою жизнь….
Крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть.
«Знатное происхождение без добродетели – ничто. Славе наших предков мы сопричастны лишь в той мере, в какой сами стремимся походить на них. Блеск их деяний, что озаряет и нас, налагает на нас обязанность воздавать им такую же честь, идти по их стопам и не изменять их добродетелям, если мы хотим считаться их истинными потомками» – сказано одним из больших мудрецов.
Коль нанесли тебе сердечную обиду,
Плати забвеньем – так гордость нам велит;
Не можешь позабыть – тогда хоть сделай вид,
Не унижай себя. (не возмещай обиду мщеньем).
Коль девушку ведут неволей под венец,
Тут добродетели нередко и конец.
Ведь может быть супруг за честь свою спокоен
Лишь при условии, что сам любви достоин.
И если у мужей растёт кой-что на лбу,
Пускай винят себя – не жен и не судьбу.
Коль жены думают лишь о своих мужьях,
Им вовсе ни к чему рядиться в пух и прах.
– — – — – — – — – — – — – — – — —
Нравственные правила нуждаются в доказательствах, следовательно, – они не врожденны. Основа всякой добродетели и всякого достоинства заключается в способности человека отказываться от удовлетворения своих желаний, когда разум не одобряет их.
От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа.
У каждой добродетели есть родственный порок; так и у каждого наслаждения есть соответствующее с ним бесчестье. Поэтому необходимо отчётливо провести разделяющую их черту, и лучше на целый метр не дойти дальше и остановиться, нежели зайти за черту хоть на миллиметр.
Родители, поощряя капризы детей и балуя их, когда они малы, портят в них природные задатки, а потом удивляются, что вода, источник которой они сами отравили, имеет горький вкус!
Нравы портятся легче, чем исправляются.
И нравственность – это есть наука об отношениях, существующих между людьми, и об обязанностях, вытекающих из этих отношений.
К сожалению, есть люди, которые относятся к нравственности, как некоторые архитекторы к домам: на первый план ставится удобство, а последствия такого удобства не видят.
Между тем, – «без глубокого нравственного чувства человек не может иметь ни любви, ни чести, – ничего, чем человек есть человек», – сказал Белинский.
В науке нет другого способа приобретения, – только в поте лица, трудом; ни прорывы, ни фантазии, ни усилия и стремления «всем сердцем» не заменят труда. Чтобы воспитать нравственность необходим терпеливый труд.
В природе ничто не возникает мгновенно и ничто не появляется на свете в совершенно готовом виде.
«Нравственность либо условна, либо оплачивается на месте» – как сказал Ежи Лец. То есть – какой мы вырастим плод – то и получим!
«Различие между ядами вещественными и умственными в том, что большинство ядов вещественных противны на вкус, яды же умственные, в виде… дурных книг, к несчастью, часто привлекательны».
«Нравственность есть отношение силы разума к силе чувства. Чем сильнее чувство и чем ближе к нему разум, тем больше человек в его человеческом деле. Есть чувства, восполняющие и заменяющие разум, и есть разум, охлаждающий движение чувств».
Наука о нравах всегда менялась. И возникала – Неприязнь, к тому или иному человеческому поступку.
Конец.
Tasuta katkend on lõppenud.