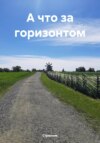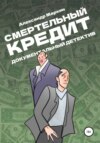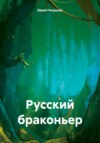Loe raamatut: «А что за горизонтом»
Часть первая. Ржев
Пролог или собираю мысли в кучу
Сколько раз говорил себе: записывай каждую удачную мысль. Хватай карандаш и пиши, не останавливаясь, пока они не разбежались в разные стороны, как клопы. Потом же не соберёшь их в кучу. Время-то не стоит на месте. Что за подлая натура? Во всём виновата лень – вечная спутница жизни.
В голове калейдоскоп событий и воспоминаний всё никак не соберёт их в одну кучу и не расставит по своим местам. А ведь ещё кто-то из великих говорил: родилась мысль – запиши! Пригодится. И вот сижу… Пишу… Но больше просто сижу в ступоре. Казалось бы, что может быть проще, чем писать мемуары. Готовых шаблонов, мало-мальски напоминающих твою биографию, бесконечное множество. По-моему, всё уже тысячу раз написано и миллион раз переписано. Подставляй нужные имена, города, названия улиц, и готово. Можно потом напечатать сей «шедевр» на глянцевой бумаге, чтобы (мало ли кому) в уборной было неуютно, упаковать в красивую обложку, поставить на полку на видное место и гордиться. Или краснеть. Мои дети такое событие наверняка воспримут благосклонно и сдержанно. Внуки, возможно, будут очень рады за возможность окунуться в дедовский исторический экскурс, и, может быть, даже гордиться. Археологи – ржать в голос, когда откопают эту дрянь на свалке. А впрочем…
Итак, я родился!
Рождение. Что это событие значит для того, кто явился на свет? Ни наука, ни религия не дают точного ответа на этот вопрос. Он настолько дискуссионный, что просто нет смысла сколь-нибудь подробно заострять на этом внимание. Разве можно описать момент собственного рождения? Уж простите, мне с трудом верится фантазиям на этот счёт. А если честно, то не верится совсем. В идеале, точнее, в силу моих познаний, наблюдений и опыта обычный среднестатистический младенец рождается полуслепым, полуглухим и вечно сонным. Вот это точно про меня! Да, я – среднестатистический. Да, самый обыкновенный, такой же, как все. Я – идеален!
Гораздо интереснее, когда к человеку приходит сознание. Ощущение самого себя, что вот он я. Как это происходит? Кто включает этот невидимый тумблер? И в какой момент это происходит? Слишком много вопросов? Будет ещё больше. Малыш только родился. Он ещё только пытается разглядеть всё вокруг, а в маленьких глазках уже тысячи вопросов. И их становится только больше. Но вот я уже в том возрасте, когда Чехов дописывал свой последний рассказ, а я лишь делаю первые попытки, пытаясь дотянуться как можно дальше, ухватиться за самое раннее событие, вырвать из памяти самое первое воспоминание… Мамино тепло, мамин взгляд, мамин ласковый голос. Наверное, всё это было, даже скорее всего. Просто в памяти всего этого нет, не сохранилось. Но мне есть с чем сравнить, видя, как тянутся к ней внуки. И всё, что остаётся сейчас, это наблюдать со стороны, всматриваться вдаль событий, открыв старенький альбом с фотографиями и слушать мамины истории.
Вот он, младенец, завёрнутый в конверт – это я. А тот ползёт куда-то по ковру голышом – тоже я. Дядька в пальто и меховой шапке с коляской, в которой, конечно, тоже я. Это была весна 1979 года, поэтому дядька на чёрно-белой фотографии одет так тепло. Дядька этот – мой папа. Он счастлив, ведь его первенец – мальчик. Он мечтал о сыне… А что, если сейчас попробовать покопаться в чулане под названием память? Вырвать по крупицам воспоминания самых ранних лет. Как далеко я сейчас смогу дотянуться?..
Вселенная, отзовись!
Ржев – самое первое, самое яркое воспоминание! Нет, это не уютный ржевский дворик с лавочкой возле подъезда, где есть горка, качели и песочница. Это огромный двор самой длинной панельной пятиэтажки в районе, с длинной очередью на горку, с дракой за качели и с пустой песочницей, потому что самосвалы на верёвочке за смену успевали вывозить весь песок в неизвестном направлении.

Зима 1981 года. Стою возле деревянной лавочки своего подъезда в пальто и меховой шапке и ору на всю вселенную, потому что отморозил пальцы. Но вселенная меня не слышит. Не то, чтобы ей было сейчас не до меня и моих пальцев, просто во дворе такой гул, что, скорей всего, слышу себя только я один. И самое обидное, что это великое событие никак не влияет на происходящее вокруг. Вот армия из четырёх бойцов пытается взять неприступную крепость, забрасывая обороняющихся снежками. Атака благополучно отбита. С каждым новым наступлением крепость становится выше и неприступнее, так как процесс строительства не прекращается ни на секунду. Вот с поля боя за шкирку тащат домой раненого бойца, такого же обмороженного и орущего, как я. Память выдёргивает картинки из детства, первые, обрывочные, меняет события местами во времени, но неизменно возвращает всё в тот же шумный двор. Но, всё-таки, самые первые воспоминания – это, наверное, первые сильные эмоции и не всегда хорошие. Хорошие будут потом. Много хорошего. А пока… Вселенная, отзовись!
Прочь сомнения и здравый смысл!
Снег падает, не переставая, огромными хлопьями. Очень много снега, как будто там высоко на небе кто-то разорвал большую подушку и вытряхнул всё из неё на землю. Белое покрывало укутывает древний город на Волге. Вот она – настоящая русская зима, о которой писали Пушкин и Некрасов. Зима, созданная для самого счастливого детства, для весёлых игр и шалостей. Особенно шалостей. Огромный сугроб возле деревянных сараев никого не мог оставить равнодушным. Вот первый смельчак забирается на крышу сарая, карабкаясь по выступающим доскам, смотрит вниз, оценивает взглядом белый снежный холмик внизу, поворачивается спиной… и летит. Исчезает! И, вдруг, под радостные вопли из сугроба появляется улыбающаяся и сверкающая глазками снежная голова. И никому не могло прийти на ум, какая опасность могла скрываться в том сугробе. Но, прочь сомнения и здравый смысл! Первопроходец остался цел и невредим, и вот уже старый сарай недовольно поскрипывает под ногами весёлой толпы.
Снег по-прежнему валит. Его очень много. Снега хватит на всех. Во дворах растут баррикады и замки, укрытия и берлоги. Снег – идеальный строительный материал. Что за зима без снега! И пока его много, детям и взрослым скучать не придётся. Причём, во всех смыслах. Снегоуборочной технике тоже.
Зимнее детство во Ржеве
Зима во Ржеве словно волшебная фея дарит сказку маленьким восторженным сердцам. Вот самый опытный из взрослых прокладывает лыжню. Следом за ним по готовой лыжне катаются все подряд – и взрослые, и дети. Сходить с лыжни очень тяжело, но каждому хочется непременно проложить свой собственный путь, и вот уже снежный покров превращается в лабиринт. Из сарая папа достаёт длинные широкие доски и сколачивает из них огромную швабру. По крайней мере конструкция очень напоминала большую швабру. И с этим нехитрым прибором, с коньками наперевес, мы шли на болото. Папа расчищал шваброй лёд от снега, чтобы можно было кататься на коньках. Когда Волга достаточно промерзала и лёд становился крепкий, начинался главный аттракцион. С высокого склона на левом берегу на огромной скорости неслись кто на санках, кто на лыжах, кто на фанерке, а кто и вовсе кувырком. Ну и кто не катался на паровозике из саней? Обычно он был не очень длинный, потому что чаще всего катали самых маленьких пассажиров. Тягачом служил чей-нибудь сильный папа, зато с заносами, разворотами и препятствиями в виде сугроба. Детвора была в восторге.
Такое вот оно было зимнее детство. Такими были первые яркие воспоминания о самом любимом и родном, почти никогда не умолкающем дворе лучшего на свете города с таким грозным и рычащим названием – Ржев. Это потом, гораздо позднее, я узнал, что Ржев – старинный город ткачей и ремесленников, город, переживший страшные месяцы оккупации и практически стёртый с лица земли войной. Город, который, несмотря ни на что, выстоял, а из уцелевшей церквушки, едва ли ни единственной сохранившейся постройки в городе, навстречу освободителям вышли немногим более двухсот жителей, оставшихся в живых из пятитысячного населения. Всё перемолола война, сожгла и уничтожила, оставив незаживающие раны в сердцах людей. Слёзы и скорбь.
Ржев – город-памятник на Волге
Но жизнь всё равно сильней. Жизнь прорастает сквозь бетонный гранит, просачивается между камней, тянет свои листочки к свету, копошится в гнёздах, кричит и плачет, поёт и баюкает. Не зря же пел Высоцкий: «Кто сказал, что Земля умерла? Нет! Она затаилась на время.» Затаилась в ожидании и дождалась. Наша земля и больше ничья – до последнего камушка, до последней травинки. Земля, на которой стоит и будет стоять всегда мой родной город. Город Ржев со своими уютными двориками, покосившимися сарайчиками и дворами, подобными моему, который не заканчивался вовсе. Впрочем, начала у него тоже не было. Город с бесконечными панельными многоэтажками, словно его собирали из конструктора. Город с вечно переполненным транспортом. Создавалось впечатление, что городского транспорта было ровно столько, чтобы перевозить определённое количество людей. И откуда берутся остальные люди, и зачем они лезут в переполненный автобус, совершенно непонятно. Город башенных кранов, город железнодорожных путей, заброшенных строек и топких болот. Город-мемориал. Город-памятник.
А посреди всего этого великолепия течёт Волга. Она делит город на две части, соединённые между собой двумя мостами – Старым и Новым. Волга-матушка, Волга-кормилица. Река с характером, вопреки всему несущая свои воды в противоположном направлении, она не впадает в океан, как все реки. У неё истинно русский характер. Волга широкой дельтой впадает в Каспий, оставаясь всегда на материке. Всё, что происходит по обеим её берегам, вот уже многие века мелькает как в калейдоскопе. А движение воды всё так же неспешно и спокойно, время от времени сковываясь льдами. Здесь ранней весной, воскресным вечером, начался мой отсчёт времени.
И снова зима, и снова снег
Первые впечатления и первые эмоции связаны именно с зимой, с зимними приключениями. Это настолько яркие воспоминания, что практически затмевают всё остальное, происходившее в самые ранние годы.
Мама часто рассказывала, как я приходил с прогулки домой весь грязный и мокрый. Снег имеет свойство таять и превращаться в воду, а грязь – становиться жидкой. Меня поднимали на вытянутых руках, подставляли тазик и несли, как награду победителю, в ванную комнату. Там уже начинался ритуал раздевания. Мокрая насквозь одежда отправлялась в стирку, обмороженное радостное тело отогревалось и выслушивало нотации о том, что на улицу сегодня больше не пойдёт. Не выпустить больше гулять с друзьями в то время считалось высшей мерой наказания, поэтому каждый старался без лишней необходимости даже не заглядывать за дверь своей квартиры. А вдруг без меня двор захватят инопланетяне? А может там сейчас начнётся чемпионат, и на воротах стоять некому? Нет, сидеть дома в такой ответственный момент, это всё равно, что быть запертым в Бастилии, и никакой Дюма не сможет описать тех страданий. Но ещё страшней то, что все окна выходили на соседний двор. Тихий, уютный и спокойный, как кладбище.
А жизнь в это время кипит совсем с противоположной стороны, и это обидно вдвойне. План побега придумывать тоже бесполезно, потому что, собственно, и бежать-то было не в чем – вся одежда насквозь промокла. Самое время открыть комод и достать оттуда любимые игрушки, коих было множество. Уж чего-чего, а этого добра было в достатке. Телевизор включался нечасто, так как смотреть в нём было особо не на что. Вечное политбюро изредка прерывалось каким-нибудь балетом. Так что посреди комнаты начинал расти большой игрушечный город. И уже совсем неважно, какая погода за окном, какие баталии происходят во дворе. В моём городе всегда сухо и тепло, ведь он расположился на мягком ковре. Город, построенный собственными руками из игрушек, стульев и подушек. Город, который к ночи исчезает и вновь вырастает как по волшебству, каждый раз причудливо меняя свой облик в зависимости от того, какую часть интерьера получится отбить у родителей.
Но во Ржеве, как и в большинстве городов нашей необъятной родины, была не только зима. Конечно, события, происходившие в первые годы жизни, удобнее всего сравнивать со снежным комом, растущим во временной шкале прожитых лет. Но, всё-таки, случалось и лето, и прочие сезонные изменения.
Кто не ест – не играет в игрушки!
Детский сад, этот оазис посреди серых пятиэтажек, располагался прямо на углу нашего дома. Поэтому особых трудностей, чтобы до него добраться, не возникало, кроме, разве что, самого детского сада, точнее, его дружного коллектива. Наверное, каждый человек в своём нежном возрасте сталкивался с изощрёнными методами наказания в детсадовской группе и своеобразной системой воспитания. Если нет, то вы, скорей всего, в детском саду никогда не были, либо вы жили в эпоху правления царя Гороха.
Тихий час в детском саду. Как можно спать днём? Это я начал понимать только через сорок лет. А в то время, кто не спит – сидит весь тихий час на стуле. Кто не ест – не играет в игрушки. Вместо прогулки можно просидеть всё время в тёмной комнате. Да и сама прогулка порой превращалась в пытку, когда твой родной двор весь перед глазами, как на ладони, а ты стоишь за оградой и смотришь с тоской, как во дворе играют и веселятся твои друзья, которые чуть старше и уже пошли в школу. Их уроки недавно закончились, и они с деловым видом проходят мимо ограды детского сада и издевательски изображают сочувственный вид.
Ясельная группа ничем особенным-то и не запомнилась, кроме того, что мы дружно сидели на горшках и обсуждали что-то очень важное. В более зрелые детсадовские годы жизнь была уже более насыщенной. Говорят, что дети очень жестоки по своей наивности, потому что не чувствуют ответственности. Чепуха всё это. Мы были самыми настоящими естествоиспытателями, первооткрывателями и нервомотателями, лишёнными страха и всякого здравого смысла. Я уже сказал, что коллектив в нашем саду был особенный, если не сказать странный. Имея ввиду воспитателей. Иначе как ещё объяснить события, которые я опишу ниже?
Недетские игры в детском саду
Во дворе детского сада росли огромные деревья. И деревья были большими не потому, что дети были маленькими. А это действительно росли гиганты с громадными ветвями. Кажется, это были липы, если память у меня не совсем липовая. Так вот, на ветви этих самых лип часто прилетали голуби. Ну прилетали и прилетали. Нам же это не давало покоя. Вот несколько оболтусов хватают камни и швыряют вверх, пытаясь попасть по голубям. Некоторым это, конечно, удаётся. Подбитые, но ещё живые птицы, само собой летать уже не могут. Они просто ходят по земле и даже не пытаются махать крыльями. В это время заботливые детские ручки хватают голубей и подбрасывают вверх. Смотрят, чья птица взлетит выше. И эта «весёлая игра» могла продолжаться всю прогулку. Но больше всего доставалось паукам и лягушкам. А уж эти увлекательные эксперименты я описывать не буду. Назвать это жестокостью язык не поворачивается. Наивность и детская непосредственность? Возможно. А ещё, скорей всего – вседозволенность и отсутствие контроля. Если не запрещено – значит разрешено. Воспитатель в это время совершенно безучастно сидит на лавочке, ну а дети как могут познают мир.
Я понимаю и тогда знал, что Ржев – это город, в котором война оставила свой неизгладимый след. Памятники героям и военной технике в городе тому подтверждение. Но как во дворе детского сада могла очутиться настоящая граната, для меня до сих пор загадка. Гадать можно бесконечно. Она была круглая, шипастая и ржавая. Перепутать с какой-нибудь деталью от трактора очень сложно. Может быть, это и была запчасть. Во всяком случае, мы твёрдо верили, что это настоящая боевая граната времён войны. Что сделает нормальный человек, обнаружив такой подарок судьбы? Правильно: он не то что прикасаться не будет, даже близко не подойдёт. Вертеть в руках ржавую гранату – не лучший способ увидеться с далёкими предками. Что сделали мы? Конечно же, решили проверить её работоспособность, а заодно посмотреть, что у неё внутри. И не нашли ничего лучшего, как попытаться разбить гранату о камень. Судя по тому, что я сижу и пишу эти строки, у нас ничего не получилось. Ну, или как минимум, не было ожидаемого результата.
Сопящие деревья и хихикающие кусты
А что же девочки? Любимым занятием девочек всегда, или почти всегда, была игра в дочки-матери. Мальчики старались в это время не попадаться девочкам на глаза и всячески обходили стороной подобные мероприятия. Игра представляла собой уменьшенную копию взрослой жизни. Девочки, повинуясь инстинкту материнскому и хранительниц домашнего очага, устраивали семейные жилища в густых зарослях кустарников, между турниками и лесенками, в общем, в любом укромном месте. Жилища заполнялись мебелью, кухонной утварью, предметами быта. Так создавался домашний уют. А дальше начиналось самое интересное – создание семьи. Мало кто из мальчишек добровольно соглашался на время стать мужем, отцом или младенцем. Участвовать в семейных интригах, добывать пропитание, изображать безнадёжно больного, которого обязательно вылечат листиком подорожника и градусником из палки. Но девочкам обязательно нужна была полноценная семья, так что мальчишки уговорами и разными хитростями так или иначе включались в игру.
Вообще, первый опыт взаимоотношения с противоположным полом составляет весьма забавную картину. Девочку, которая нравилась, надо было обязательно дразнить, всячески обзывать, дёргать и задевать. Практически доводить до истерики. Этакий способ привлечь к себе внимание. И потом обижаться, что девчонки ябедничают, показывают на тебя пальцем и корчат рожицы. Как-то сразу вспоминается тот анекдот: «Почему все красивые девушки такие дуры? Потому что в детстве часто получали чем-нибудь тяжёлым по голове». Тут надо сразу оговориться, что моё отношение к девочкам было совсем иным. И это связано даже не столько с воспитанием, а скорей в силу природного характера. Да, мне был интересен этот девчачий мир, эта бесконечная возня с куклами, обсуждение бытовых игрушечных проблем. Я всегда понимал, что девочки другие, но никогда не опускался до чего-то такого, о чём потом даже самому себе было бы стыдно признаться. И дальнейшая жизнь тому доказательство.
Как бы там ни было, мы весело проводили время с девочками. Лазили по деревьям, играли в догонялки, одинаково краснели, услышав дразнилку о женихе и невесте. И могли бесконечно болтать обо всём на свете. А ещё девчонки обожали игру в прятки. Пожалуй, больше, чем кукол, они любили прятаться. При этом найти надо было обязательно всех, иначе можно было получить обиженный испепеляющий взгляд. Благо, поиски были не особо затруднены. Проказниц каждый раз выдавал хихикающий куст или сопящее дерево. И вот уже надо изо всех сил бежать наперегонки к заветной двери, чтобы застукать находку. Вряд ли нужно объяснять правила игры в прятки, но, на всякий случай, напомню. Водящий поворачивается лицом к двери подъезда, закрывает глаза и начинает бубнить считалочку. Два или три раза получает дверью по лбу от тех, кто пытается выйти на улицу со словами: «Нашли место!» Потом громко кричит: «Я иду искать!!!» так, чтобы было слышно на другом конце города. И начинаются поиски с тяжёлым чувством, что ты не можешь в этот момент раздвоиться, а лучше, растрои́ться, чтобы искать во всех направлениях сразу. Обнаруженную добычу нужно тут же застукать и добежать до подъезда обязательно первым, чтобы в следующем раунде опять не бодаться с дверью. Тем, кто спрятался, но забыл, что находится в игре, нужно об этом напомнить. А тех, кто, вдруг, играть расхотел – снова уговорить.
Поход на Волгу и другие экстримы
Прятки, догонялки, чердаки, подвалы, заброшенные дома и сараи. Настоящий паровоз за забором кирпичного завода и лабиринт из бетонных блоков. Вопли сторожа. Разве можно себе представить лучшее детство? Конечно, нет. Мы уходили тайком от родителей гулять на болота. Прыгали с кочки на кочку, даже не подозревая, что оступиться могло стоить очень дорого. Но жажда приключений всегда брала верх над страхом скрыться в трясине.
Однако самым опасным приключением считался поход на Волгу. Быстрое течение с множеством омутов и водоворотов зачастую не оставляло шансов даже самому опытному пловцу, не говоря уже о юных «героях», как мы. Помню байки о тех, кто пробовал переплыть реку и кому было не суждено помахать ручкой с противоположного берега. Мы, детвора, конечно же понимали, что это были не просто страшилки от взрослых. Это были предостережения об опасности. Река коварна. Мама часто давала наказ, чтобы я не гулял за пределами двора, особенно, не ходил на реку и находился в поле её зрения, но при этом уходила заниматься домашними делами. Мне становилось интересно, как она тогда собирается за мной наблюдать. А вечером с Волги, конвоируемый отцом, я понурый брёл домой, подгоняемый хворостиной.
Родители очень сильно переживали за нас. Оно и понятно. Опасностей кругом было великое множество. Быстрое течение реки Волги с одной стороны, с другой – болота, которые начинались сразу за кирпичным заводом. Заброшенный двухэтажный квартирный дом в соседнем дворе, который и по сей день там стоит и наводит ужас одним своим видом. Зато ключи от квартиры у многих лежали под ковриком перед входной дверью, либо дверь вовсе не запиралась. И это было абсолютно нормально. Зачем носить ключ с собой, если его можно потерять. А вдруг чадо прибежит с прогулки по каким-нибудь срочным делам, а мама, как всегда, ушла к соседке на минуточку и задержалась часа на два. Ещё незапертую дверь можно было открыть и покричать внутрь, чтобы не отрывать хозяина от насущных дел. Звонок был для чужих. Звонок нёс мало информации, а вот зычный голос соседки мог одновременно рассказать кучу новостей и спросить какой-нибудь рецепт. Детвора часто была накормлена чьей-нибудь заботливой мамой только потому, что просто попадались под руку, играя у кого-нибудь в гостях. Кто-то и просто мог засидеться допоздна в гостях у друга и уснуть. Наш дом напоминал мне старые добрые анекдоты про одесский дворик. Мы были одной большой семьёй.
Как пахнут сыроежки!
К великому сожалению, я никогда не вёл дневников. Даже малюсеньких записей не осталось. Если я о чём-то и жалею в своей жизни, то только об этом. Даже пара словечек могла бы дать очень хорошую зацепку, чтобы вспомнить и рассказать какое-нибудь забытое приключение. Много ещё чего интересного происходило на Волге. Возможно, я ещё вернусь к ней. Но нельзя не упомянуть наши семейные поездки в лес в окрестностях Ржева по грибы, по ягоды. Разве бумага сможет передать ароматы земляники с черникой? А как пахнут сыроежки! Нет, бумага пахнет бумагой, а электронные буквы и вовсе не имеют запаха. На стареньком «Москвиче», гружённом корзинами, вёдрами и тазами, наш путь лежал в сторону Титова Бора. Это живописное место находится недалеко от города. Густой сосновый лес с могучими деревьями. Сосны там настолько велики, что даже не видно макушек.
Моя основная задача была – не уходить далеко, чтобы не заблудиться и не вытаптывать всё вокруг, чтобы было что собирать. Если с ягодами было всё просто – их достаточно найти, то для грибов, по понятным причинам, у меня была своя отдельная корзина.
Сейчас настало время описать всю красоту соснового бора, но это не так просто по прошествии стольких лет. Нужно опять из памяти по крупицам выдёргивать какие-нибудь самые яркие моменты. Пожалуй, самый запоминающийся момент – это тишина, сосны и пение кукушки, если это вообще можно назвать песней. Да, лес для меня всегда ассоциировался с кукушкой. Если я слышу кукушку, значит, я в лесу. Шумят ли сосны? Я такого не помню. Шуршит листва под ногами и поганки, которые я сбиваю палкой. И вечное «ку-ку». Вот и все звуки природы. Не очень-то поэтично, зато от всей души.

А вечером, само собой, начинался извечный ритуал: собранный урожай надо было срочно переработать. В ванной комнате и на кухне развешивались гирлянды из грибов. Черника и земляника превращались в компот и варенье. Запах стоял по всей квартире, выходил на площадку и бродил по этажам. Как раз в то время и родилась притча:
– Мама, когда мы откроем варенье?
– Как выпадет первый снег, тогда и откроем. Это же заготовки на зиму?
Наступали холода, и я каждый день выглядывал в окно, не пошёл ли снег. Ну хоть одна снежинка. И когда утром после первых заморозков появлялся иней, я радостно кричал:
– Давай открывать варенье! Снег пошёл!
Так начинался процесс поедания зимних запасов. Разве можно было устоять под напором таких веских аргументов? Конечно, нет. Снег есть? Открывай, мама, варенье.
На деревню к бабушкам!
А потом неизменно приходило лето – пора отпусков. Лето – это маленькая жизнь. Для меня выражение «уехать на деревню к бабушке» имело особый смысл и как само собой разумеющееся. Бабушки должны жить где-то далеко и непременно в сельской местности. Примерно так оно всё и было. Поездом мы добирались до Москвы и оттуда самолётом летели в Ставрополь – ворота Кавказа. Тёплый и гостеприимный край, где меня ждала не одна, а целых три бабушки. Точнее две бабушки и прабабушка. Самолёт вылетал обычно из Внуково. И я был уверен, что аэропорт так назвали, потому что из Внуково все дети летят к своим бабушкам и дедушкам. Для этого и существует этот аэропорт. Все бабушки ждут своих внуков из Внуково.
Негритянский загар и тёплый летний снег
Москва. Стоит ли описывать этот прекрасный город? Ну конечно же, стоит! Красная площадь, Арбат, ВДНХ, Пушкинская площадь – это всё то, чего я так и не увидел тогда, потому что в то время, да и сейчас, Москва для путешественника – это большой перевалочный пункт. Люди, курсируя по стране, в основном видели вокзалы и аэропорты. Это уже потом, гораздо позднее, мы с женой организовали себе тур по Москве. Утренний кофе на Старом Арбате, белые лебеди и поющий фонтан в Царицыне, подземная жизнь метрополитена и бесконечная суета широких проспектов и площадей. Всё это было потом, а пока самолёт, разгоняясь и покачивая крыльями, мчался по взлётной полосе и, отрывая колёса от земли, стремительно набирал высоту, унося любимого внука из Внуково в «Бабушкино».
У любой нормальной советской семьи многочисленная родня была разбросана по всей нашей необъятной родине. Моя семья не является исключением. Основной её костяк проживает на ставропольской земле. Сюда когда-то, в поисках лучшей жизни, приехали мои дедушки и бабушки с семьями. Здесь познакомились мои родители. Сюда было суждено приехать и мне – жить, работать, создавать семью. Тощий, как трёхколёсный велосипед, с почти прозрачной синюшной кожей и торчащими рёбрами, я за летние месяцы, проведённые у бабушек, приобретал здоровый румянец, почти негритянский загар и целую уйму впечатлений.
Пожалуй, самое большое и яркое впечатление в то время моего пребывания у бабушек оставили тополя, как бы странно это ни звучало. Тополиный пух на время становился самым настоящим украшением улиц. Тёплый летний снег сбивался в целые сугробы. Он падал на землю и снова поднимался в воздух, кружился и падал. И никому тогда в голову не приходило, что эта красота ещё и горит красиво, если поджечь. И слава богу.
Выбираю сестричку
Летние денёчки таяли быстро. Нужно было возвращаться. Снова поезда, самолёты, вокзалы и аэропорты. Поезд Москва – Рига, который и по сей день останавливается во Ржеве глубокой ночью. Снова детский сад с его вечным распорядком дня и поломанным печеньем на завтрак. И попробуй докажи ребёнку, что его печенье никто не грыз, а оно само поломалось. Опять этот скучный послеобеденный тихий час, в один из которых я до смерти напугал воспитателей своим загаром. Посреди белых простыней и не менее белых одногруппников, я лежал словно обугленная головёшка. Воспитатель так и сказала – кто привёл в сад негритёнка?
Но что-то происходило ещё. Что-то, что вот-вот должно было нарушить привычный порядок вещей. То, что должно было навсегда изменить мою жизнь.
В один прекрасный день мама, проявляя чудеса дипломатии и загадочно улыбаясь, задала вопрос, который прозвучал словно гром среди ясного неба, – кого бы мне хотелось, братика или сестричку? Я бы, наверное, ответил, что мне хотелось радиоуправляемый вертолёт, если бы он существовал в то время. Поэтому честно ответил, что сестричку. И мама, само собой, сдержала своё слово. Хорошо, что я не попросил сразу двойню или тройню. Мало ли чем бы это обернулось. Нет, я ничуть не против братьев и сестёр. Ведь само слово «семья» стремится к большому количеству сородичей. Мне просто хочется сказать спасибо тем мудрым родителям, которые умеют подготовить старших детей к пополнению в семье, находят правильные слова для этого, а не просто ставят перед фактом.
Главное – правильная постановка вопроса. Вот, если бы у меня спросили, хочу ли я в принципе, чтобы у меня родился братик или сестричка, то я бы уверенно сказал «нет». А так надо скорей выбирать, пока ещё что-нибудь не придумали.
Летающая колбаска в обмен на имя
Сестра родилась в январе, когда термометр показывал минус 44. Очень изысканный способ сразу показать свой характер. Была жуткая метель или пурга, или всё сразу. В общем, холод был собачий. Мы с папой короткими перебежками, согреваясь в магазинчиках и подъездах жилых домов, спешили в роддом. Папа нёс копчёную колбасу, хлеб, кефир, что-то ещё. В общем всё самое необходимое для первых дней новорождённой. Самое главное, по дороге мы придумывали какое дать имя новому члену семьи. Папе нравилось имя Вика, Виктория. Может потому, что он сам был Виктор. Виктория Викторовна звучало бы очень даже солидно. Мне же почему-то хотелось назвать сестру Мариной. В итоге на том и порешали, назвав девочку Катей. Кто решил назвать Катю Катей, споры не утихают по сей день. Катя у меня как-то спросила:
– Ты другого имени не мог что-ли придумать?
– А как бы ты хотела, чтобы тебя звали? – говорю.
– Ну я не знаю.
– А хотела бы быть Викой или Мариной?
– Фу!
И вот этот ответ длиной в две буквы был более чем красноречивым. А наше короткое свидание с мамой под окнами палаты в роддоме закончилось тем, что в окно влетело имя Катя, а из окна вылетели колбаса и прочие бесполезные продукты.
Девчоночий мир – особенный
Я как-то быстро привык к новому положению вещей, кроме, конечно, отдельных случаев. Например, трудно привыкнуть к тому, что тебя могут без предупреждения совершенно неожиданно огреть по голове трёхлитровой банкой, пусть и пустой, или железным игрушечным пистолетом. Я очень старался верить, что это делалось неосознанно, что ребёнок ещё маленький и ничего не понимает. Но от этого синяки не становились менее синими, а шишки менее высокими. А ещё появились определённые обязанности. Куда ж без них на правах старшего брата? Это вечное: посиди с Катей, поиграй, возьми с собой на прогулку, просто присмотри, чтобы никуда не залезла. Хотел бы я всё вернуть назад, когда был единственным ребёнком? Когда всё внимание было моим, и всё крутилось вокруг меня одного? Да ни за что на свете! Я и сейчас начинаю скучать, когда мы подолгу не видимся и не созваниваемся.